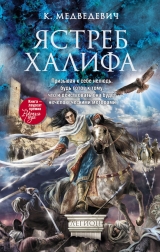
Текст книги "Ястреб халифа "
Автор книги: Ксения Медведевич
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Между тем женщина ответила:
– Твое войско идет в землю, к властителям которой у меня есть счеты и незаконченное дело. Они схватили моего супруга и хотят предать его смерти на потеху человеческой толпе.
– Что делает сумеречник из Ауранна в земле аш-Шарийа, что его хватают и тащат на казнь? – осведомился Тарег.
– Мой супруг – не аураннец, – снова усмехнулась женщина. – И он не из Сумерек. Мой муж – человек. Его имя – Кассим аль-Джунайд.
– О, – сумел выговорить в ответ Тарег.
И, быстро овладев собой, спросил:
– Что может грозить одному из Бени Умейя в земле ар-Русафа? Чем он провинился перед своими сородичами?
И женщина вздохнула и ответила:
– Многим, мой князь. Тебе будет приятно узнать, что Джунайд оказался в числе тех, кто отказался поддержать мятеж против халифа Аммара.
– Это воистину приятные новости, – медленно кивнул Тарег.
– Ну а ко всему прочему, Джунайд нарушил заповедь, взяв в жены женщину из Сумерек. Кади отказался сделать запись о нашем браке и позвал законника. Тот пригрозил, что Джунайда изгонят из общины верующих и провозгласят отступником. Мой муж ответил, что скорее готов отказаться от посещения масджид и пятничной проповеди, чем от меня. С тех пор для законников он грешник, отступивший от истинной веры.
– Твой супруг поступил очень достойно и заслуживает всяческого уважения. Но я подозреваю, что благочестивые приверженцы учения Али ему этого не простили.
Голос нерегиля сочился ядом и ненавистью к людям. Женщина вскинула на него благодарный взгляд. С горечью и печалью в голосе она продолжила:
– Они заманили его в ловушку, схватили, заковали и теперь везут в Куртубу. Сейчас они в двух днях пути от города. По закону его заключат в городскую тюрьму и дадут три дня на размышление. Если по прошествии третьего дня он не откажется от… меня, его отведут на площадь и четвертуют на помосте. Если ты не придешь мне на помощь, о благородный воин, наутро пятого дня я стану вдовой.
И она сложила ладони перед грудью, опустилась на колени у копыт Тарегова коня и проговорила с испепеляющей, острой, как стрела, ненавистью:
– Помоги мне, о нерегиль. Избавь его от рук невежественных, полоумных, возомнивших о себе невесть что ублюдков творения, ненавидящих все живое и прекрасное. Помоги мне сделать так, чтобы они запомнили утро пятого дня как утро потоков крови!
Лагерь войск халифа у стен Альмерийа, три дня спустя
– …Что значит – оставил командующим Мубарака аль-Валида и ускакал?
Военачальники разводили руками. Аммар, конечно, получил известие об этой выходке самийа еще на подходе к городу, но вчуже продолжал надеяться, что это лишь слухи для обмана вражеских лазутчиков. Но нет, оказалось, что осведомители ибн Худайра говорили истинную правду: Тарик оставил вверенное ему войско на военачальника из Аммаровых вольноотпущенников и умчался иблис его знает куда – причем в сопровождении невесть откуда взявшегося отряда воинов-сумеречников. Впрочем, каких воинов – половину этого насвистанного шайтаном сборища неверных составляли бабы. Да, верхами и при аураннских коротких мечах-тикка –кстати, страшных в ближнем бою, если сражающийся знал, как с тиккауправляться, – но все равно бабы!
Да, Тарик оставил распоряжения для осады. Более того, он оставил для Аммара аж целое письмо с объяснениями, извинениями и нижайшими заверениями в преданности. Все как всегда: «Отверг он слова мои, внял он хуле, // Меня уличил в несодеянном зле; // Неужто он тучей свой лик омрачит // И скроется месяц на хмуром челе?» [29]29
Согласно ибн аль-Аббару, эти стихи произнес Ибрахим ибн аль-Аббас перед лицом халифа аль-Хакама и тем спас свою жизнь.
[Закрыть]– да-да, нерегиль не отказал себе в удовольствии поиздеваться и в стихах тоже. Но как бы то ни было: проваливаться сквозь землю с этим шайтан-харимом он не имел никакого права!
Но и это было не все.
Отпустив военачальников готовиться к осаде – стены Альмерийа могли внушить уважение любому камнемету, – Аммар уединился с начальником тайной стражи. Исхак ибн Худайр просмотрел оставленное нерегилем письмо и заметил:
– О мой повелитель! Его план не так уж и плох, как я погляжу.
– Ты безумен, Исхак. Вы с самийа в последнее время слишком сдружились – и он тебя заразил. Теперь ты тоже болен на голову.
Аммар даже не сердился – для этого он слишком устал. Спорить тут было воистину не о чем: в письме Тарик уведомлял своего повелителя, что через пять дней от времени написания сего письма он со своим отрядом в двадцать мечей и десять воинов собирается взять Куртубу и держать ее до подхода войск халифа. Поэтому нерегиль нижайше просил своего повелителя оставить у стен Альмерийа десять тысяч войска для осады, а с остальными пятью спешить, «не останавливаясь и не размениваясь на мелкие крепости», к самому крупному городу Бени Умейя. Тарик обещал продержаться по крайней мере ночь – до утра шестого дня.
Пять фарсахов до Куртубы – что ж, в этом ничего невозможного не было, ашшаритская конница от века ходила в сквозные рейды и проходила через вражескую землю, как нож сквозь растопленный бараний жир. Но как нерегиль, да помилует его неверную безумную голову Всевышний, собирался брать город с помощью десятка баб? Выпустить их танцевать под стены с открытыми лицами?!
Меж тем ибн Худайр покашлял в кулак и широко улыбнулся:
– Дошло до меня, о халиф, нечто, могущее прояснить нам ночь неизвестности над планами Тарика.
– И что же это такое? – мрачно поинтересовался Аммар.
– У меня есть сведения, что нерегиль отправился в Куртубу спасать Джунайда.
Аммар ахнул, не веря своим ушам. Ибн Худайр лукаво усмехнулся и продолжил:
– Причем отправился в сопровождении Джунайдовой супруги, княгини Тамийа-химэ. Видимо, жизнь хозяина замка Сов почему-то оказалась дорога холодному нерегильскому сердцу.
– Благородный воин пришел на помощь слабой женщине – какой изящный ход, – покачал головой Аммар, все еще пытаясь переварить сказанное вазиром.
Не то чтобы это меняло дело – скорее, это многое проясняло.
Женитьба Джунайда давно стала легендой. Десять лет назад на границе с Ауранном вновь начались стычки, и в обе стороны через ничейные земли поскакали конные отряды. Всевышний в мудрости своей устроил так, что нечестивые сумеречники могли вторгаться на земли ашшаритов лишь через долину Диялы. Далее к западу рубежи халифата защищала пустыня, проходимая лишь в зимние месяцы – и то с риском попасть в хамсин и навеки остаться в черных песчаных дюнах. Когда сумеречники напали, изо всех пределов халифата в долину Диялы поспешили воины веры: долг священной войны звал их туда, где раздавался плач ашшаритов. Кассим аль-Джунайд, отпрыск знатного рода, ведущего происхождение от Умейяда, отправился на границу с Ауранном разить убийц и грабителей – и, как и пристало воину веры, принять венец мученика в очередном жестоком бою. Судьба распорядилась так, что Джунайд не погиб, а попал в плен. Рассказывали, что его отвели к одной из княгинь нечестивых аураннцев, колдунье и ненавистнице человеческого рода. Эта женщина брала к себе на ложе смертных юношей из числа пленников – и выпивала их жизненные силы, оставляя под пологом иссохшие, обезображенные тела несчастных. Впрочем, рассказывали и по-другому: нечестивая аураннка приказывала вырывать у своих возлюбленных сердце и съедала его на завтрак после ночи утех. Так или иначе, но дни Джунайда были сочтены. Однако случилось так, что пленник сам пленил свою госпожу, и женщина Сумерек не сумела убить его – ибо полюбила. И она дала Джунайду волшебный напиток, дарующий нескончаемые годы жизни и молодости, и отреклась от дела мести людям. За это ее изгнали из земель Ауранна, и так они с Джунайдом оказались в ар-Русафа.
В родовом замке Кассима супруги появились восемь лет назад. Люди, видевшие хозяина замка Сов после возвращения из Сумерек, божились, что Джунайд выглядит как девятнадцатилетний юноша – и с каждым годом становится все более похожим на самийа, теряя человеческий облик.
О странной паре ходили слухи, многие из которых не хотелось пересказывать – на Страшном суде Всевышний строго спросит с клеветников, но одно было известно точно: у законников на Джунайда наточен огромный зуб. Его обвиняли в вероотступничестве за сожительство с сумеречницей – а Кассим схватился со своими противниками в споре прямо в михрабе Пятничной масджид Куртубы, да так ловко высмеял их доводы, что почтенным старцам пришлось удалиться, бормоча проклятия себе в бороды. Аммар читал запись этой великолепной, поражающей разум беседы – аль-Джунайд проявил себя истинным знатоком предания и поистине доказал, что хадисы, на которые опираются его противники, – слабые и к тому же не относятся к его случаю. Ведь он не оставляет истинной веры и воспитывает в ней детей, его душе и телу ничего не грозит, и у него нет и не будет других жен и детей. Тем не менее верховный муфтий ар-Русафа издал фетву, объявляющую Джунайда еретиком, и запретил ему входить в масджид края и слушать пятничную проповедь. Но еще через год суфии ордена Халветийа провозгласили Джунайда шейхом, его стихи о любви к Всевышнему распространились в списках среди верных, и к замку Сов стали приходить люди и дервиши, прося совета и наставления. А по всем землям аш-Шарийа разошлось присловье: «Если бы разум был человеком, он бы принял образ Джунайда». А феллахи, населявшие родовые земли Кассима, благословляли год рождения, день рождения и час рождения своего господина, ибо луна не видела более справедливого и милостивого правителя, земли в вотчине аль-Джунайда плодоносили, а животные умножались и не испытывали недостатка в корме.
За все это Кассиму аль-Джунайду выпало поплатиться. Когда глава Умейядов объявил сбор воинов, Джунайд отказался покидать родовые земли. Тогда луну назад Абд-аль-Вахид прислал ему личное приглашение для беседы и к нему приложил охранную грамоту, запечатанную личной печатью. Но стоило Джунайду две недели назад появиться в условленном месте, как его схватили, заковали и на верблюде отправили в Куртубу – пустив вперед глашатая, разъясняющего добрым ашшаритам, какого преступника везут на суд. Аммару было жаль Джунайда, но, положа руку на сердце, он на месте Абд-аль-Вахида поступил бы так же: когда враг наступает, у тебя за спиной не должны оставаться предатели и ослушники.
Однако, как видно, Всевышний не отнял своей руки от умной головы Кассима – и теперь ему на помощь летели защитники. Как нерегиль собирался отбить Джунайда, да еще и овладеть столицей Умейядов, оставалось покрыто мраком тайны. Но Аммару было интересно: если замысел Тарика осуществится, как законники объяснят сей головоломный казус – праведного шейха суфиев спасли от рук лицемеров неверные язычники и повелитель верующих.
От души расхохотавшись над этой мыслью, Аммар отдал приказ готовиться к рейду на Куртубу.
Еще день спустя
Над городским холмом садилось солнце – по небу разлилось мягкое желто-апельсиновое сияние.
С возвышения открывался прекрасный вид на аль-кассабу Куртубы – на все три стены города, запирающие пути в кварталы предместья, медины [30]30
Медина– окруженный стеной и ближайший к цитадели квартал города.
[Закрыть]и Верхнего двора. Мощные прямоугольные выступы башен, казалось, заливала горячая медь. Над тяжелым поясом третьей городской стены чернели в закатном небе треугольная крыша и узкие выступы балконов Факельной башни – в ней находились покои главы рода Умейя. И конечно, даже отсюда, из далекого предместья, глаз ясно различал гордый очерк высоченной прямоугольной башни минарета – и далеко отнесенную от него громаду купола Пятничной мечети. Ее обширный четырехугольник скрывали стены и плоские крыши крепостных башен, но даже издалека, даже скрытое от глаза, здание намекало на свой невообразимый размер – минарет и купол разделяло приличное расстояние. Неудивительно: длина стены масджид, говорили люди, равнялась ста пятидесяти локтям. [31]31
Около семидесяти пяти метров.
[Закрыть]
Нижний пояс укреплений выдвигал в сады предместий тяжелые кубы опорных башен. К ним примыкали башенки повыше и постройнее, увенчанные треугольными крышами. В них глаз мог различить черные узкие прорези – ворота Куртубы не отличались шириной. Рассказывали, что навьюченный верблюд может пройти лишь в пять из восьми ворот города. Ну а в Верхний двор и подавно не вел ни один проход нужной ширины и высоты, так что купцам приходилось развьючивать верблюдов в караван-сараях в предместье и везти товары во дворцы верхних кварталов на ишаках и мулах.
Воистину тот, кто озаботился устройством кладбища на этом пологом, поросшем кипарисами склоне, тоже был очарован открывающимся с холма видом. Впрочем, к закату кладбище опустело: среди покосившихся и стоявших прямо тесаных камней, отмечающих могилы, не видать было ни души. Сторож ушел в свой домик у кладбищенской стены и развел огонь в очаге – над серой глинобитной стеной уже поднимался дымок.
А на кладбище стремительно опускалась ночь. Длинные тени кипарисов сливались с темнотой в ложбинах между могилами, и только белые камни надгробий и обветренные стены мазаров с повыбитой непогодой резьбой светлели в сумерках.
Когда темнота окончательно затопила склон холма и единственными огнями на курухи [32]32
Курух– около 2 километров.
[Закрыть]и курухи вокруг остались лишь точки желтого света на холме Куртубы, – смотрители уже зажгли фонари и лампы на улицах – от стены низенького мазара отделилось несколько теней. Еще пара поднялась из чернильной тьмы под кипарисовой аллеей. И потом кто-то отворил скрипучую деревянную дверь ушедшего в землю заброшенного склепа – и тоже вышел наружу.
И тут на тропинке, идущей от нижних ворот кладбища, послышались шаркающие шаги. Кто-то поднимался по склону между могильных памятников, постукивая дорожным посохом о камни и напевая:
Я обратился к ветру: «Почему ты служишь Дауду?»
Он сказал: «Потому что имя Али
Выгравировано на его печати».
«Клянусь солнцем» – такова история лица Али;
«Клянусь ночью» – такова метафора волос Али.
По тропинке между могилами шел человек в остроконечном колпаке верблюжьей шерсти – и даже в темноте ночи белел платок, обвязанный вокруг этой шапки. У пояса человека болтались, стукаясь боками и позванивая, медные чашка и кувшин для омовения. А за спиной он нес сумку, из которой торчал свернутый молитвенный коврик. Конечно, это был странствующий дервиш.
Из-за ближайшей колонны-памятника поднялась высокая тень – и заступила дорогу дервишу:
– Кого это несет на честное кладбище с дурацкими попевками?
А тот сложил ладони у груди и склонился в низком поклоне:
– Приветствую тебя, о князь Сумерек. Да продлит Всевышний твою жизнь на тысячи и тысячи лет!
– Какой я тебе князь Сумерек, о дервиш? Лесть не к лицу суфию! – фыркнула тень в ответ.
Дервиш скорбно вздохнул:
– Приходится работать день и ночь, чтобы вспахать и очистить поле души.
– Начина-ается, – сердито протянула тень. – Сейчас мы услышим много белиберды, перемежаемой бесконечными упоминаниями Имени. Поистине вы, смертные, отвратительны. Как у вас языки не отсыхают – а они метут у вас, как поганые метлы.
– Покаяние – это странная лошадь: она допрыгивает до небес одним движением с самого низкого места, – смиренно ответил дервиш и снова поклонился.
– Еще один бейт с плохой рифмой – получишь копьем в грудь, – мрачно предупредил дервиша Тарик – ибо это был конечно же он.
И рявкнул:
– Ну-ка говори враз, что те надо!
– О князь Сумерек, ты почувствовал самую сердцевину моих мыслей…
Нерегиль зашипел от злости, и дервиш вздохнул и сказал:
– О Тарик! Я хочу предложить тебе и твоим спутникам помощь!
– Как ты узнал о нас, почтеннейший?
Голос женщины звучал мягко и успокаивающе. Дервиш поклонился выросшей рядом с Тариком второй тени, от которой исходил аромат амбры и слышался тихий шелест шелков. Нерегиль вдруг вскинул левую руку, выставив вперед ладонь:
– Назад!
– Отойди, Майеса, – тем же мягким голосом приказала женщина.
Дервиш не обернулся. А если бы обернулся, то увидел бы, как втягивает длинные изогнутые когти стоявшая за его спиной девушка. Через мгновение ноготки на тонкой белой ручке приняли обычный вид, и девушка убрала ладошку от шеи дервиша.
– Некоторые из моих спутников очень нетерпеливы. И тоже не любят поэзию суфиев, – мрачно заметил Тарик. И не менее мрачно добавил: – Тебе был задан вопрос, человек. Повторить?..
– Не надо беспокоиться, сейид, – поклонился дервиш. – Благородный Кассим аль-Джунайд обзавелся множеством врагов – но и множеством друзей. У него много преданных муридов [33]33
Мурид– ученик, послушник в суфийском ордене.
[Закрыть], знающих, как пользоваться талисманами и зеркалом воды. Госпожа горит мстительной яростью, огонь ее гнева виден издалека.
– Покажи, – спокойно сказала женщина.
И протянула тонкую белую руку. Дервиш покопался за пазухой и вложил в светящуюся лодочку ее ладони одинокую некрупную жемчужину.
– Прости своего супруга, о госпожа, – вздохнул дервиш и поклонился – в который раз. – Но шейх предчувствовал неладное и, прежде чем отправиться на встречу с Бени Умейя, распустил твое ожерелье. Мне досталась эта жемчужина.
Ладошка женщины задрожала. Тамийа-химэ благословляла ночной мрак – потому что по ее щекам неудержимо покатились слезы. А дервиш взял ладонь женщины в свою – грубую и мозолистую – и сомкнул пальцы над жемчужиной.
– В Куртубу ведут восемь ворот, и над каждыми – печать Али. Господин и госпожа, конечно, найдут способ проскользнуть под защитной надписью, но площадь Правосудия находится в верхнем городе, перед дворцом, за восьмыми воротами. Нам хорошо бы на ней появиться к третьему призыву на молитву. Завтра пятница, но эти грешники отказались соблюсти праздничный день и выказать милосердие.
– Почему ты нам помогаешь? – резко спросил Тарик.
– Аль-Джунайд – мой шейх. Я обязан ему послушанием.
– Почему ты нам помогаешь? – В голосе нерегиля зазвучала угроза.
– Шейх многому научил меня – и научит еще большему, если не погибнет от руки палача.
– Почему ты нам помогаешь? – Тарик положил руку на рукоять меча.
Дервиш покачал головой:
– Я же сказал. Они – грешники.
Женщина тихо выдохнула и чуть наклонилась вперед.
– Они – грешники, – мрачно повторил дервиш. – Грешники и потомки грешников. И убийц. Пока пролитая ими кровь вопиет к небесам, ар-Русафа будет заливаться кровью.
– Так ты все знаешь, – прошелестела женщина.
– Да. Поэтому я проведу вас в город и покажу людей, которые откроют двери хранилища рукописей Бени Умейя. Прошло триста лет, но мы найдем запись о том, где они похоронили твою сестру, о Тамийа-химэ.
Утро следующего дня
Уже за два квартала перед дервишем бежала босоногая оборванная толпа. Мальчишки размахивали руками и расталкивали прохожих:
– О верующие Куртубы! К нам идет Зу-н-Нун! К нам идет шейх Зу-н-Нун!
В толпе тут же начинали радостно вскрикивать и бросать под бегущие грязные ноги медяки, а то и дирхемы – мальчишек следовало наградить за хорошую новость и почтить Всевышнего раздачей милостыни. Кто знает, возможно, когда святой совершит радение и разорвет свою одежду, и тебе перепадет заветный кусочек. Рассказывали, что тряпица от рубища Саубана Зу-н-Нуна, дервиша, философа, алхимика и суфия, исцеляет от всех болезней и приносит богатство. Люди кричали:
– Куда, куда он идет? Куда направляются благословенные стопы учителя?
– На площадь перед Пятничной масджи-и-ид!!
И стайка драных птенцов подворотен неслась вперед, к воротам медины – радовать сердце верующих и извещать о пришедшей в город удаче.
А Зу-н-Нун шел не торопясь, отвечая на сыпавшиеся отовсюду приветствия и благословения. Поднимая вверх руки и размахивая широкими белыми рукавами, он возглашал:
– О правоверные! Всякий, кто чтит пятницу и желает послушать пятничную проповедь, пусть идет за мной, идет след в след и никуда не сворачивает! О верующие ар-Русафа! Сотворите молитву, не обрекайте себя на утрату этой сияющей свечи! Следуйте, о следуйте за мной все, кто слушает мой голос! Следуйте за мной все, кто идет к масджид, кто хочет услышать пятничную проповедь!
И, так крича, дервиш прошел под узкую арку ворот медины. Вступив в темный сырой коридор, ведущий сквозь толщу Журавлиной башни, он прошел его насквозь и вышел на залитую утренним солнцем улицу – вверх, вверх, к Верхнему городу лежал его путь.
Люди, заслышав призывы святого человека, ахали и качали головами: легко сказать, не сворачивать и идти прямо к масджид. Да, вот-вот должен прозвучать третий крик муаззина – и верующие, совершив положенные молитвы, должны услышать проповедь праздничного дня. Но сегодняшняя пятница была особенной: проповедь – неслыханное дело – велено было отложить. Совершив молитву у себя дома, верховный муфтий Куртубы пожелал отправиться не в масджид, чтобы сказать верующим укрепляющие слова, – а на Большую базарную площадь перед дворцом.
Там еще со вчерашнего дня сооружены были два высоких деревянных помоста. Один – для Абд-аль-Вахида ибн Умейя и его ближайших родственников, а также кади Куртубы, верховного муфтия и самых уважаемых законников ар-Русафа. Этот помост покрыли коврами и разложили на нем шелковые подушки – и на ночь поставили вокруг него стражу, дабы подлое ворье не растащило все это великолепие. Второй помост предназначался для еретика, отступника, бунтовщика, мятежника и колдуна аль-Джунайда – и его не стали покрывать коврами. Сегодня утром истекали три дня, данные, согласно законам Али, преступнику на размышление и раскаяние. Однако глашатаи уже прокричали на каждой площади, что Джунайд не отрекся от своих заблуждений и предпочел смерть возвращению к истинной вере. Шептались, что Джунайд – мученик, и его погубили не провинности, а зависть и злоба клеветников. Однако всякий, что-либо смысливший в этой жизни, уже купил место у окна одного из домов, выходящих на Большую базарную площадь. Ну или уже толкался вокруг помостов. Ну или готовился бежать туда со всех ног. На улицах кричали, что палач уже вышел и показывает удары мечом, какими положено сносить головы преступникам, а его помощники устанавливают деревянные колоды, между которыми растянут для четвертования тело Джунайда.
Зу-н-Нун, пританцовывая, поднимался по извилистым улицам – вверх, вверх, к узеньким воротам в сторожевой башне Факельной стены.
– За мной, все идите за мной! Пусть идет за мной тот, кто меня слушает! Кто желает услышать и увидеть пятничную проповедь, пусть идет за мной!
Дети кидали ему в подол рубища халву и финики, а Зу-н-Нун кружился, вставая на цыпочки босых пыльных ног, и во всю глотку декламировал:
Я – суфий, а твое лицо – единственное среди всех красавиц,
Все знают, стар и млад, женщины и мужчины,
Что твои алые губы по сладости – халва,
А халву нужно дарить суфиям.
Между тем в толпе, поднимавшейся в верхний город вслед за дервишем, шли два десятка феллахов в пыльной, заплатанной одежде сельских жителей. Впрочем, феллахов в толпе и без них было предостаточно – по долине давно разнеслись слухи о предстоящей казни колдуна и вероотступника. Но эти шли, касаясь друг друга, держась за руки и за полы плащей из грубой верблюжьей шерсти. Их женщины семенили охающей и ахающей стайкой грязных замоташек – так просвещенные горожанки называли своих сельских сестер по вере. В самом деле, платок уже давно следовало повязывать под подбородком – иначе какой смысл помадить губы? Деревенские увальни явно ошалели в огромном городе и боялись потеряться в ущельях улиц между двух-, а то и трехэтажными домами.
Тем временем двое оборванцев из этой жалкой толпы обменивались такими речами:
– А это что за благочестивая белиберда? – Тарег имел в виду стихи про халву, которые раз за разом распевал Зу-н-Нун. – Почему дервиш поет любовные стихи? Извращение за извращением… – сердито шипел нерегиль.
– Это не любовные стихи… ммм… в обычном понимании, – хихикнула идущая с ним бок о бок женщина и поправила ткань платка на носу.
– В смысле? – мрачно переспросил нерегиль.
– Стихи говорят о любви – но не к женщине, – платок заглушил хихиканье Тамийа, однако сумеречница, похоже, веселилась от души. – Они говорят о любви ко Всевышнему.
Тарег охнул:
– Это не лезет ни в какие ворота! Скажи, что ты шутишь!
– Между прочим, эти стихи сочинил Джунайд, – продолжала веселиться Тамийа-химэ.
– Прости, но я был о твоем супруге лучшего мнения, – отрезал нерегиль. – Уж он-то не должен был поддаваться на дурацкие суеверия и оскорблять Единого своими странными домогательствами.
– Мы пролили много крови в сражениях на остриях слов, и еще больше мы пролили чернил – в том числе и тогда, когда кидались друг в друга чернильницами, – фыркнула женщина. – Но увы: я могу дать Джунайду напиток бессмертия и продлить его молодость, но не могу изменить его природы. Он остается человеком и… ашшаритом.
И Тамийа-химэ вздохнула с грустью, а притворной ли, подлинной – осталось скрыто за тканью платка.
Тут шедшие перед ними Майеса и Ньярве остановились как вкопанные. Из темной арки ворот дохнуло сыростью и могильным холодом. Тарег поднял глаза: над невысоким, в десять локтей, сводом, выбит был круглый медальон, разделенный письменами куфи на три лепестка – Али, Али, Али. Точно такой же, как на томвходе. Нерегиля замутило – от нахлынувших воспоминаний и вскипевшей следом ярости. Сзади напирал народ.
Тарег тяжело задышал – подобно остальным, он чувствовал преграду как упершуюся ему в грудь ладонь. Майеса наклонила голову и застонала сквозь сжатые губы.
И тут с другой стороны черного прохода, из залитого солнцем проема в его конце донеслось:
– О следующие за мной! Проходите же, идите за мною след в след, никуда не сворачивая!
Зу-н-Нун пригласил их, открывая путь под охранный знак.
Со свистом выпустив воздух сквозь стиснутые зубы, Тарег двинулся вперед. Майеса и Ньярве, шедшие впереди, зашипели, но шагнули в тень арки.
Не успели они, дрожащие и замерзшие, как в зимний холод, выйти на солнце, как в небе над их головами поплыли пронзительные человеческие вопли. Со всех минаретов всех пятнадцати мечетей Куртубы понесся третий призыв муаззина. Пятнадцать голосов, сливаясь в нестройный, отвратительный, визгливый хор, завывали и повторяли – Имя за Именем. Тарега снова замутило. У Тамийа-химэ пошла носом кровь – на ткани платка стало расплываться бурое пятно.
Люди на крохотной привратной площади и на улице впереди и позади них молитвенно падали ниц, прямо на булыжники мостовой Верхнего города.
– Чтоб вам всем так и сдохнуть кверху жопой, – пробормотал нерегиль, дрожа от ненависти и опускаясь на колени.
– …И благородный Абд-аль-Вахид ибн Умар ибн Имран ибн Умейя в своей милости и мудрости призывает Амр ибн Бахра, факиха [34]34
Факих– законовед.
[Закрыть]Куртубы, дать ответ на вопрос: какой кары достоин вероотступник, упорствующий в своих заблуждениях?
Ибн Бахр, представительный мужчина за сорок, с соответствующими должности животом и курчавой бородой, степенно кивнул и ответил:
– Воистину смерти!
Люди на Большой базарной площади толкались и перешептывались, переминались с ноги на ногу и тыкали пальцами в сановников на ковровом помосте. Там искрились драгоценные эгретки на чалмах, метали разноцветные искры перевязи с саблями в дорогих ножнах, пылала на утреннем солнце парча кафтанов. Гвардейцы Умейядов, рослые, высокие воины в роскошных узорных халатах из золотистого шелка поверх кольчуг, сдерживали молчаливо напиравшую на их шеренги толпу.
– И благородный Абд-аль-Вахид ибн Умар…
Огласитель приговоров судебного ведомства продолжал опрашивать власть предержащих согласно обычаю. Народ на площади скучал, нетерпеливо прислушиваясь к тягомотине законников – людям уже хотелось перейти к, скажем прямо, сладкому.
Джунайда поставили на колени посреди второго помоста – прямо на голые доски. На плечах ему оставили лишь белую рубашку. Грудь, локти и запястья приговоренного стягивала крепкая веревка из верблюжьей шерсти – два ее конца держали в руках помощники палача, вставшие по обе стороны от преступника. Палач с обнаженным ханаттийским тулваром в руке стоял прямо за спиной Джунайда. Люди с охами и ахами показывали друг другу пальцем на громадный изогнутый меч – говорили, что старый Умар выписал его из самой столицы Ханатты вместе с искусным палачом.
– …Воистину смерти!
Верховный муфтий Куртубы сказал свое веское слово – и огласитель приговоров повернулся к Абд-аль-Вахиду и отдал глубокий поклон.
– Преступник приговорен к смерти! – разогнув спину, воскликнул он.
– Приступайте! – взмахнул рукой глава Бени Умейя.
Помощники палача вынули из ножен джамбии: Джунайда следовало развязать, чтобы разложить на помосте более подходящим для четвертования образом.
Изогнутое лезвие кинжала разрезало веревку точно между локтями приговоренного. Второй помощник дернул ее, чтобы смотать и отложить в сторону. Спешить им было некуда. Народ на площади хотел зрелища.
Когда над помостом вдруг с шелестом что-то мелькнуло, никто не сообразил, что это. Ярко-алое платье с широкими рукавами до земли – оно вдруг вспыхнуло прямо рядом со стоявшим на коленях Джунайдом.
Когда на лица ближайших к помосту стражников хлестнуло горячей кровью, кто-то вскрикнул.
Когда на площади завопили от ужаса все, кто мог вопить, палач и оба помощника уже корчились и катались по доскам, молотя каблуками сапог, – из их раскромсанных шей брызгала во все стороны яркая красная кровь.
Джунайда на помосте уже не было. Впрочем, всем уже стало не до него.
Женщина в алом шелке перемахнула в жутком, нечеловеческом кувырке на соседний помост, и все поняли, что сегодня утром на этой площади умрут совсем другие люди. Следом за ней на ковры с хлопаньем рукавов вспрыгнули еще три аураннки, и кровь фонтанами забила во все стороны.
Женщины в развевающемся желто-розовом и сиреневом шелке полосовали людей парными мечами-тикка.
От них пытались отбиться, кто-то успел выхватить кинжал – но его лезвие перехватила изогнутая длинная гарда тикки и выдернула из так и не успевшей нанести удар руки. Свистнул клинок, человек заорал, зажимая обрубок руки, из которого мелкими брызгами пылила кровь. Над площадью раздались пронзительные вопли, перекрывшие крики мечущейся толпы: над головами орущих и бестолково давящихся людей пронеслись еще три женские фигуры – и как стервятники спикировали в свалку на помосте сановников Умейядов. Одна из них вцепилась зубами в то, что осталось от руки несчастного, тот дико заорал, пытаясь стряхнуть с обрубка мотающую гривой женщину в ослепительном, цыплячьего цвета шелке.
Умейяды дрались отчаянно – но в тесноте и давке среди подушек они спотыкались и падали, не имея возможности обнажить мечи. Женщины хлестали рукавами, как змеями, обвивали ими руки – и дергали на себя, прямо на лезвия тикки.
И тут еще целая стая этих дочерей иблиса бросилась прямо в толпу на площади: меткими, секущими ударами они вспарывали артерии на горле, и люди с воплями кидались в разные стороны от дрыгающихся, разбрызгивающих горячий красных дождь тел. В уводящих с базарной площади проулках, в арках и дверях домов верещали женщины и дети – их давили, сбивали с ног и топтали. Люди рвались прочь из страшной ловушки между высокими стенами – и забивали телами все возможные пути отхода.







