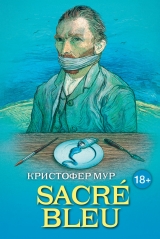
Текст книги "“SACRÉ BLEU. Комедия д’искусства”"
Автор книги: Кристофер Мур
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Люсьен, теперь ты обо мне говоришь, будто я вещь.
– Чепуха, chère, я говорю о свете.
– Но показываешь на меня.
– Надо сделать стеклянный потолок у нас в мастерской на рю Коленкур, – сказал Тулуз-Лотрек.
– Наверху там квартира, Анри. Боюсь, такого же эффекта мы не добьемся.
– А, ну да. А это поза такая? Ты должен ее сделать со спины, когда эту закончишь. У нее задница изящней, чем у Венеры Веласкеса в Лондоне. Ты видел? Изысканно! Пусть смотрит на тебя через плечо в зеркало.
– Я все еще тут, – заметила Жюльетт.
– А на кушетку к ней посади херувимчика, пусть это зеркало ей держит, – сказал Тулуз-Лотрек. – Для него я тебе могу посидеть, если хочешь.
Анри в образе косматого херувима – эта мысль, похоже, вытряхнула Люсьена из грезы о свете на коже Жюльетт, и он повлек графа к двери.
– Анри, приятно было повидаться, но тебе пора. Давай вечером выпьем в «Черном коте». А сейчас мне нужно работать.
– Но у меня такое чувство, будто спасение прошло ну… как-то не очень удовлетворительно.
– Нет, Анри, меня никогда не спасали тщательней. Благодарю тебя.
– Ну, тогда до вечера. Всего хорошего, мадемуазель, – успел крикнуть он Жюльетт, когда Люсьен выпихивал его в дверь.
– À bientôt, – ответила девушка.
Люсьен запер за ним дверь, и Анри остался в заросшем сорняками крохотном дворике с хрустальным кордиалом в руке. Он держал его за тяжелый латунный набалдашник в основании и не понимал, что сейчас произошло. Было же несомненно, что Люсьен в серьезной опасности, иначе зачем он так спешил из Мальроме? Зачем он пришел в эту булочную? И почему он вообще не спит в этот небожеский час позднего утра?
Тулуз-Лотрек пожал плечами и, раз уж стаканчик был у него в руке, выпростал из трости длинную цилиндрическую фляжку и налил себе коньяку – укрепить нервы перед следующим этапом спасательной операции.
А в мастерской Жюльетт снова приняла прежнюю позу и спросила:
– Ты когда-нибудь видел Венеру Веласкеса, Люсьен?
– Нет, я не бывал в Лондоне.
– Наверное, надо бы съездить, – произнесла она.
*
Тулуз-Лотрек расположился по другую сторону площади в crémerie мадам Жакоб – он наблюдал за выходом из проулка рядом с boulangerie Лессаров. Девушка вынырнула оттуда в сумерках – как и сообщала ему сестра Люсьена. Анри быстро сунул в рот оставшийся кусок хлеба, намазанный камамбером, допил вино, кинул на столик несколько монет и слез с табурета.
– Merci, Madame, – крикнул он старухе. – Всего хорошего.
– И вам приятного вечера, месье Анри.
Девушка перешла площадь и стала спускаться к подножью холма по рю дю Кальвэр. Анри никогда не выпадало ни за кем следить – незачем, – но отец его был заядлым охотником, и ребенок, хоть и хилый, скрадывать животных умел с детства. Он знал, что идти слишком близко – глупо, поэтому дал жертве уйти на пару кварталов, а затем похромал за ней сам. К счастью, шла она под гору, и он не отставал, хотя девушка нигде не медлила, не останавливалась ни у прилавков, ни у витрин, как большинство продавщиц и модисток в толпе на тротуарах по пути с работы домой.
Она миновала его студию на рю Коленкур – Анри так и подмывало зайти и освежиться коньяком, а затем продолжить… вернее, конечно, не продолжать, а провести вечер в «Красной мельнице», – но он поборол это желание, обогнул вслед за девушкой Монмартрское кладбище и спустился в Семнадцатый аррондисман – в квартал, известный под названием Батиньоль. То был один из новых районов Османа: широкие бульвары, однотипные здания в шесть этажей, с мансардами и балконами на втором и верхнем этажах. Аккуратные, современные, без того убожества, что отличало старый Париж да и, по правде говоря, Монмартр.
Когда они прошли кварталов двадцать на юго-запад – Анри почти все время пыхтел и отдувался, стараясь не сильно отставать, – девушка резко свернула с рю Лежандр в переулок, где художник ни разу не бывал. Он поспешил к углу, насколько позволяли больные ноги, чтобы не упустить ее, и едва не столкнулся с девицей в наряде горничной, которая бежала ему навстречу. Анри извинился и снял шляпу, а затем выглянул из-за угла. Жюльетт была всего в десяти шагах. Перед нею стоял Красовщик.
– Это была наша горничная? – спросила Жюльетт.
– Случайно, – ответил Красовщик. – Ничего не поделать.
– И эту ты напугал?
– Елдак, – объяснил он.
– Это же не оправдание, верно?
– Случайно.
– Случайно напугать елдой никого нельзя. Неплохо бы ей приготовить ужин и наполнить мне ванну, а уже потом пугаться тебя. Я без сил, а завтра везу Люсьена в Лондон, где буду его пежить на всех углах Кензингтона.
– Как вообще можно кого-то пежить в Кензингтоне?
Она проворчала что-то на языке, которого Анри не понимал, отперла калитку и повела Красовщика по лестнице. Анри вышел из-за угла и увидел, как закрывается калитка.
Значит, вот оно что. Она и впрямь связана с маленьким Красовщиком Винсента. Но как? Быть может, он ее отец? Завтра. Завтра все выяснит. А теперь нужно вернуться на butte, в «Черный кот», где они встречаются с Люсьеном. Тулуз-Лотрек поковылял к авеню де Клиши на стоянку извозчиков, затем поднялся на гору уже в фиакре.
Люсьена в «Черном коте» он прождал почти до десяти, а когда булочник не появился, отправился в «Красную мельницу», где пил и делал наброски танцовщиц, пока кто-то – вероятно, клоунесса Обжора – не загрузил его в наемный экипаж и не отправил домой.
*
Наутро – в час, полагаемый им жестоким, – Анри съежился в переулке у авеню де Клиши с мольбертом, ящиком красок и складной табуреткой. Он ждал девушку. Каждые несколько минут специально нанятый гаврош притаскивал ему эспрессо из кофейни за углом, он плескал коньяку в чашку, отгонял мальчишку и продолжал наблюдение. Через три эспрессо и сигару из-за угла вывернула Жюльетт – в простом черном платье, с парасолькой и в шляпке, украшенной переливчатыми черными перьями. Лентой ей служил дымчатый шифоновый шарфик – он трепетал за нею на ходу. Даже за квартал ее синие глаза поражали воображение – в обрамленье черного шелка и белой кожи. Анри она напомнила бойких синеглазых красоток Ренуара – столько цвета и жизни, но никакой их мягкости, по крайней мере тут, на улице. Вчера в мастерской Люсьена – ну, там края у нее были помягче.
Тулуз-Лотрек нырнул за угол, погасил о кирпичи сигару и прижался к стене. Мальчишкой он часто сиживал с отцом в охотничьих схронах у них в поместье Альби, и хотя в засаде он почти все время рисовал деревья, животных и других охотников, граф научил его: неподвижность и терпение на охоте так же важны, как скрытность и проворство. «Если ты достаточно бездвижен, – говаривал отец, – ты сливаешься с тем, что тебя окружает, и для своей добычи невидим».
– Bonjour, Monsieur Henri, – окликнула его Жюльетт, проходя мимо.
«Ну его на хуй, этого графа – все равно он просто эксцентрик и псих, плод кровосмешенья», – решил Анри.
– Bonjour, Mademoiselle Juliette, – ответил он. – Передайте Люсьену, что я его вчера вечером не дождался.
– Передам. Простите его, у него был утомительный день. Я уверен, он сожалеет, что с вами не встретился.
Тулуз-Лотрек проводил ее взглядом – девушку влек за собой поток людей по авеню, – после чего махнул своему кофейному гаврошу и нагрузил его мольбертом, табуреткой и красками.
– Вперед, Капитан, к Аустерлицу!
Мальчишка с грохотом потащился за ним, влача ножки мольберта по брусчатке и едва не спотыкаясь о табурет и ящик с красками.
– Но, месье, я никакой не капитан, а в Аустерлиц мне нельзя, у меня уроки.
– Это всего лишь выражение такое, молодой человек. Тебе нужно помнить одно: за свои старанья ты получишь двадцать пять сантимов – если только не расколотишь мне ящик в щепу на этих булыжниках.
Через несколько кварталов Анри завел мальчишку на ту улицу, по которой накануне уже шел за Жюльетт, заплатил ему, чтобы он установил мольберт на тротуаре напротив ее дома. Ему пришло в голову, что если, быть может, много часов делать вид, что он пишет картину, лучше уж действительно писать картину. Вдруг Красовщик решит выйти, заметив его из окна, – тогда лучше, если на полотне будет хоть какая-то краска.
У него с собой был лишь один маленький холст. М-да, тут у нас дилемма. Au plein air он писал не часто, но мастер такого метода Моне говорил, что приличному художнику не следует работать над одной картиной на натуре больше часа за раз – если он не пытается ухватить свет, которого больше не существует. Вот и теперь мастер наверняка где-нибудь в Живерни или Руане с десятком холстов на десятке этюдников – переходит от одного к другому за уходящим светом, пишет одно и то же, с того же ракурса. Если кто-то подумает, что он пишет стога или собор, Моне сочтет его вполне тупоумным. «Я пишу мгновенья. Неповторимые, уникальные мгновенья света», – скажет он.
К счастью для Анри, улочка выглядела так, будто располагает единственным невыносимо скучным мгновеньем. Хоть пролегала она всего в паре кварталов от оживленной авеню де Клиши, с таким же успехом тут мог быть и город-призрак. Здесь не наблюдалось даже обязательных согбенных старикана или старухи, что подметали бы свое крыльцо, а Тулуз-Лотрек был уверен, что в Париже это полагается делать по закону. Уличная шлюха, срущая собака или старуха, подметающая крыльцо, – все они порознь или в комплекте должны быть непременно. Коньяк у него закончится раньше, чем чистый холст, если не произойдет ничего захватывающего – например на подоконник не решит запрыгнуть кошка.
Художник вздохнул, установил табурет, налил в одну чашечку палитры льняного масла, в другую – скипидара, выдавил на дощечку каплю жженой умбры, развел ее скипидаром и принялся набрасывать дверь Красовщика тонкой щетинной кисточкой.
Уже решив, что темой картины станет пустынная улочка, он как-то даже разочаровался, когда во дворе дома услышал чьи-то шаги. В окошке первого этажа возникла консьержка, ссохшаяся вдова – и мигом скрылась за шторкой, когда лязгнула щеколда калитки. Консьержи были во всех жилых домах Парижа – по какой-то прихоти естественного отбора все они были крайне любопытны, однако до такой же крайности терпеть не могли, если их в этом обвиняли.
В кованую калитку спиной протиснулся Красовщик. Он волок деревянный ящик с себя ростом.
У Анри на затылке дыбом встали волосы – он немедля пожалел, что так увлекся работой и забыл даже выпить, ибо укреплению нервов коньяк бы сейчас отнюдь не повредил. Он нагнулся ближе к холсту и сделал вид, что отделывает край, хотя по правде на таком мизерном расстоянии не работал почти никогда – он и кисти-то предпочитал подлиннее.
– Месье! – воскликнул Красовщик, переходя дорогу. Огромный ящик громыхал сзади и бил его по пяткам. – Помните меня по авеню де Клиши? Месье, не мог бы я заинтересовать вас красками? По вашей превосходной шляпе я могу сказать, что вы – человек со вкусом. У меня лишь тончайшие глины и минеральные пигменты, а не это фальшивое прусское говно.
Анри оторвался от холста, будто его разбудили.
– А, месье, я вас не заметил. Сказать вам правду, я не знаю, в каком состоянии нынче мой ящик с красками. Вероятно, мне и впрямь понадобится ваш товар.
Анри вытянул из-под этюдника ящик, отстегнул защелки и открыл крышку. Как он и планировал, их взорам предстало грустное кладбище мятых и тощих тюбиков, искореженных жертвоприношений красоте.
– Ха! – произнес Красовщик. – Вам потребно все.
– Да-да, каждой по одной, – подтвердил Анри. – И по большому тюбику свинцовых белил, черной слоновой кости и ультрамарина.
Прямо на проезжей части Красовщик разложил свой ящик, но при этих словах замер.
– У меня нет большого тюбика ультрамарина, месье. Только очень маленький.
Глаза его прятались подо лбом так глубоко, что Анри пришлось склониться, дабы разглядеть, что Красовщик на самом деле чувствует – голос-то его полнился глубочайшим сожалением. Не такого Анри ожидал.
– Не важно, месье, – сказал Тулуз-Лотрек. – Я возьму все, что у вас есть, маленький – так маленький. Если мне понадобится больше синевы, я всегда могу…
– Только не прусским говном! – рявкнул Красовщик.
– Я собирался сказать, что могу взять олифу и лессировать остатком белила.
Красовщик склонил голову набок.
– Так больше не делают. Это по старинке. Вы, новые ебучки, краску мастерком наваливаете, вот как сейчас принято.
Анри улыбнулся. Он вспомнил расчетливо неистовые картины Винсента, словно написанные мастихином, где слой краски так толст, что сохнут они по полгода даже на засушливом Юге. А потом его мысль о Винсенте потемнела – он вспомнил и письмо. Красовщик бывал в Арле.
– Ну, – произнес Анри, – лучше уж по старинке, чем это прусское говно.
– Ха! Именно, – сказал Красовщик. – Или этот химический французский ультрамарин. Мне все равно, что говорят, но он – совсем не то, что синь из ляпис-лазури. Это не святая синева. Сами увидите. Вы нигде не найдете прекраснее цвета, месье.
И в тот миг, при виде колера в ящике, пентименто, что проступал у него в уме, стал ясным и отчетливым образом. Он видел их вместе – как-то раз возле своей мастерской, Кармен и Красовщика. Как же он мог это забыть?
– Вообще-то я уже красил вашими красками. Быть может, вы помните?
Красовщик поднял от ящика голову.
– Я б не забыл гнома у себя в покупателях, мне кажется.
Анри тут же захотелось тростью вышибить мозги этой перекособоченной твари, но он сдержался и лишь огрызнулся в ответ:
– Месье, я вам не гном. Во мне на целых семь сантиметров больше, чем полагается карликам, и ваш намек мне категорически не нравится.
– Прошу меня простить, месье. Я допустил бестактность. Но все равно, я б вас не забыл.
– Ваши краски приобретались через девушку, которая сидела у меня на сеансах. Мадмуазель Кармен Годен. Быть может, вы помните ее.
– Она работает по дому? А то моя горничная вчера уволилась.
– Вероятно, ваши требования были для нее чересчур высоки.
– Елдак, – пожал плечами Красовщик в порядке объяснения.
– А, понимаю, – отозвался Анри. – Моя отказывается мыть окна. Нет, мадмуазель Годен по профессии была прачка. Рыжая такая, неужели не припоминаете?
Красовщик приподнял котелок и поскреб голову, словно пытаясь вычесать из волос память.
– Ну да, наверно. Рыжая прачка. Да, я еще удивлялся, откуда она деньги на краски берет.
Вообще-то в те времена Анри и сам этого не понимал – она приносила ему краски в подарок. «На наши картины», – говорила она.
– Вы не знаете, где она сейчас? – спросил Анри. – Раньше работала в прачечной у пляс Пигаль, но там ее уже давно не видели.
– Это которую Кармен звали, да?
– Да, Кармен Годен.
– Она очень заболела. А может, и умерла уже, я думаю.
Анри будто двинули кулаком под сердце. Он вообще не собирался о ней спрашивать. Ему казалось, что с нею у него все кончено. Но в тот миг, услышав слова Красовщика, он почувствовал лишь огромную утрату.
А тот снова надел шляпу.
– У нее была сестра, жила в Третьем, недалеко от Ле-Аль, по-моему. Может, она к ней умирать отправилась, а?
– Может. Сколько за краски? – спросил Анри. Взял тюбики, разложил их у себя в ящике и уплатил человечку, сколько сказали.
Красовщик сунул деньги в карман.
– Синюю я скоро еще делать буду, если закончится. Я к вам в ателье загляну.
– Спасибо, но я предпочитаю, чтобы в мастерской меня не беспокоили. Я сам к вам зайду – я же теперь знаю, где вы живете, – сказал Анри.
– Я часто переезжаю, – ответил Красовщик.
– Правда? А в Овере-сюр-Уаз бывали? – «Ага! – подумал Анри. – Тут-то ты мне и попался».
– В Овере? – Котелок опять долой, опять скребем в затылке, ответ ищем где-то на верхних этажах домов вокруг. – Да нет, месье, а чего вы спрашиваете?
– Мне оттуда друг письмо прислал – сказал, что покупал отличные масляные краски у человека, очень похожего на вас. Он голландец был, ныне, к сожалению, покойный.
– Не знаю я никакого голландца. Я с этими блядскими голландцами дел не веду. На хуй и голландцев, этот их голландский свет. Нет уж. Мне пора.
Красовщик захлопнул свой ящик, взвалил его на спину и заковылял прочь по улице.
– Adieu, – крикнул ему вслед Анри.
– Ебаные голландцы, – ворчливо донеслось в ответ, и Красовщик с трудом завалил свой ящик за угол.
Кармен переехала к сестре в Третий аррондисман? Если он возьмет извозчика – будет там через полчаса. Никому ничего не надо знать.
Но сначала следует разобраться с краской.
Одиннадцать. Камера обскура…
Лондон, 1890 г.
Пока Анри целый день распутывал тайну Красовщика, Люсьен провел неделю в Лондоне – рассматривал живопись и пежил Жюльетт на всех углах Кензингтона.
– Если сбежать из гостиницы после всего одной ночи, они даже в полицию не заявляют, – сообщила ему Жюльетт.
– А в другой район разве не нужно переезжать?
Люсьену вообще нечасто доводилось жить в гостиницах, и раньше он ниоткуда не съезжал, не заплатив по счету.
– Мне нравится Хайд-Парк, – ответила Жюльетт. – Ложись скорее.
В этой поездке в Лондон для него много что было впервые – причем не самым мелким откровением оказалось, что Франция и Англия воюют друг с другом с тех пор, как… ну, вообще-то с тех пор, как стали отдельными странами. У Национальной галереи на Трафальгарской площади он полюбовался на огромный столб, воздвигнутый в честь адмирала Нелсона – почтить его победу над флотом Наполеона (и заодно испанцев) при Трафальгаре. Художника Курбе изгнали из страны за то, что он агитировал уничтожить Наполеонову версию того же самого у Лувра (предположительно – по наущенью своей ирландской любовницы Джо).
– Курбе обсосом был, – сказала Жюльетт. – Пойдем смотреть картинки.
Люсьен не стал спрашивать, откуда она узнала, что он думает о Курбе, или с каким пор она пользуется английским термином «обсос». Такое он бросил уже давно и просто отдал себя на волю ее воли. Через несколько минут они уже миновали ротонду, и Жюльетт повела его за собой. Она неслась мимо шедевров так, словно они были прокаженными побирушками, пока не остановилась перед «Венерой» Веласкеса.
Та возлежала в шезлонге, повернувшись к ним спиной, кожа – гладкая и белая, словно зацелованная персиками, и хотя Анри был прав: попа у нее оказалась не так изящна, как у Жюльетт, – все равно она была красоткой. А от того, что смотрела, как ты смотришь на нее, – в зеркало, которое поддерживал херувим, – все это самую малость отдавало озорством: подгляду разоблачили. Но она тебя не оценивала, не примеряла на себя и не отбрасывала за ненадобностью, как Олимпия у Мане. И не дразнила тебя, как Гойева маха. Она просто смотрела, как ты смотришь на то, чем она тут занимается – а именно: демонстрирует безупречнейшую филейную часть в истории искусства. Но несмотря на совершенно реальные размеры, тон и даже свет на ее коже, на руках и ногах, лицо в зеркале было темно, не в фокусе, словно смотрела на тебя она из какого-то иного места – через окно, а ни в какое не в зеркало.
– Должно быть, он пользовался камерой обскурой, – сказал Люсьен. «Камера обскура» – инструмент настоящей светописи, она существовала еще до изобретения пленки. Линза в ней переворачивала изображение и проецировала его на лист матового стекла, часто – с уже вытравленной на нем сеткой. Поэтому художнику оставалось обвести, по сути, то, что уже свелось к двумерному изображению. То была настоящая живая разновидность фотографии.
– С чего ты это взял? – спросила Жюльетт.
– У нее лицо не в фокусе, а попа – резкая. То есть, она, конечно, мягкая, но четкая. А херувима он написал совсем не так – у него лицо в четком фокусе, хотя на одном плане с зеркалом: писал-то он по памяти о другом сеансе или просто вообразил. Глаза у тебя меняют фокус, когда ты рассматриваешь различные детали сцены – вне зависимости от расстояния до них. А камера умеет фокусироваться лишь на одном каком-то плане. Рисуй он просто на глаз, лицо у нее тоже было бы в фокусе.
– Может, он просто не разглядел, как именно она выглядит.
Люсьен повернулся к ней:
– Не говори глупостей.
– Я? Это ж ты какие-то механизмы изобретаешь.
Он рассмеялся, перевел взгляд с нее на картину, потом осмотрел всю галерею, все картины в ней, снова поглядел на нее.
– Жюльетт?
– Да?
– Спасибо, что все это мне показала – эти картины.
– Много пользы будет, если ты их не увидишь.
Она ухмыльнулась и пошла от него прочь. Люсьен двинулся следом, как и полагалось, но остановился перед очень крупным полотном – какой-то возрожденческой мадонной.
– Мать пресвя…
– Что? Что? – Жюльетт тоже остановилась.
– Это ж Микеланджело.
Картина почти десяти футов в высоту выглядела частью некой большей работы – может, запрестольной перегородки: в центре Богоматерь и детка Христос, тянется к книжке, которую она держит. Одна грудь у нее незнамо почему голая, хотя все остальное тело скрыто одеждой. И тень ее мантии зачернена, а вот все остальное не раскрасили.
– Интересно, почему он не дописал мантию, – сказал Люсьен.
– Может, устал, – предположила Жюльетт.
– Странно. – Он отошел, приблизился к другой картине – тоже Микеланджело. – Ты посмотри только.
То была пьета «Положение во гроб» – и на ней тоже одеянье Богородицы осталось незакрашенным, хотя в остальном картина была почти готова.
– Эту он тоже не завершил, – сказал Люсьен. – На ней вообще синего цвета нет. – В восторге от того, что узрел незаконченный шедевр, Люсьен обхватил Жюльетт за талию и притянул к себе. – Ты же знаешь, плащ Богородицы всегда должен быть синим. Эта краска называлась «священной синью», потому что оставлялась специально для нее.
– Да что ты говоришь, – ответила Жюльетт. – Может, пойдем взглянем на Тёрнера, раз уж мы в Англии и вообще?
– Почему же он дописал всю картину – но без синего?
– Возможно, потому что этот маленький педрила хотел досадить, – сказала Жюльетт.
– Мастер не станет бросать работу неоконченной, чтобы кому-то досадить.
– А я вот почти четыреста лет спустя досадую.
– На Микеланджело? – Люсьена картины никогда не раздражали. Интересно, подумал он, может, и вот из такого состоит шедевр, подобного которому ему нипочем не сознать? – А я, по-твоему, смогу когда-нибудь вот так же досаждать?
– О, cher, – сказала она. – Не стоит себя недооценивать.
– В смысле?
– Ничего. – И она отплыла в другой зал смотреть Тёрнеров и Констеблей – «барашков и барашки», как ей нравилось их называть.
Вообще-то она была щедра. У Люсьена нет ни шанса на то, чтобы раздражать так, как это умел Микеланджело Буонарроти. Прежде всего, Люсьен в душе очень мил. Он добрый и щедрый человек, и если не считать чуть избыточных сомнений насчет своего мастерства живописца, от которых он вообще-то писал только лучше, его восхитительно не отягощали никакие муки совести или ненависть к себе. То ли дело Микеланджело.
Рим, Италия, 1497 г.
Флорентинец был примерно ровесником Люсьена, когда она впервые к нему пришла. И, как и Люсьен, непосредственно с Красовщиком он дела не имел. Она его нашла в Риме – он как раз писал «Положение Христа во гроб», запрестольный образ для церкви Святого Августина. В мастерской он был один, как это случалось частенько.
А она была совсем юна – широко распахнутые глаза и свежее личико, в крестьянском длинном платье с низким вырезом и не слишком уж тугой шнуровкой. Она принесла краски – свеженатертые, разложенные по бараньим пузырям, скрученным до нужного размера и перевязанным кетгутом, в корзинке, выложенной суровым полотном.
Художник даже не оторвался от работы.
– Пошла прочь. Я не люблю, когда мне мешают.
– Прошу простить, маэстро, – ответила она с поклоном. – Но кардинал меня попросил принести вам эти краски. – Он же для Церкви писал, наверняка тут где-то кардинал и затесался.
– Какой еще кардинал? У меня свой красовщик. Ступай отсюда.
Она подползла ближе.
– Я не знаю, какой еще кардинал, маэстро. Я не смею и взгляда поднять, когда ко мне обращается князь Церкви.
Наконец он на нее взглянул.
– Не зови меня «маэстро». Когда я вот этим вот занимаюсь. Я же даже не художник, я скульптор. Дух я отыскиваю в камне, меня направляет длань Господня. А краской работаю лишь ради служения Богу.
«Ну вот, еще один», – подумала она. Флоренцию пришлось покинуть именно потому, что она потеряла Боттичелли – тот сдался своей религиозной совести, распаляемой этим маньяком, доминиканцем Савонаролой и его Кострами тщеславия. Мало того, что сам Боттичелли припал к лону Церкви, он швырнул в огонь и свои лучшие работы, ее картины. А Микеланджело в Риме уже год. Откуда же он узнал про учения Савонаролы?
– Простите меня, но мне нужно доставить эти краски, иначе меня накажут.
– Ладно, ладно. Оставь тогда тут.
Она подступила к трехногому табурету, на котором он сидел, и медленно опустилась на колени, не выпуская из рук корзинки, – и при этом очень постаралась, чтобы из-под юбки высунулось колено, оголилось бедро, а весь перед платья распахнулся. В этом положении она просидела, по ее прикидкам, вполне достаточно, а потом робко заглянула снизу в лицо художника.
А тот на нее даже не смотрел.
– Ох, ну ебать-и-красить, – произнесла она по-английски, ибо считала этот язык наиболее приспособленным для ругани. – Ты на меня, блядь, даже не смотришь. Ты что – педрила?
– Что? Что? – вскинулся художник. – Юной девушке не полагается так себя вести – эдак выставлять напоказ свое тело. Тебе стоит почитать проповеди Савонаролы, дамочка.
– Ты их читал, что ли? – Она вскочила и схватила корзинку. – Ну конечно, читал, куда деваться. – И опрометью выскочила из мастерской.
Красовщик был прав: ни черта хорошего не выйдет из этого Гутенбергова новомодного изобретения, печатного пресса. Ебаные германцы со своими фантазиями.
Назавтра, когда Микеланджело оторвался от работы, перед ним с корзинкой красок стоял молодой человек, еще почти что мальчик. На сей раз маэстро выказал чуть меньше пренебрежения. Вообще-то в облике молодого человека Блё вдохновляла его не одну неделю, пока он писал эти алтарные образы, а также картины поменьше, которые счастлив был принять в оплату Красовщик. Они даже вернулись вместе с маэстро к нему во флорентийскую мастерскую. А через месяц все пошло прахом.
– Я не могу заставить его писать, – сказала Блё Красовщику.
– А те две большие картины, что он делал?
– Не хочет заканчивать. Отказывается даже касаться синей краски. Она-де его отдаляет от Бога. Говорит, в ней что-то нечестивое.
– Но с тобой в постели ему хорошо?
– И это кончилось. Все шарлатан Савонарола. Он всех художников города в кулаке держит.
– Покажи ему старые Афины или Спарту. Те были набожны и любили имать друг друга в гузно. Ему понравится.
– Я не могу ничего ему показывать, если он не пишет. А писать он не собирается. К нему в мастерскую только что притащили здоровенную глыбу мрамора, я раньше такой и не видела. И подмастерья теперь меня даже близко не подпускают.
– Я сам к нему схожу, – сказал Красовщик. – Я заставлю его писать.
– Ну еще бы, – заметила Блё. – Что может пойти не так с этим планом?
К Микеланджело Красовщик пробился лишь через несколько месяцев – и то, лишь убедив подмастерьев, оберегавших маэстро, что он торгует не красками, а камнерезным инструментом.
Микеланджело стоял на лестнице – резал гигантскую статую юноши. Даже в этом грубом, неотполированном каменном эскизе Красовщик узнал натурщика. Им была Блё.
– Зачем такая большая голова? – спросил Красовщик.
– Ты кто? – спросил в ответ маэстро. – Ты как сюда проник?
– Торговец. Тыква у него громадная. Как у тех дурачков, что в монастыре жрут грязь.
Микеланджело сунул зубило в пояс и прислонился к статуе.
– Из-за перспективы. Если смотреть на него снизу, голова будет казаться идеальной. Ты здесь зачем?
– Ты ему поэтому елду такой маленькой сделал? Для перспективы?
– Она не маленькая.
– Если тебе маленькие нравятся, надо попробовать девчонок. У большинства елдаков так и вовсе нет.
– Пошел вон из моей мастерской.
– Я видел твои картины. Рисуешь ты гораздо лучше. Тебе надо рисовать. Фигуры на твоих картинах – не такие уроды, как этот.
– Он не урод. Он идеал. Это Давид.
– Разве ему не полагается нести с собой здоровенную голову?
– Вон! Анджело! Марко! Выкиньте отсюда этого черта.
– Черта? – ответил Красовщик. – На хуй черта. Черту я поручения даю. Черт мне пыль с мошонки слизывает. У Донателло Давид несет большую голову. Лучше, чем у Донателло, у тебя не выйдет. Ты должен писать маслом.
Микеланджело вперился в него с лестницы, сжав в кулаке молоток.
– Ладно, ладно, я пошел. – И Красовщик поспешил прочь из мастерской, подгоняемый двумя подмастерьями.
– Убедил? – спросила Блё.
– Он раздражает, – ответил Красовщик.
– Я тебе говорила.
– По-моему, все из-за того, что у тебя большая голова.
– Ничего она у меня не большая.
– Нужно найти такого художника, которому нравятся женщины. Тебе лучше женщиной.
И вот в Лондоне, в Национальной галерее Люсьен теперь стоял перед картиной Джозефа Мэллорда Уильяма Тёрнера, на которой трепало штормом пароход: то был гигантский вихрь красок и мазков – крохотный кораблик, казалось, заглатывала пасть чистой ярости.
– Вот где начинается подлинная живопись, мне кажется, – произнес Люсьен. – Вот где предмет сдается чувству.
Жюльетт улыбнулась.
– Рассказывали, он сошел с ума и привязался к мачте парохода, шедшего прямым курсом в снежный буран. Чтобы только самому посмотреть, как на самом деле движется шторм. Изнутри.
– Правда? – Интересно, подумал Люсьен, откуда простая модистка знает столько про живопись?
– Правда, – ответила Жюльетт. Неправда. Сам Тёрнер ни к какой мачте не привязывался. «Будет весело, – сказала ему она. – Не дергайся, я только этот узел поправлю».
В Лондоне они провели неделю и вернулись в монмартрскую мастерскую так, что никто и не заметил, что они уезжали. Люсьен вошел и рухнул ниц на рекамье. Жюльетт растирала ему шею, пока не удостоверилась, что он уснул, затем поцеловала в щеку и вытащила из его кармана ключ от сарая, чтобы запереть за собой дверь.
Выйдя в теплый осенний вечер, справа она заметила тусклый мазок движения. За ним – ослепительная вспышка, потом – ничто.
По всему кварталу лязгнуло, словно в засурдиненный треснувший колокол. Даже те немногие холостяки, что ужинали pot-au-feu в crémerie мадам Жакоб на другой стороне площади, подняли головы от своих говяжьих рагу и переглянулись. В глазах у них читалось: «А это еще что за херотень?»
А в проулке Жюльетт лежала у дверей сарая вполне без чувств. Весь ее лоб заплывал черно-багровым синяком.
– Маман, – сказала Режин. – Мне кажется, ты ее убила.
– Ерунда, все с ней будет прекрасно. Сходи посмотри, как там твой брат.
И мадам Лессар выпрямилась над поверженной натурщицей с тяжелой стальной сковородой для crêpes в руке.
– Может, ее внутрь хоть занести?
– Жиль вернется – тогда и занесем.
– Но маман, Жиль уехал на работу в Руан. Он только завтра дома будет.








