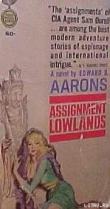Текст книги "Болезнь Китахары"
Автор книги: Кристоф Рансмайр
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 23 страниц)
Воздух! Вот в чем дело. Мотору не хватало воздуха. Он не мог продохнуть. Чадил, кашлял, пытаясь глотнуть кислорода, пока поршни не замерли без движения, а топливо сгорало так скверно, что высвобождалась одна лишь копоть, но не сила. Странно только, что на холостом ходу мотор не показывал никакого дефекта, не стучал, не чихал, не плевался черной сажей. Зато, если Беринг тянул за трос газа до упора, чтобы извлечь из движка всю его мощь, выхлопная труба выстреливала сгустком дыма. Именно тогда и разносился над озером лающий металлический кашель – и вместо того чтобы описать на воде кипящую брызгами богатырскую дугу, понтон вяло поворачивался на туго натянутой якорной цепи, словно демонстрируя камышовнику и затаившимся там чайкам, бакланам, белым цаплям и лысухам свой мертвый груз: вагонетки, полные коренной породы – зеленого, раздробленного в щебень, взорванного и разбитого гранита; это был щебень для насыпей и дорог, что где-то строятся и куда-то ведут, только не сюда, не к этому озеру, не в эти горные долины, не через перевалы Каменного Моря. Каждый камень этого груза, медленно кружащего под серым небом в ляйсском камышнике, напоминал о моорском бездорожье и оторванности от большого мира, о пустой железнодорожной насыпи, о грейдерах и проселках, по которым никуда не уйти.
Недуг машины Беринг установил, как только разжал крепежные кольца на воздушном шланге, который закачивал грязный наружный воздух в камеру фильтра, в бурлящее масло, откуда очищенный воздух всплывал в черных пузырях и впрыскивался в огонь цилиндров. Этот шланг соскочил с головки всасывающего циклона и, как ампутированный орган, провалился в металлическое нутро. Выудив его, Беринг обнаружил столь пустячную поломку, что паромщик, который как раз в эту минуту сворачивал самокрутку, настоящего ремонта вовсе не заметил.
Стоя спиной к ветру, паромщик прикрывал ладонью пламя спички и пытался закурить, когда машина неожиданно взревела во всю свою былую мощь. Порыв ветра дунул курильщику в горсть и погасил огонек. С удивленным возгласом, тотчас перешедшим в перхающий смешок, паромщик обернулся к Берингу.
– Как же это?.. Как ты его?..
Собачий Король сидел в рулевой рубке и едва приподнял голову, когда понтон начал рвать якорную цепь. Тень перепуганной стаи чаек скользнула по камышам и вагонеткам. Кильватерная струя вскипела пеной.
Беринг отпустил трос газа и в затихающем реве на миг отдался во власть того дивного, быстролетного чувства облегчения, которое охватывало его только после решения какой-нибудь механической проблемы, и ни удержать его, ни продлить было невозможно. В такие мгновения было безразлично, искал ли он решение часами, сутками или затратил на поиски всего-навсего несколько минут, – как только под его руками поврежденная механическая система опять начинала работать безупречно, он испытывал нечто сродни той победной легкости, какую угадывал лишь у взлетающих птиц. Ему бы только оттолкнуться от мира, и тот уплывет у него из-под ног.
Нынче на пароме все кончилось мелким вмешательством: дефект таился в воздушном шланге. Изоляционное покрытие на внутренней его поверхности начало отслаиваться и местами уже висело лохмотьями. В слабом воздушном потоке холостого хода эти лохмотья трепетали и развевались, не препятствуя сгоранию топлива, а вот на полном газу становились подобием заслонки клапана, которая, как ладонь, накрывала разинутую пасть воздушного фильтра и душила в цилиндрах зажигание.
Берингу даже не пришлось спускаться в лодку за инструментом, ящик так там и остался. Широкого лезвия складного ножа оказалось вполне достаточно, чтобы выскрести из шланга пересохшие лохмотья изоляции, а потом закрутить винты крепежных колец.
Понтон покачивался в камышах, готовый плыть дальше. Паромщик, стоя возле дощатой загородки, поминутно восклицал: Лучше, чем было . Мотор работал лучше прежнего. Но Амбрас, с виду безучастный, восседал в рулевой рубке на стопке пустых мешков и листал заляпанный соляркой фрахтовый журнал . Паромщик заспешил, ему не хотелось понапрасну терять время. Кашляя и отплевываясь, будто хворь машины после ремонта перекинулась на него, он скрючился над якорной лебедкой и поднял из озера железного паука. Беринг едва узнал изъеденную ржавчиной, облепленную ракушками штуковину. А ведь он и сварил этот якорь в первый год своего ученичества, сварил из траков разбитого танка, снабдив четырьмя железными щупальцами с крючьями на концах.
Когда этот цепной железный паук лязгнул о бортовую обшивку, Беринг увидел свое детище в черной оплетке дырявого взгляда, в трепетной оболочке из мрака, увидел сквозь эту тьму, как серебристые, тонкие струйки сбегают по сварным швам и каплями падают в озеро. Острия щупалец он тогда сам, без чужой помощи и подсказки, отковал в форме крючьев. А швы-то с огрехами. Теперь бы он заварил их куда лучше. Но времена «швейных» работ миновали. Наверняка и навсегда. Он был вооружен. И жил в Собачьем доме. Горн был потушен.
Не вставая с мешков, Амбрас бросал Телохранителю команды: Эй! Поди сюда. Слушай! Он, Амбрас, останется здесь. Есть кой-какие дела на пристани и в моорском секретариате. А Беринг пускай возвращается на виллу и опять займется шпингалетами и дверными замками, и – слышишь! – чтоб не совал нос в те комнаты, куда его не приглашали.
В голосе Амбраса не было уже ничего от той надломленности, что слышалась в нем во время рассказа, в лодке. Он опять звучал резко и холодно, как в дни покаянных сборищ на плацу или из мегафона в каменоломне.
– Я только запер ставню! – крикнул Беринг, перекрывая рев мотора, и спрыгнул в лодку. – Я ничего не трогал. Ничего!
Но Собачий Король говорил с Телохранителем так, будто сожалел, что в минуту слабости доверил ему не только тайну своего увечья, но и без вести пропавшую любовь. Говорил таким ледяным тоном, словно эта поездка в ляйсские камышники показала ему, что растрогать Телохранителя способна скорее уж сломанная машина, но не сломанная жизнь: после стольких речей, листовок и посланий великого Линдона Портера Стелламура, после несчетных покаянных и поминальных церемоний в глухих приозерных деревушках и на Слепом берегу этот первый и единственный из моорских мужчин, которого Амбрас удостоил своим доверием, тоже предпочел слушать стук и грохот машин, а не голос памяти.
ГЛАВА 20
Игрушки, простои и разорение
Ранней осенью этого года и во время уборки свеклы в октябре немногочисленные машины приозерья стали выходить из строя по причине всевозможных поломок. Намертво вгрызались друг в друга зубчатые ободья, ломались маховики, распредвалы и поршневые кольца, однажды утром даже стрелки больших часов на пристани, звякнув, отвалились от циферблата и канули в озеро; не щадил износ и простенькие обоймы для подвески труб, и шплинты, и регулировочные винты, и стальную ленту. То на лесопилке, то в свекловодческом товариществе, то на камнедробилке снова и снова приходилось на целые дни, недели, а порой и навсегда заменять якобы незаменимый грузовик воловьей упряжкой, а вконец изношенный транспортер – лопатами, тачками и голыми руками.
Машины! Год от года машины становятся все ненадежнее, говорили в пивнушке у пристани, в моорском секретариате и вообще повсюду, где заходила речь о простоях и о беге времени. Кто рассчитывает пахать тракторами и убирать урожай паровыми жатками, тому вскорости впору будет камнями питаться. Лучше уж кляча в хомуте – и вперед через поле по щиколотку в грязи, чем без горючего и запчастей, но на мощном тягаче...
Большие надежды, воспрянувшие было весной, когда спустили на воду «Спящую гречанку», не сбылись: «Ворона» Собачьего Короля так и осталась первым и последним лимузином, который громыхал по моорской щебенке. Рядом с прогнившими кабриолетами в гаражах давних господских дач стояли мулы и козы, а обитатели приозерья и все, кто поневоле жил под сенью Каменного Моря, по-прежнему добывали и свои машины, и запчасти к ним либо на свалках армейской техники, либо в «железных садах» вроде того, что глубже и глубже врастал в одичавшую землю на Кузнечном холме.
Новым в приозерье было и оставалось только старое: любой кусок металлолома, будь он хоть узлом завязан, хоть ржавчиной разъеден, надлежало поместить в масляную ванну, продраить щеткой, отшлифовать, выправить напильником и кувалдой и снова пускать в ход, пока износ вообще не поставит крест на использовании и не останется утиль, годный разве что на переплавку. «Железные сады» вокруг домов и усадеб неуклонно росли, но количество полезных запчастей в них столь же неуклонно убывало, а хаагская плавильня, единственная на все приозерье, давала низкосортный металл, который с очередной переплавкой еще больше терял качество и прочность.
Вдобавок и профилактический уход, и ремонт, и превращение лома в огненно-текучий расплав, который надо было отлить в новые формы, требовали сноровки и особого инструмента, каким располагали весьма немногие мастеровые. Каждый из них волей-неволей был и кузнецом, и механиком, и слесарем, а то и литейщиком; иные хуторяне дошли до того, что уже почитали их как этаких шаманов, которые, всего лишь починив дизель-генератор, могли поднять усадьбу в залитую электрическим светом современность, а могли и снова утопить ее в потемках минувшего.
Самым известным и популярным из этих механиков все еще оставался молодой моорский кузнец – по крайней мере до нынешней осени. Хоть он и отказался от своего наследства и скрылся в Собачьем доме, но в первые недели и месяцы новой службы был вполне достижим даже за колючим забором виллы «Флора», и его нет-нет да и вызывали чинить поломанные машины. Однако именно теперь, когда простои и аварии резко участились, он головы не поднимал, если кто-то окликал его через колючую проволоку: Кузнец, пособи, а?! С тех пор как стал чуть ли не сиамским близнецом Собачьего Короля и прямо на глазах у одного камнелома в карьере даже башмаки шнуровал этому армейскому шпиону и щеткой вычесывал пыль из волос, чертов кузнец и на имя-то свое не отзывался.
Окрестные машиновладельцы, в том числе ляйсские и хаагские, долго не оставляли попыток подарками и просьбами выманить его из виллы «Флора» обратно к верстаку, к горну и наковальне, обратно в «железный сад» высоко над озером. Сколько раз эти просители торчали у колючей проволоки виллы «Флора», с маковыми рулетами, с копчеными лещами, с большущими кусками шпика, с корзинами груш и грибов, поджидая, когда кузнец выйдет на веранду, подъедет на «Вороне» или появится на дороге от лодочного сарая, обок Собачьего Короля. Некоторые притаскивали в мешке сломанные детали своих машин и нарывались на собачьи зубы, когда норовили подсунуть эти штуковины на подъездную дорогу: может, кузнец хотя бы мимоходом бросит на них взгляд, а то и совет какой даст. Однако ж кузнец, которого теперь и паромщик, и работяги в каменоломне звали между собой Телохранителем , не поддавался ни на просьбы, ни на посулы. Только по особому распоряжению Собачьего Короля или когда проситель умудрялся уговорить Бразильянку замолвить о нем словечко, он изредка соглашался исправить какой-нибудь механизм. Всем прочим машиновладельцам кузнец категорически отказывал, иных гнал прочь, пригрозив, что спустит собак, а не в меру настырного солевара, который трое суток кряду караулил его утром на пристани, с электрогенератором от грузовика, он так резко оттолкнул, что бедолага оступился и навзничь рухнул в воду.
Беринг не желал больше заниматься железным хламом своих кузнечных лет. Конечно, страсть ко всякого рода механике была в нем неистребима, но запущенные моорские машины, эти мутанты, эти железные уроды, прошедшие великое множество переделок и за десятки лет ломаные-переломаные всякими руками и ручищами, демонстрировали ему теперь в первую очередь собственный его изъян: пристально и пытливо вглядываясь в разъеденные корпуса двигателей, в треснувшие головки цилиндров, в покрытые нагаром свечи зажигания, в намертво спекшиеся шестерни и ржавые шарниры, он больнее и горше, чем при любой другой работе, ощущал слепое пятно, дыру в своем мире.
Возможно, так происходило просто из-за того, что дни становились короче, из-за общей нехватки света или из-за прямо-таки несокрушимой облачности этих недель, но вместо причины механического дефекта, вместо болтов, пружин и отверстий он иногда видел только это неизбывное слепое пятно в своем глазу. Когда в такие часы еще и какой-нибудь нетерпеливый машиновладелец пялился ему через плечо и терзал расспросами о продолжительности ремонта, злосчастное пятно в глазу, бывало, расползалось тучей сажи. С каждым неудачным ремонтом, с каждой допущенной ошибкой – а такое случалось, когда машиновладелец наблюдал, как он глядит в пустоту и ощупью ищет крохотные детальки, – росла опасность, что дыра в его мире не останется тайной для других.
Только занимаясь своими собственными, хорошо знакомыми механическими созданиями, он не нуждался в свете дня, а тем паче в соколиных глазах. Сломайся «Ворона», генератор на вилле «Флора» или механизм пистолета, он вслепую отыщет любой изъян, распознает его просто по звуку – и вслепую же все исправит. За многие, многие часы филигранной механической работы он удлинил обойму пистолета, увеличив его огневую мощь до двадцати с лишним выстрелов, и слепое пятно ему при этом особых неудобств не доставило.
Ведь как ни малы были детали какого-нибудь механического устройства, над которым он тайком трудился в сарае Собачьего дома, – если тьма скрывала от него некое отверстие, он руками видел то, что нужно, или слышал ослабевшую пружину, люфт шарнира; зрение было тут без надобности. Ему казалось, будто нынешней осенью кончики пальцев день ото дня набирают чувствительности, а слух – безошибочной, подчас болезненной остроты, и поэтому он начал при каждом удобном случае надевать перчатки, а бурными октябрьскими ночами, когда вся земля вокруг стонала, гремела и выла, точно какая-то органическая машина, стал затыкать уши ватой и воском.
В иные дни, когда в одиночку громыхал на «Вороне» по взлетной полосе старого аэродрома и в мгновения наивысшей скорости отдавался иллюзии полета, он порой на несколько захватывающих секунд добровольно отрекался от зрительного образа мира, закрывал глаза и летел вперед в ни с чем не сравнимом восторженном упоении. Через четыре-пять ударов сердца он открывал глаза, у все той же облезлой черты ограждения, – слепого пятна словно и не было. Тогда взлетная полоса лавиной растрескавшегося асфальта, грохоча и бушуя, мчалась сквозь него, будто сам он был бесплотен, как воздух, который его нес.
Моор не узнавал этого кузнеца, этого Телохранителя: парень бросил на произвол судьбы свое наследство, и душа у него не болела, когда «сдохший» тягач ржавел на поле во время жатвы, зато он частенько находил время шастать на «Вороне» в Самолетную долину и пускать на ветер солярку, гоняя взад-вперед по взлетной полосе. Кто-то из овечьих пастухов якобы видел однажды, как кузнец стрелял там наверху по шайке сборщиков цветного металла, которые налетели на него возле ангара и решили задержать – дубинками и железными прутьями: он, дескать, на полной скорости палил из открытого окошка по мародерам, обвешанным мотками кабеля и медного провода. Промазал, правда. Никого не ранил. Но стрелял не раздумывая. И неудержимо умчался прочь на своей «Вороне».
Каменотесы и камнеломы, которые на борту «Спящей гречанки» ежедневно переправлялись на Слепой берег, а вечером, на обратном пути, частенько глушили шнапс, только и судачили что о кузнецовом преображении, тема эта была воистину неисчерпаема: ясное дело, парню куда приятнее прокатить Бразильянку на «Вороне» по набережной или доставить ее от водолечебницы к Собачьему дому и обратно, это вам не горн раздувать. Бразильянка вертит мальчишкой как хочет. К празднику урожая он ей, вишь ты, ветрячок поставил на крыше метеобашни, да не простой, а с музыкой: в зависимости от силы ветра эта штука вызванивает на металлофоне первые три такта трех разных песен и вдобавок зажигает ветроупорную лампу. Или вот ночью в канун Дня поминовения усопших запустил над виллой «Флора» электрического змея – хитрое устройство из планок, проводов и парашютного шелка повергло в панику процессию кающихся, которые с поминальными свечами шествовали вдоль камышовых зарослей, и довело собак до полного исступления. От их воя, считай, половина Моора до утра глаз не смыкала. А еще дня через два-три среди сосен в парке Собачьего дома шныряли механические куры не то фазаны из бумаги и проволоки – игрушечные птицы!
Этот ненормальный в игрушки играл на вилле «Флора», меж тем как моорские машины одна за другой выходили из строя и останавливались, даже механизм потерявших стрелки пристанских часов превратился в уляпанную птичьим пометом голубятню. А Собачий Король еще и полную свободу действий ему предоставил: и «Вороной» он распоряжается, и пропуска подписывает, и над работами в карьере иной раз надзирает, а управляющий знай посиживает на складном стуле возле конторского барака и горы в бинокль обозревает.
Но где бы в Мооре ни заходила речь о кузнеце и его преображении, непременно возникали споры по поводу того, кто же довел его до этих безумств. Бразильянка, твердили одни, Бразильянка, больше некому, она ведь пускала его к себе на метеобашню, а до сих пор моорские туда и соваться не смели. А лошадь, которую парень привел из кузницы в Собачий дом, кто у него выманил? Опять же она. Бразильянка эта. Только свистнет – он мигом тут как тут. Теперь вот она разъезжает на его лошади по своим контрабандистским тропкам, а мул тащится следом, с вовсе уж неподъемным грузом. Поди, хорошо расплатилась за лошадь-то! Ясное дело, от этакой платы и камнеломы, и каменотесы, и свекловоды не отказались бы.
Бразильянка? Ну что чепуху-то молоть! – говорили другие. По сути, сманил кузнеца с холма не кто иной, как Собачий Король, он один. Этот беглый арестант и сам ненормальный. Сперва сделал кузнеца аккурат таким же, как его кобели, коварным, нерадивым и злобным, а потом выставил его как заслон между собой и всем миром. И теперь... попробуй-ка даже просто поговорить с управляющим – не тут-то было! Мимо этого Телохранителя нипочем не пройдешь. Он, видно, должен ограждать хозяина не только от пьяных боевиков и мародеров, но вообще от всех , кто вздумает по дороге в каменоломню или в секретариат спросить о чем-нибудь или изложить жалобу.
Приозерная глухомань полнилась слухами и домыслами, но Амбрас не обращал на них ни малейшего внимания. Пускай Моор болтает, а если угодно, хоть мотыги себе кует из обломков «сдохших» машин – Собачьему Королю эти слухи были, как видно, столь же безразличны, как и простаивающая техника и вообще вся современность. Амбрас страдал не от современности.
Осень выдалась необычно холодная, сырая, и боль в плечах донимала его сильнее, чем при всех переменах погоды, случавшихся со дня пытки. Иной раз он был как парализованный – Телохранитель волей-неволей не только причесывал его, но и помогал ему одеваться и раздеваться. И даже когда горящие огнем суставы позволяли Амбрасу поразмыслить о странном поведении Беринга, он воспринимал отвращение, с каким парень в последнее время относился к ремонту до предела изношенной сельхозтехники, совсем иначе, нежели Моор, – он видел в этом признак растущего благоразумия, симптом затухания упрямой механической страсти, которая начиналась и кончалась на свалках. Пока Беринг держал на ходу генератор виллы и мотор «Вороны», а при необходимости и руки Амбрасу заменял, он был волен помогать приозерным машиновладельцам или гнать их взашей и мастерить ветрячки и подвижные модели птиц, а потом отдавать этих бумажных кур на расправу собакам – пусть дерут в клочья. Такие забавы порядку в Собачьем доме не помеха. Боль, боль в его, Амбраса, суставах – вот что по-настоящему разрушало этот порядок, а в первые ноябрьские дни даже грозило порой вконец его запутать.
Иногда Амбрасу помогала Лили. Если она приходила на виллу «Флора» в часы приступов, он соглашался, чтобы она опрыскала и растерла ему плечи спиртовой эссенцией из моховых спор, арники и ветреницы и тем погасила жгучую боль.
В такие дни Беринг видел не только метины пытки на обнаженной спине хозяина, лиловые полосы рубцов, старые следы палочных ударов и хлыста... Прежде всего он видел пожилого человека, мерзнущего в холодной кухне и страдающего от боли. А еще видел руки Лили, кружащие по этой испещренной шрамами коже, – это не были руки возлюбленной. Ведь при всей бережности прикосновений Лили просто помогала этому мерзнущему человеку, помогала, как и тот, кто вычесывал из его волос каменную пыль. Здесь не было ласки, только давняя дружба между Собачьим. Королем и его приятельницей с берега . Или не более чем сострадание?
Амбрас молча сносил все Лилины манипуляции, когда однажды морозным днем Беринг впервые увидел его таким поникшим, таким обнаженным на кухонном стуле. Держа в одной руке стеклянный флакон, а в другой – тряпицу, Лили как раз наклонилась над ним и капала на спину жидкость; тут-то и вошел Беринг. Бурыми, путаными струйками эссенция растекалась по Амбрасовым шрамам. Не колеблясь и не раздумывая, словно выполняя приказ, Беринг шагнул к Лили, взял у нее тряпицу и начал промокать ручейки на этой израненной спине. Лили остолбенела, но только на мгновение. Потом она кивнула, приняв помощь Телохранителя.
После этой внезапной, безмолвной послеполуденной близости Беринг начал мало-помалу отдавать себя во власть Лили. Он открывал ей свою тоску, вызываясь под всяческими предлогами то проводить ее из виллы «Флора» домой к озеру, то отвезти на «Вороне» до берега, или в Моор, или еще куда-нибудь. В надежде еще раз приблизиться к волшебству концертной ночи он предлагал ей все, что имел и чем мог распоряжаться, и теперь, вооружившись тряпицей, приходил ей на помощь всякий раз, когда она пыталась облегчить Амбрасу боль. Он сделал для нее защитные решетки на окна в нижнем этаже метеобашни, подковал мула, который по дороге через Ледовый перевал потерял две подковы, а когда Лили дней шесть-семь не появлялась в Собачьем доме, отвел к водолечебнице свою лошадь, привязал ее к перилам Лилина обиталища и крикнул наверх, что у него нет времени ходить за скотиной, с «Вороной» забот хватает, и поэтому лошадь он дарит ей. А увидев, как она восхищается подвижной моделью крыла хищной птицы, которую он показывал ей на веранде, к следующему разу приготовил новый сюрприз: в сосновой аллее на подходах к вилле навстречу Лили выпорхнул механический фазан.
Однажды, сопровождая Амбраса и моорского секретаря в инспекционном обходе, он нашел в развалинах гостиницы «Бельвю» металлофон. Секретарь вспомнил, что этот погребенный под кирпичными обломками музыкальный автомат когда-то до войны вызванивал отдыхающих к завтраку, обеду и ужину. Хотя закон о мародерстве касался и любого металлолома, найденного в развалинах, Амбрас позволил Телохранителю забрать эту штуковину с собой, а была она большая и тяжелая, вроде железной швейной машинки. За верстаком в сарае виллы «Флора» Беринг наладил музыку, потратив на это всего один вечер. Услышав непритязательный перезвон, Лили только посмеялась над душещипательными мотивчиками; тогда он еще много вечеров кряду колдовал над валиком, и в конце концов автомат стал наигрывать первые такты трех песен Паттоновского оркестра . Теперь Лили захлопала в ладоши и предложила в обмен бинокль – он даже заикнуться не успел, что это подарок.
Сделка состоялась, и металлофон водворился между стропилами метеобашни, но уже в виде хитроумно усовершенствованного механизма, который умел вызванивать и штормовое предупреждение: Беринг подсоединил металлофон к ветрячку, и в зависимости от силы ветра тот не просто включал мигалку, а еще и валик вращал, потому-то из руин водолечебницы звучали над озером те или иные песни. Штормовой сигнал был виден и на Слепом берегу, а музыка при восточном ветре долетала аж до ляйсских камышников.
После первых же октябрьских бурь Моор возненавидел этот перезвон. Мало того что он всегда предвещал ненастье, это бы еще полбеды, так ведь в нем громко, на всю округу, разносилось доказательство, что у Беринга вполне бы достало сноровки еще до белых мух наладить все поломанные машины. Но в эти холодные недели Телохранитель трудился для одной только Лили. Проведя без сна две-три ненастные ночи, Лили попросила отсоединить металлофон от ветрячка и установить его в комнате, на большом кофре под картой Бразилии, точно на алтаре. Беринг сделал как велено.
В половине ноября иные из деревенских машиновладельцев решили обойтись своими силами и начали растаскивать заброшенный «железный сад» и запчасти из мастерской на Кузнечном холме. Они совали старому кузнецу копченую рыбу, шнапс и плесневелый табак, а не то образки Девы Марии и святые реликвии для его жены, помешанной на Богоматери, – и забирали смазанные подшипники, наборы шурупов и болты из нержавейки. Кузнец, ощупью бродивший по дому за такими визитерами, усматривал в этой меновой торговле, которую вел с полнейшим отсутствием деловой хватки, прежде всего кару для наследника: вот и пускай все его добро, все эти бесценные запчасти пропадут пропадом, разойдутся среди всяких там скотников да щебенщиков!
Сборщики металлолома живо пронюхали, что старик берет в обмен за железо все, что ни дай. А он напивался выменянной рябиновки и спирта и потом, сидя на наковальне, часами распевал солдатские песни; копченую рыбу, образки Девы Марии, посеребренную ключицу какого-то мученика и прочее он относил в подпол, жене. Кузнечиха в путах своих четок сидела на глинобитном полу, с пьяным не разговаривала, ни к реликвии, ни к рыбе не прикасалась. За ночь крысы либо куницы утаскивали гостинцы.
Когда Лили с благотворительными пакетами из виллы «Флора» раз в месяц поднималась на Кузнечный холм, в этих пакетах там словно бы и нужды не было, кузнец знай только громко рассуждал сам с собою. Видеть ее он не видел, да и слушать давно не слушал, хоть она с ним, бывало, и заговаривала. Иногда в кладовке обнаруживались пакеты прошлого месяца – так и лежали нетронутые. Раз по десять, а то и больше повторяла она какой-нибудь свой вопрос, тогда только старик наконец отвечал, говорил: Все путем, ничего не надо, все у нас есть, барышня. Спасибо, что зашли... (Пускай эта Бразильянка видит, что человеку, прошедшему Сахару и войну, ничего не надо от убийц и перебежчиков, пускай доложит там, в Собачьем доме, что последний моорский кузнец, не в пример своей полоумной жене, ничегошеньки от наследника не ждет.)
Полки с запчастями быстро пустели, а «железный сад» растащили еще до первого снега. Под конец даже наковальня исчезла в тележке сборщика металлолома. Кузнецу было все равно. Хоть растаскивай усадьбу по винтику, как сломанную машину, – наследник-то не вернется. В доме царил ледяной холод. Куры иногда несли яйца в хворосте, который без дела лежал в дровяном ларе. Плиту сутками не топили.
Когда последняя попытка уговорить жену выйти из потемок закончилась неудачей, кузнец махнул на все рукой, а в итоге бросил топить и железную печурку, которую за неделю до Рождества сам же оттащил в подпол. Там внизу, в глубине, воздух как бы не испытывал температурных колебаний, словно вода на дне озера, – летом он не раскалялся, в мороз не остывал, хотя, несмотря на суровую зиму, когда быстрые горные речки и те замерзли, а хаагский водопад превратился в этакий памятник самому себе, кузнецу иногда казалось, что во тьме подпола становилось день ото дня теплее, день ото дня приятнее. Спускаясь туда, чтобы наполнить женин кувшин водой, а продуктовую корзинку – съестным, он, бывало, с полчасика и поболе сидел на корточках между бочонками и слушал, как жена шепчет свои молитвы. И чувствовал тогда уют и тепло, наверху -то он об этом давно уж забыл, в этом снежном свете, который виделся ему всего лишь чугунно-серым отблеском.
Когда под Новый год он три дня лежал хворый, в жару, и куры в поисках корма топтались по его перине, какой-то сердобольный посетитель протопил в горнице изразцовую печь.
Старик что-то невнятно бормотал, но посетитель так и не понял, с какой стати нужно тащить в подпол воду и хлеб, однако ж в уплату за то, что протопил печь, прихватил три бутылки шнапса, коробку подковных гвоздей, топор и овчинный полушубок, а на прощание рассказал болящему, что во время налета бритоголовых был убит моорский угольщик.
– Знали бы эти плешаки, что ты тут один-одинешенек за печкой лежишь! – говорил посетитель. – Скажи спасибо, что они про это не ведают. Собачий Король велел облаву устроить на мерзавцев, радиограмму на равнину послал, а Телохранителя отрядил на собрание, чтоб объявил всем: мол, карательная экспедиция на подходе...
Кузнец не очень-то понимал, о чем ему рассказывают, но согласно кивал.
Через десять дней после кремации угольщика – она была совершена по обряду общины кающихся перед каменными буквами Великой надписи и закончилась развеиванием пепла над озером – на моорской набережной появилась армейская колонна в белых маскхалатах. Во время состоявшейся перед секретариатом церемонии подъема флага Беринг насчитал больше восьми десятков солдат. Базовый лагерь, как обычно, разместился в руинах гостиницы «Бельвю», и в ближайшие дни большие и малые отряды прочесывали округу. Угольщиковых убийц они, правда, не нашли, но в заброшенных соляных копях под Ляйсом взяли под стражу семерых бродяг, а у лесной дороги в Самолетную долину совершенно случайно обнаружили склад боеприпасов, оставшийся с военных лет: многие тонны забытых артиллерийских снарядов, ручные противотанковые гранатометы и мины из арсеналов врага, побежденного десятилетия назад. Вход в пещеру был запорошен снегом и почти не виден под слоем промерзшей земли, а расчистили его только потому, что не в меру бдительный сержант принял обледенелый лисий капкан у обочины за взрывное устройство и поднял тревогу.
С согласия Амбраса и вопреки протестам моорского секретаря, который опасался непредусмотренного ущерба и пострадавших, капитан, осуществлявший командование карательной экспедицией, приказал взорвать этот склад, и целых три дня по заснеженным улицам Моора, гремя цепями противоскольжения, разъезжал армейский джип. Из укрепленного на крыше динамика беспрерывно тарахтели военные марши и предупреждение, что двадцать второго января, в одиннадцать ноль-ноль, произойдет большой взрыв и ожидается мощная ударная волна. Окна следует выставить или хотя бы открыть, а оконные проемы забить досками; самим же моорцам лучше всего укрыться в подвалах и иных убежищах. Размеченный красными флажками пустырь от опушки леса до окраинных домов Моора весьма опасен, поскольку ударную волну там ничто не гасит, и по этой причине объявляется запретной зоной – доступ туда категорически воспрещен. Если к моменту взрыва кто-нибудь окажется на открытом месте вблизи этой зоны, ему необходимо лечь в снег и открыть рот, во избежание разрыва барабанных перепонок.