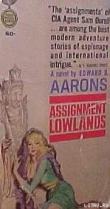Текст книги "Болезнь Китахары"
Автор книги: Кристоф Рансмайр
Жанры:
Современная проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 23 страниц)
Под засохшей пальмой у окна стоял рояль, который уже десятки лет никто не открывал. На него был наброшен маскировочный брезент, заваленный стопками бумаг, одеждой и книгами. Одно из латунных колесиков на точеных ножках рояля отломалось – не иначе как при попытке выкатить трофей из салона. Следы этой попытки глубокими царапинами избороздили паркет. С тех пор инструмент стоял чуть наперекос, и сдвинуть его с места было невозможно.
Рояль да шкаф – вот и вся мебель. Ни стула. Ни стола. Ни кровати. Голые стены. В эркере, где раньше был диван, лежали матрацы, армейские одеяла и несколько подушек, а рядом – небрежно свернутые географические карты, военные журналы, исписанные листы бумаги.
Беринг на манер легавой собаки чуть что не обнюхал смятую постель – подушки, колючие одеяла, снял с простыни несколько волосков, присмотрелся к ним на свету, однако же здешние запахи ничем о Лили не напоминали, не пахло тут ни ее духами, ни кожей плетеных браслетов, ни сине-алыми пучками перышек на плечах ее куртки, ни тем дивным духом камышей, дыма и лаванды, каким веяло от ее волос. Он бы учуял даже едва уловимый его след.
Волосы на простыне оказались собачьими. И воняло здесь только псиной. Неужто на этой постели и правда спали одни собаки, согревая ночами своего Короля? Не комната, а сущее логово. Псарня.
Странно, глядя на Амбраса, не скажешь, что он живет в такой мерзости запустения. На своей одежде он не терпел ни потертостей, ни пятен. Раз в неделю Беринг отвозил в Ляйс целый мешок грязного белья. Там одна женщина, работавшая на обжиге извести, чинила, стирала и гладила одежду Собачьего Короля – за два куска мыла или пакет растворимого кофе. (Беринг любил эти бельевые поездки , потому что тогда Амбрас на несколько часов отдавал «Ворону» в полное его распоряжение и не спрашивал потом, куда еще он ездил – скажем, в горы, в безлюдную Самолетную долину, а там, словно во хмелю, по взлетной полосе.)
Если Лили вообще бывала в этой псарне, следов она не оставила. Рассохшиеся дощечки звездчатого паркета дыбились под ногами у Беринга и со звонким щелчком падали на место. Собаки сидели возле двери, на свету, и в ответ на каждое движение незваного гостя прядали ушами. Беринг бродил в убогой пустоте, избегая глаз стаи. Ему было стыдно. Он сейчас обманывал человека, который вызволил его из кузницы. Обманывал хозяина. Но ведь ему нужно было подтвердить либо развеять подозрение, точившее его жизнь.
Исписанные листы, которые он нашел на рояле и возле постели, содержали одни только вычисления, длинные столбцы цифр – и ни единого слова. Что до большинства книг – английских романов и английских же трудов о войне, – так он даже заголовки не сумел разобрать. И сколько ни встряхивал и ни ощупывал одежду на рояле – летную куртку, просмоленный дождевик, застиранные джинсы, – из карманов не выпало ни малейшей улики тайной любви. Пыль дорог и пыль каменоломни, вот и всё.
Теперь шкаф. Шкаф! За каждой узорной птицей, в каждом ящичке Беринг обнаружил выложенное марлей и ватой гнездышко, а в нем – камни, ничего, кроме камней: необработанные изумруды, аметисты, розетки пирита, розовые кварцы, опалы и осколки нешлифованных рубинов, тускло-багровые, точно свернувшаяся кровь, на белом фоне. Такие находки привозила с гор сюда, в приозерье, только Лили, но она сбывала свои камни любому, кто предлагал за них достаточно денег или менового товара. На узких, в палец шириной, ярлычках были указаны лишь названия камней, место находки, дата меновой сделки. На некоторых Амбрас пометил и во что они ему обошлись: 6 топографических карт, масштаб 1:25 000; 1 флакон йода; 3 карбидные лампы; 1 патронная лента. Зачем Лили понадобились шахтерские лампы? А патронная лента?
Только когда Беринг оставил шкаф и, ползая на четвереньках по постели, открывал и закрывал разбросанные среди подушек книги, поднимал одеяла и даже разостланные под матрацами (чтобы уберечься от сырости) картонки: вдруг найдется-таки какой-нибудь спрятанный или утерянный знак? – он наткнулся на эту фотографию. Она лежала у самой стены, оборотом вверх, и там была надпись. Беринг взял снимок, поднес к свету – на простыню дождем посыпался песок и чешуйки побелки. В зубчатом краешке фотографии торчал гвоздь, которым она была прибита к стене в изголовье постели. Там легкой тенью еще виднелись ее контуры. Стена, усеянная пятнами сырости и кристалликами селитры, была такая рыхлая, что гвоздь выломался из штукатурки – то ли от сквозняка, возникшего, когда Беринг вошел в комнату, то ли просто под тяжестью бумаги.
Беринг долго, очень долго не переворачивал фотографию, потому что надпись на обороте, крупные, размашистые буквы, была сделана рукой Лили. Наверняка рукой Лили. Вот она, улика, а он не смеет посмотреть на нее.
Северный полюс, пятница.
Целый час ждала тебя во льдах.
Где ты был, милый?
Не забывай меня.
Л.
Не забывай меня. Л.
Лили.
Когда же Беринг наконец медленно, словно решающую карту в игре, перевернул фотографию, он увидел лицо совершенно незнакомой женщины. Она смеялась. Стояла в снегу и махала рукой незримому фотографу.
У Беринга точно гора с плеч свалилась, и в своем удивлении он не услышал, что собаки у двери поднялись и, даже не тявкнув, выбежали наружу. Так, молчком, они устремлялись только навстречу своему Королю.
Беринг не услышал шагов в коридоре, не увидел тени, упавшей в дверной проем. Стоя в этом собачьем логове, спиной к миру, он рассматривал тронутый плесенью снимок.
Это была молодая,
смеющаяся
и совсем незнакомая женщина.
ГЛАВА 19
Смеющаяся женщина
В каком году выпал этот снег? Кому эта женщина смеялась? Кому так радостно махала рукой? Амбрасу?
Амбрас.
Беринг сам едва не рассмеялся, когда положил фотографию на смятую постель и присыпал ее щепоткой побелки и песка, чтобы все осталось как было. Потом отошел к черному окну и еще раз проверил запор, словно громыхающая от ветра створка была единственной причиной, которая побудила его зайти в это песье логово, словно ничего другого он здесь и не делал.
Внезапно холодный металл шпингалета, точно раскаленная кузнечная болванка, обжег ему пальцы, и он отдернул руку, услышав голос:
– Добрый день, сударь.
Амбрас говорил медленно, как бы скованный огромной усталостью, говорил ему в спину.
Беринг обернулся.
Амбрас стоял в дверном проеме, человеческая тень в белом прямоугольнике, а позади толпились собаки, отирались о его ноги, не решаясь войти, ведь и Король остался на пороге.
– Вы... вы уже вернулись?
– Знаешь, как в лагере поступали с тем, кто рылся под тюфяком товарища? – услышал Беринг голос тени. – Просто рылся , понимаешь? В поисках хлеба, курева, картофелины, вообще чего-нибудь такого, что можно сожрать или хотя бы выменять на жратву. Ему устраивали темную, – продолжала тень, – накидывали на голову одеяло. А потом каждый узник мог лупцевать этот узел, пока не иссякнет ярость или силы или пока старшой не велит перестать. В моем бараке, милок, это была ярость сотни с лишним мужчин... Но сколько бы человек его ни лупили – сто или только тридцать-сорок, – охрану он не звал, понятно? Охрана приходила, когда хлебокрад был уже так избит, что не мог выйти на перекличку. Вот когда приходила охрана. Я видел, как они приходили, милок. Видел, как они за ноги волокли избитого на плац. Мы стояли там в снегу. Длинной шеренгой стояли в снегу, по стойке «смирно», и хлебокрад должен был ползти мимо нас к крематорию... Они заставили его ползти, ползти у наших ног по снегу, словно крематорий был для него спасением . Идти он уже не мог. А охранники все время рядом с ним, и над ним, и следом за ним, подгоняют пинками и прикладами; у одного еще и бич был в руках. Но у крематория щелкнул вовсе не бич. За сугробом хлебокрад исчез из виду. Последнее, что я видел, были его белые подошвы. Он полз босой... А ты? Что ты здесь ищешь, милок?
Беринг взялся за шпингалет ставни. Железо опять было холодным, как раньше, в тишине до возвращения хозяина. Железо сказало ему, что он успокоился. Он отвернулся от тени и отпустил шпингалет. Ставня распахнулась. В логове стало светло. Тень на пороге превратилась в Собачьего Короля, который вскинул руку, словно заслоняясь от света. Потом тяжелая ставня грохнула по стене.
– Ничего я не ищу. И ничего не крал. Ставня. Она была открыта. И хлопала от ветра. Вы забыли запереть ее перед уходом. Грохот было слыхать аж в лодочном сарае. Я ходил туда за напильником, услыхал грохот и сперва было подумал: вор! – но сразу же вспомнил про собак. Собаки наверняка бы его сцапали. А оказалось, ставня тут громыхает. Ну я ее и закрыл.
С какой легкостью слова, лживые слова слетали с губ. Он врал, хотя понятия не имел, как долго Собачий Король простоял в дверях, наблюдая за ним. Может, Амбрас видел, как он выдвигал ящички птичьего шкафа, как разглядывал гнездышки с камнями? А может, видел и как он поднял фотографию незнакомки и положил ее на прежнее место, присыпав песком и побелкой?
Беринг не задумывался об этом. Просто говорил . Врал. Рассказывал, что собаки чуть не бросились на него, когда он открывал дверь музыкального салона, хвалил их бдительность, а потом добавил:
– Мне что, в другой раз дожидаться, чтоб ветер все тут переколотил?
Он чувствовал себя вполне уверенно. С каждым словом Амбрасова рассказа о хлебокрадах, о «темных» и шеренге узников в снегу его уверенность только росла. Амбрас ему поверит. Собачий Король так глубоко увяз в своих воспоминаниях, что забыл о нынешней реальности, видел только хлебокрада, а ведь Телохранитель искал в давнем музыкальном салоне улики тайной любви.
– Зачем же ты отпустил шпингалет, если только что его закрывал? – сказал Амбрас. – Запри ты наконец эту окаянную ставню.
Пожалуйста, можно и запереть.
– А теперь тащи свой инструмент. Надо ехать...
– Я хотел спросить у вас... Можно? Амбрас молчал.
– Почему вы вернулись?
– За тобой, – сказал Амбрас. – Паром стал на якорь в Ляйсской бухте, мотор скурвился, не тянет.
– Паром? Я... я имею в виду не сейчас, не сегодня. Я хотел спросить... почему вы вернулись сюда . На озеро, в Моор. В каменоломню.
Беринг уже было решил, что чувство уверенности обмануло его, испугался, что зашел-таки слишком далеко, и вместо ответа ждал грубого окрика, но Амбрас после долгого молчания вдруг наклонился к одной из собак, взял в руки ее морду, приподнял пальцами губы, будто проверяя клыки, а потом сказал, больше собаке, чем Телохранителю:
– Вернулся обратно , в каменоломню? Я не возвращался. Я был в этой каменоломне, когда в первые годы стелламуровского режима скитался среди развалин Вены, или Дрездена, или какого-нибудь еще до основания разрушенного города. Я был в этой каменоломне, стоило мне хотя бы просто услышать лязг молотов и долот или просто увидеть, как кто-то идет по лестнице с грузом на спине – хотя бы с рюкзаком картошки. Я не возвращался. Я никогда отсюда не уезжал.
Амбрас отпустил собаку, выпрямился и невидящим взглядом посмотрел Берингу в глаза – Телохранитель без труда выдержал этот взгляд.
– Ну, давай. Тащи инструмент. Паром снесло в бухту чуть не с середины озера. Машина только плюется да чадит и не тянет даже против самого слабенького течения. Паромщик понять не может, в чем дело.
– А вы? Вы-то как добрались до берега?
– Рыбак один подвез. На плоскодонке. Минувшей ночью они взяли в Ляйсской бухте больше рыбы, чем за последние две недели.
Ящик с инструментом казался Берингу в этот день легким, как пушинка, хотя обычно он с трудом дотаскивал его до транспортера в каменоломне, и до машинного отделения «Спящей гречанки», и до дизеля в сарае виллы «Флора». Портрет незнакомой женщины снял с его плеч такую тяжесть, что все ему было сейчас легко. На время он даже про дыру во взгляде забыл. Тем не менее по дороге к лодочному сараю он молчал и, только сделав сотни две гребков, рискнул опять воспользоваться новой, диковинной свободой и продолжить разговор, выходивший за пределы привычных каждодневных вопросов, которые затрагивали лишь внешнюю сторону жизни. Проникнув в «песье логово», он как бы одновременно проник и в сокровенное нутро своего хозяина и теперь вправе двигаться там столь же безнаказанно, как в сумраке музыкального салона. По дороге в Ляйсскую бухту, равно как и во всех прочих совместных поездках на лодке, хозяин и работник сидели спиной друг к другу, каждый сам по себе: Амбрас – на носу, на ящике с рыболовными снастями, устремив взгляд вперед, к Ляйсской бухте, где, еще незримый, стоял в камышах понтон. Беринг горбатился на веслах. Налегая на них, он смотрел назад, на моорский берег, на лодочный сарай, на причальный бон. С каждым гребком оставшиеся там псы делались все меньше и меньше. Разочарованный их лай как бы мало-помалу переходил в далекий, слышный только в коротких паузах между ударами весел хрип чихающего дизеля.
Хозяин и работник не видели друг друга и на протяжении двухсот с лишним гребков ничего друг от друга не слышали. Но когда Беринг наконец высказал вопрос, который до этого часа и по многим поводам произносил только мысленно , ему почудилось, будто собаки застыли и уже не уменьшались, хотя лодка скользила по озеру все дальше.
– Почему, – спросил Беринг в пустоту удаляющегося моорского берега, – почему вас тогда упрятали в лагерь?
Он говорил громко, говорил в плеск весел и волн, которые стихающий ветер швырял в борта. Беринг хотя и не оглянулся на Собачьего Короля, но отчетливо видел его перед собой: Амбрас опустил одну руку в струящуюся назад воду; Телохранитель чувствовал с правого борта легкое противодействие, каким даже столь маленькая лопасть, как ладонь, замедляла ровное скольжение. А вот теперь Амбрас вытаскивает руку из воды – Беринг услышал чмоканье капель, противодействие стало слабее, исчезло совсем.
«Почему вас тогда упрятали в лагерь?» В лагерь. Почему людей вообще хватали в квартирах, комнатах, садах или каких-нибудь уединенных прибежищах в глуши и упрятывали в лагерь? Почему полумертвые от голода строительные отряды поставили возле камнедробилки и в других карьерах ровные ряды бараков, а прямо за ними крематории?
На почти забытых уже викторинах и в часы вопросов и ответов , которые проводились на моорском плацу по случаю каждого стелламуровского праздника, днем раньше и днем позже, офицер информационной службы постоянно талдычил такие вопросы в мегафон и писал их на огромной грифельной доске. За правильный ответ – его тоже надо было отбарабанить в мегафон или написать мелом на доске – любой из участников этих мероприятий мог получить выигрыш: пачку-другую маргарина, пудинг-полуфабрикат или блок сигарет без фильтра. Даже и теперь изрядно поредевшая община каждую пятницу собиралась в моорском секретариате послушать радиопередачу, в которой вперемежку с музыкальными заставками и докладами по военной истории задавали все те же давние вопросы. Тот, кто, черкнув давний ответ на открытке полевой почты, посылал его в адрес этой армейской радиостанции, становился участником лотереи, сулившей мелкие выигрыши и даже поездки в дальние зоны оккупации. Курьер, раз в неделю отвозивший почту из Моора на равнину, был обязан доставлять такие открытки бесплатно.
Беринг тоже, бывало, тайком заполнял для матери такие открытки (отец не должен был об этом знать) и относил их в секретариат; как-то раз он даже выиграл каталог американских лимузинов, а в другой раз – талон на посещение бейсбольного матча в самой большой равнинной казарме. Но отец не допустил, чтобы его сын или вообще кто-то, кем он мог командовать, разъезжал в воинских эшелонах его прежних врагов. Талон по сей день лежал вместо закладки между цветными иллюстрациями и схемами двигателя в том выигранном каталоге – единственной книге, которую Беринг принес из кузницы в Собачий дом.
Почему вас тогда упрятали в лагерь? Здесь, в лодке, посреди озера и в виду Слепого берега, вопрос этот странным образом прозвучал не как в радиовикторине; на вопросы викторины любой из моорцев мог ответить хоть во сне.
Беринг частенько видел Собачьего Короля в бешенстве, однако не замечал, чтобы он когда-нибудь повышал голос и уж тем более орал. Амбрас и теперь не орал, но первые фразы его ответа прозвучали так яростно, что рыболов, пересекавший на некотором отдалении их курс, с любопытством поднял голову.
– Потому что я сидел за одним столом с некой женщиной и спал с нею в одной постели. Потому что проводил с этой женщиной каждую ночь и не собирался с нею расставаться. И потому что я пальцами расчесывал ей волосы. Они были длинные, волнистые, а моя рука в ту пору, видишь ли, еще не утратила подвижности. Ничто и никогда не скользило так сквозь мои пальцы, как эти волосы. Позднее я видел такие только в лагере, в помещении, где были кучей свалены льняные мешки с отрезанными косами, локонами, прядями – сырьем для матов, париков, матрацев и Бог знает для чего еще...
Тогда, в ту ночь, я тоже расчесывал ей волосы, а она спала и не просыпалась от моих прикосновений. Уже развиднелось, но до рассвета был еще целый час, а может, и больше, мы лежали в постели, я как раз подумал, что надо бы закрыть окно – голуби во дворе очень уж расшумелись; и тут начался этот крик, стук и молотьба по двери – будто камнепад: Открывайте! Немедленно!
Амбрас говорил уже так тихо, что Беринг перестал грести и обернулся. Собачий Король ссутулясь сидел на носу, на ящике с рыболовными снастями, и говорил куда-то в воду – и на обтрепанной зелени его куртки, прямо под лопатками, большое, заметное, плясало Берингово слепое пятно, дыра. Собачий лай на берегу смолк, а из ляйсских камышников уже совершенно отчетливо доносился и тотчас глохнул треск мотора.
– Только этот адский шум, ор и стук в дверь разбудили ее, – сказал Амбрас. – От испуга она так резко поднялась и села на постели, что прядка волос осталась в моих пальцах. Она вскрикнула от боли, и я крепко обнял ее, и сам как бы искал в ней опору, и думал: они ломятся не к нам, не в нашу дверь, и нужны им не мы, наверняка не мы. Я знал, что они всегда приходят на рассвете. Приходят, когда ты, погруженный в сон, совершенно беззащитен, приходят, когда ты далеко-далеко и все же куда доступнее, чем в любое другое время.
Ломать дверь им не понадобилось. Я тогда частенько забывал с вечера запереть ее. Так было и на сей раз. Они просто (просто!) нажали на дверную ручку – и очутились посреди нашей жизни. Четверо. Все в форме. А у нас только простыня. Больших усилий им стоило оторвать нас друг от друга. Они лупили нас резиновыми дубинками по голове, по плечам и орали: Господин Амбрас в постели с жидовской шлюхой! Ах ты мразь! С жидовской свиньей трахаешься!
Она не проронила ни слова. Потеряла дар речи. Ну, не знаю, будто и не дышала, как изваяние. Последнее, что я слышал из ее уст, был тот болезненный вскрик, когда она резко подскочила и у меня в руках осталась прядка ее волос. Они били нас, в восемь кулаков, в восемь рук, силясь оторвать друг от друга. Но она не проронила ни слова. Только смотрела на меня. Я плохо видел, кровь заливала глаза. Они вытолкнули ее на кухню, швырнули вслед ворох одежды. Пускай оденется, будет готова . Платья валялись повсюду – на стульях, на диване. До поздней ночи у нас была съемка, для одной текстильной фабрики. Свет, камера – все еще стояло здесь.
Она позировала мне в каждом из этих новых платьев, и увезли ее, наверно, тоже в одном из них; я точно не знаю. Ведь когда она вышла из кухни и наклонилась за туфелькой, один из этих за волосы рванул ее вверх и гаркнул: Жидовские шлюхи ходят босиком! В этот миг остальные упустили меня из виду. Пинками и затрещинами они сбили меня с ног, но я кое-как поднялся на четвереньки, из последних сил схватил штатив фотоаппарата и треснул этого мерзавца по коленкам. Я успел увидеть, как ее волосы выскользнули у него из кулака. А потом у меня на лбу что-то взорвалось. Очнулся я уже в камере, под маской из засохшей крови, по-прежнему без одежды.
Каким маленьким, прямо-таки хлипким казался Телохранителю в эти минуты понурившийся, ушедший в себя Амбрас. Собачий Король, могущественный, наводящий ужас на весь Моор, словно бы вновь превратился в давнего, довоенного, долагерного фотографа – пейзажиста и портретиста, остаться которым ему было не суждено.
– По-моему, она вышла из кухни в красном платье, – сказал Амбрас, впервые за все время оглянувшись на Беринга, – и было это, по-моему, одно из тех летних платьев, в которых она не любила сниматься: на ее вкус, они были слишком крикливы. Красное платье... Возможно, мне так почудилось, от крови, заливавшей глаза. Все было красное. Все капало. Все растекалось. В ту пору только и знай твердили насчет крови – кровосмешение, нечистокровный, чистокровный, кровавые жертвы. А мне эта кровь попросту заливала глаза.
– А эта женщина? Где она теперь? – спросил Беринг и подумал о Лили. Он все время думал о Лили, видел, как она в красном платье выходит из темной кухни, как подонок в мундире дергает ее за волосы.
– Лишь через три года я смог начать поиски, – сказал Амбрас. – Через три года и четыре лагеря я смог наконец вернуться туда, где мы потеряли друг друга. В американском полевом госпитале я, понятно, слышал о страшных бомбежках и о пожарах, которые бушевали в Вене, но совершенно не представлял себе, где еще можно начать поиски. И дом, в котором мы жили, и улица, и вообще весь город были грудой развалин.
Когда настал мир, я поначалу много копал – разыскивал черепки, одежду, эмалированную посуду, уцелевшие обломки нашей жизни, а уж потом искал только медный провод да латунь. Единственный след, который я нашел в картотеке Красного Креста, был адрес ее сестры. Эта сестра в свое время вышла замуж за этакого чистокровного , чистопородного кобеля и пересидела войну в каком-то швейцарском санатории. Ее розыски, как и мои, оказались беспомощны и безрезультатны. У сестры была ее фотография и письмо из лагеря в Польше. Но эта последняя весточка содержала давно знакомые фразы: Я здорова. Все у меня в порядке... Такие фразы писали по приказу. Мы у себя в бараке тоже их писали. Такие фразы писали домой даже те, кто назавтра сгорал в крематории. Все мы были здоровы. У всех у нас все было в порядке.
На фотографии была она – стоит в снегу и смеется. Из-за этого я поссорился с ее сестрой. Снимок принадлежал мне. Я сделал его зимой, перед ее исчезновением. Она стояла в снегу и смеялась. Снимок принадлежал нам , мне и ей. Не одну неделю он был воткнут в деревянную раму кухонного зеркальца. Как-то раз она использовала его вместо открытки, черкнула мне на обороте несколько слов. Все свои записки, даже самые простенькие, она писала не на листках бумаги, а непременно на каких-нибудь открытках или фотографиях, которые в изобилии валялись у нас повсюду. Однажды она умудрилась оставить мне «депешу» на яблоке: дескать, приду позже обычного. Этот снимок она, видимо, захватила с собой в то утро, когда ей швырнули на кухню ворох одежды, и к. сестре он попал вместе с письмом из лагеря. Я здорова. Все у меня в порядке.
Сестра не хотела отдавать снимок. А копию сделать негде: на весь квартал ни одной фотолаборатории. В конце концов выручил меня армейский фотограф из тех, что снимали тогда для стелламуровских фото– и киноархивов пустые бараки, печи и каменоломни. Он сделал нам копию, даже две – сестра потребовала переснять и исписанный оборот, ее почерк, записку, адресованную мне. Но оттиск вышел такой нечеткий и темный, что она спросила, не смогу ли я скопировать почерк от руки. Тогда она отдаст мне оригинал. Я попробовал. Как сумел, изобразил надпись карандашом, единственный раз написал письмо самому себе.
Целый час ждала тебя во льдах, написал я. Где ты был, милый? – написал я. Не забывай меня.
В тишине, наступившей после его рассказа, Амбрас вдруг стал коленями на сырое дно лодки, перегнулся через борт, зачерпнул горстью воды и с ожесточением умыл лицо, словно вот только что весь в пыли после взрыва в каменоломне вернулся домой. Когда он затем выпрямился, с него капало; Беринг взялся за весла и несколькими гребками вывел лодку на прежний курс к Ляйсской бухте. Их снесло течением.
Фотография. Незнакомка. Беринг уже не мог вспомнить лицо той женщины. Ему достаточно было увидеть, что это незнакомка. Тревожила его сейчас только собственная небрежность: он положил снимок на постель в музыкальном салоне, бросил не глядя, не проверив, остались ли на том снегу, в котором стояла и смеялась навеки пропавшая, следы его утренней возни с железными замками и шпингалетами виллы «Флора». А ну как черный отпечаток пальца на этом снегу или мазок машинного масла с прилипшими металлическими опилками выдадут его с головой? Руки-то до сих пор в смазке и опилках.
Он погружал тяжелые весла глубоко в воду, и смотрел, как круговые волны и вихри на воде от его гребков быстро убегают назад, и успокаивал себя мыслью, что в этом песьем логове любой след всегда можно счесть не только следом вторжения постороннего человека, но и следом собаки. После его трудов над дверью в сад порог был густо усеян мелкими железными опилками. Теперь, поди, у всех собак эти опилки на лапах.
Телохранитель выгребал энергично и так быстро, будто с каждым ударом весел по воде хотел не только приблизиться к ляйсским камышникам, но и убраться подальше от воспоминаний Амбраса. Притом что день выдался прохладный и густая облачность мало-помалу спускалась к границе лесов, с Беринга градом лил пот. Не переставая грести, он пытался стереть с лица струйки пота, прижимал щеку к плечу и всякий раз украдкой косил глазом на Амбраса. Тот не двигался. Молчал, и не смотрел на него, и никакого знака не подал, даже не помахал в ответ, когда у края ляйсских камышников возник груженный вагонетками со щебнем понтон, а на нем черная, размахивающая руками фигура – паромщик; он суетился, что-то кричал – не то здоровался, не то спрашивал что-то, а они были пока слишком далеко, чтобы расслышать, – потом опять склонился над дощатой загородкой размером с собачью конуру.
Там, в этом машинном отсеке , то и дело захлебываясь, стучал мотор, который Беринг с отцом много лет назад сняли с грузовика, напоровшегося на допотопную противотанковую мину, и поставили на камневозный понтон . Именно тогда он на практике постиг, как превратить автомобильный мотор в судовой движок, а впоследствии, в ходе бесчисленных профилактик и ремонтов, этот неуклюжий восьмицилиндровый двигатель мало-помалу сделался одной из его родных машин.
Паромщик, похоже, еще не оставил попыток запустить дизель. Через неравные промежутки времени из выхлопной трубы, которая, словно флагшток, торчала из кожуха движка, вылетал сгусток черного дыма, превращавшийся на ветру в мохнатый плюмаж.
Что бы там ни вышло из строя: дроссельный клапан, всасывающий циклон, фильтр, – Беринг издалека увидел, что отчаянные попытки паромщика машине только во вред, и закричал:
– Глуши! Глуши мотор, идиот!
Амбрас не обращал внимания ни на паромщика, ни на крики Телохранителя. Он поднялся на ноги, выпрямился в лодке во весь рост, как на картинке из кузнечихина календаря, но по-прежнему молчал. Лодка скользила по тончайшей, переливающейся всеми цветами радуги нефтяной пленке, которая рвалась под ударами весел и снова смыкалась в кильватере. Испуганные плеском весел, из камышей взлетели два баклана, чайки и лысухи.
Лодка с глухим стуком ткнулась в обшивку понтона, и паромщик наконец-то вырубил мотор, швырнул в дощатую загородку черную ветошь, протопал между вагонетками навстречу прибывшим и, пока Беринг крепил швартов к вбитому в борт железному кольцу, начал, чертыхаясь, расписывать загадочное повреждение: Черт бы ее побрал, эту машину! Вонючка хренова! Прямо посреди озера вдруг зачадила, будь она неладна, и перестала тянуть, обессилела, чертовка, и все тут... А этот дерьмовый понтон, набитый дерьмовыми камнями, как нарочно, угодил в Ляйсское течение и сошел с курса, несмотря на полный газ! А ведь у моорской пристани дожидается грузовик, черт его подери, единственный на этой неделе, и, хоть с грузом, хоть порожняком, он во второй половине дня, еще до вечера, уйдет обратно на равнину, иначе нельзя, нужно до захода солнца миновать контрольные посты.
Амбрас отстранил перепачканную маслом руку разъяренного мужика, быстро шагнул из лодки на понтон, оборвал болтовню паромщика, бросив:
– Отвяжись от меня! – и жестом указал на Беринга: – Ты ему рассказывай.
– Так ведь я и рассказываю ему . Ему!
Но Беринг не слушал. Он уже был наедине с машиной. Стоя перед открытой загородкой, запустил мотор и слышал лишь то, что доносилось из нутра этого вибрирующего, черного от смазки механизма. С каким самозабвением склонился он к рядам цилиндров – точно стук дизеля только и мог оградить его от воспоминаний о бешеном стуке в дверь квартиры, оградить от воспоминаний об ударах дубинок, что обрушились на застывшую в объятии пару, и об исчезновении женщины в красном платье. Грохот поршней все оттеснял в область неслышимого, в том числе и болтовню паромщика. Эта болтовня была просто пустяковым шумком за спиной.
Еще в бытность кузнецом, стоя в мастерской перед сломанной машиной, а не то распластавшись на спине под каким-нибудь тягачом, сдохшим посреди свекловичного поля, Беринг неизменно предпочитал послушать, что говорит сама машина; рассуждения взбешенного или растерянного ее «эксплуататора» были ему без надобности. Что бы ни сообщали машиновладельцы за долгие часы ремонта – туманные догадки о причине поломки или же свои подробные жизнеописания, – все это никак не могло сравниться с явственным дребезжанием клапана, визгом клиноременной передачи или треском разболтанного уплотнительного кольца. В этом многообразии всевозможнейших рабочих шумов, которое для мира конских упряжек и ручных тачек было попросту (достаточно редким) рокотом мотора, для чуткого уха раскрывалась оркестровая гармония всех звуков и голосов механической системы. У каждого голоса, каждого пусть даже самого неприметного шороха этой системы было свое недвусмысленное значение, позволявшее делать выводы о том, хорошо ли функционируют ее стучащие, пыхтящие или посвистывающие детали.
Беринг вслушивался, закрыв глаза. Распутывал клубок перемешанных, наслаивавшихся друг на друга шумов, добирался до начала каждой звуковой нити и слышал конструкцию машины. Точно слепой, он прощупывал топливопроводы и железные детали, которые сам же и выковал много лет назад по причине отсутствия запчастей, открывал и закрывал втулку для выпуска воздуха, слушал клокочущее дыхание машины в масляной ванне воздушного фильтра, прибавляя газу, тянул за трос и снова отпускал, откручивал от цилиндров подводящие трубки и выдувал из них пронзительные звуки – все было в полном порядке, ни одной грязевой пробки, дизельное топливо беспрепятственно пульсировало в машине.