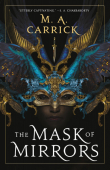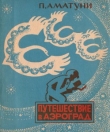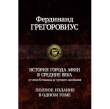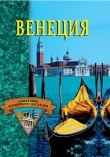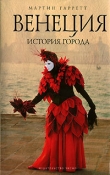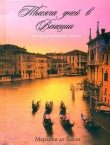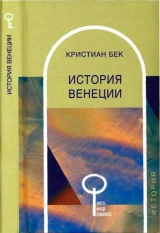
Текст книги "История Венеции"
Автор книги: Кристиан Бек
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
Вторая республика
В 1814–40 гг. отношения между венецианцами и австрийцами складываются в целом неплохо, доказательством чему служит тот факт, что движение карбонариев, активизировавшееся в 1820–21 гг. в Полезине, Вероне и Виченце, не затронуло Венецию.
К 1840 г. созревает зародившийся в кадетской морской школе антиавстрийский заговор; во главе заговорщиков стоят сыновья контр-адмирала Аттилио и Эмилио Бандьера. В 1844 г. после провала попытки восстания обоих казнят неподалеку от Козенцы.
Легальное сопротивление оккупантам возглавил адвокат Даниэле Манин. В свою программу Манин включает требование уважения прав населения Ломбардии и Венето на самоуправление, сохранения его институтов и традиций. Писатель Никколо Томмазео оказывает Манину активное содействие. Вернувшись из изгнания, он в декабре 1847 г. выступает в Венеции с речью, в которой требует отмены цензуры и призывает к объединению Италии. Речь его заканчивается следующими словами: «И пусть имя Италии… звучит в душах подобно голосам наших милых и дорогих возлюбленных!»
19 января 1848 г. Манина и Томмазео арестовывают. В Венеции проходят демонстрации протеста против владычества Австрии; в Падуе вспыхивают студенческие волнения. Когда из Парижа приходит известие о начавшейся там революции, в Ломбардо-Венецианском королевстве объявляют о вступлении в силу закона военного времени.
17 марта собравшаяся на площади Сан-Марко толпа требует освобождения узников. Манин призывает к восстанию. 22-го вспыхивает мятеж в Арсенале, и австрийцы покидают город. Манин формирует правительство и становится его главой. Однако города Венето, следуя примеру Милана, голосуют за присоединение к Пьемонту, где правит Карл Альберт. Опасаясь австрийской интервенции, провинциальная ассамблея в июле принимает аналогичное решение. В августе комиссары из Пьемонта прибывают в Венецию, где их встречают без особого энтузиазма. Причиной тому разгром армии Карла Альберта, возвращение австрийцев в Милан и подписание мира, согласно которому Венеция вновь отходит к Австрии.
Манин опять берет в свои руки бразды правления, однако и с суши, и с моря город уже блокирован австрийскими войсками, а Европа и Италия, несмотря на отчаянные призывы о помощи, бросают венецианцев на произвол судьбы. Плохо вооруженные, плохо подготовленные, уступающие противнику в численности, венецианские солдаты при поддержке волонтеров, прибывших из других областей Италии, мужественно обороняются. Население не отступает ни перед голодом, ни перед бомбардировками, ни перед эпидемией холеры. Венецианцы капитулируют только 22 августа. Манин и Томмазео и с ними еще тридцать восемь других лидеров отправлены в ссылку; многие их сограждане готовы разделить их участь. Вторая и последняя Венецианская республика в гордом одиночестве сражалась до последнего.
26 августа эрцгерцог Сигизмунд от имени императора вновь занимает город. Несмотря на объявление закона военного времени и попытки оккупантов установить контакт с населением, горожане держатся настороженно и продолжают втайне устраивать заговоры, часть которых была раскрыта, и в 1851–52 гг. состоялись казни заговорщиков. 11 июля 1859 г. перемирие, подписанное в Виллафранке между Наполеоном III и Австрией, нисколько не изменило положения Венеции. Только очередная партия венецианцев покинула берега лагуны, отправившись в ссылку.
Культурная жизнь в первой половине XIX столетия
Если сравнивать культурную жизнь Венеции 1800–50 гг. с Миланом, Турином, Флоренцией или Неаполем, она вполне может показаться серой и ущербной.
Город превращается в «столицу старой книги»: Венеция продолжает издавать книги и газеты, однако все они обращены в прошлое и проникнуты духом провинциализма. Какими бы талантами ни обладал переводчик «Одиссеи» и поэт Пиндемонте, он, как и другие писатели его поколения, уроженцы Венеции и Венето, проявляет «неспособность или нежелание оказывать воздействие на новый политический и культурный контекст» (Аллегри). Даже Томмазео (1802–74) при всем своем мужестве, выказанном им во время событий 1848 г., и опыте, приобретенном в Милане, Флоренции и Пизе, смог предложить венецианским революционерам только возврат к мифическому и призрачному космополитизму.
Примечательны пути, избранные Уго Фосколо (1778–1827) и Ипполито Ньево (1831–61): первый покидает Венецию ради Милана, второй оставляет Венецию ради Италии.
Прибыв в 1792 г. в Венецию с острова Закинф, почти – по его собственным словам – не зная итальянского, Фосколо начинает посещать литературные салоны и кружки. Вскоре он проникается революционными идеалами, пишет оду «Новым республиканцам» и сонет, где осуждает нейтралитет Венеции. В 1798 г. он представляет трагедию «Фиест», снискавшую значительный успех. Однако заложенный в ней политический заряд вынудил его бежать в Болонью. Вернувшись в Венецию вместе с французами (отчего сограждане прозвали его «поэтом-якобинцем») после заключения Кампоформийского мира, Фосколо вскоре окончательно покидает город. В Брешии он публикует свою поэму «Гробницы» (Sepolcri), в 1809 г. выступает с речью в университете Павии и там же затем читает целый курс об этической и политической миссии, которую предстоит взять на себя итальянским писателям.
В романе «Исповедь итальянца» (опубликованном в 1867 г., после смерти автора) Ньево рисует мрачную картину Венеции: «О Венеция, о древняя матерь свободы и мудрости… Когда я вновь увидел тебя, облаченную в погребальный саван, увидел тебя, прекрасную и величественную, в объятиях смерти, когда почувствовал, как леденеет твое сердце, и услышал, как на губах твоих угасает последний вздох, буря боли, отчаяния и угрызений совести взметнулась в пылкой душе моей… Я ощутил ярость изгнанника, скорбь сироты, муки отцеубийцы!» Тернистый путь героя романа начинается в период упадка Венеции, а завершается в борьбе за единую Италию. «Я родился венецианцем, но умру итальянцем» – такова, по собственному признанию Ньево, судьба его самого и его героя, символизирующего эволюцию, которую претерпела венецианская интеллигенция на протяжении XIX столетия.
Отъезд в 1781 г. в Рим Антонио Кановы является примечательным свидетельством перемещения венецианских людей искусства ближе к центрам художественной активности, соответствовавшим новым эстетическим идеалам. Неоклассицизм, получивший бурное развитие и ставший своего рода международным языком искусства, одновременно стал отрицанием специфики венецианского искусства. Иностранная оккупация также не могла не способствовать стиранию специфических особенностей местной культуры.
Если говорить о вторжении оккупантов в сферу искусства, то следует упомянуть прежде всего градостроительство. С 1797 по 1866 г. город в значительной степени изменил свой облик. Первое важное нововведение коснулось площади Сан-Марко. Французы решили начать с Новых Прокураций и придали им поистине королевское величие. Алессандро Антолини, вызванный из Милана Евгением Богарнэ, руководит постройкой на площади наполеоновского флигеля, ставшего причиной разрушения церкви Сан-Джеминьяно (работы Палладио), и сооружением «Королевских садиков» (Giardinetti Reali). Вследствие ошибок и яростной полемики (впрочем, характерных для культурной жизни Венеции не только XIX, но и XX в.) строительство завершается только к 1820 г., и руководит им уже сиенец Лоренцо Санти. Перестройки вокруг собора Сан-Марко продолжаются до 1843 г., когда площадь принимает свой окончательный облик.
К последствиям наполеоновской оккупации наряду с указанными пертурбациями следует также отнести создание садов Кастелло (1810), часть площади которых теперь занимает Бьеннале.
При австрийском правлении в Венеции начинается новый период градостроительной активности. Строительство уже упомянутых железнодорожного моста и вокзала повлекло за собой разрушение церкви Санта-Лючия (работы Палладио). Для соединения Сан-Видаль с Академией и переправы через Большой канал в 1854 г. открывается (платный) железный мост, выполненный в стиле промышленной архитектуры; к этому же стилю принадлежат и вокзальные постройки. Общественное мнение не приняло оба моста, и в 1934 г. их заменили на другие.
Итальянская Венеция (1866–1945)
В 1866 г., 22 июля, после двух поражений итальянских армий на суше и на море (при Кустоце и острове Лисса) между Австрией и Пруссией было подписано перемирие. Венеция передавалась Франции, которая уступила ее Италии. 19 октября итальянские войска вошли в Венецию. 21 октября жители города в подавляющем большинстве проголосовали за присоединение к Итальянскому королевству. 7 ноября на берегах лагуны восторженно встречали короля Виктора Эммануила II.
Став частью Италии, Венеция не смогла быстро воспользоваться уходом австрийцев для возрождения своей экономики; местная политическая жизнь также долгое время оставалась исключительно консервативной.
Характерным событием того времени было основание в 1874 г. традиционалистской организации «Опера деи конгрессии» (Opera dei Congressi), контролируемой католическими иерархами; в связи с этим Венеция начинает рассматриваться как «христианская столица», а Венето – как «земля победившего христианства». На выборах в законодательное собрание 1876 г. во всех избирательных коллегиях Венето торжествуют правые, в то время как Италия голосует за левых. Однако в мае 1891 г. мэром избирается Риккардо Сельватико, новое лицо в местной политике; он и возглавляет левый муниципалитет. С 1895 по 1920 г. городом от имени блока умеренных клерикалов руководит Филиппо Гримани. В апреле 1921 г. был создан первый венецианский «фашо» (fascio). В 1921 г. социалистическая партия становится первой партией Венеции, что не может не встревожить местных католических иерархов и патриарха.
Во время австрийского господства экономика Венеции находилась в полном застое; теперь она набирает обороты крайне медленно. В конце XIX в. в городе действуют всего три важных промышленных комплекса: хлопчатобумажный комбинат (Cotonificio), основанный в 1882 г., мельницы Штукки, сооруженные по инициативе швейцарцев, и Французская газовая компания.
В 1907 г. образуется Итальянская компания гранд-отелей, в задачу которой входит создание условий для привлечения богатых туристов. Туризм становится важной статьей дохода, особенно после того, как Итальянское государство отказалось от использования старых портов (в число которых вошла и Венеция) и сделало упор на Таранто и Бриндизи, расположенные ближе к Африке. В 1917 г. крупный менеджер граф Вольпи соединил политическую волю и частные интересы для реализации крупномасштабного проекта по созданию порта и одновременно промышленного центра в Маргере, т. е. за пределами исторического центра города. Комплекс предполагалось строить на 550 га земли, затопляемой во время больших морских приливов: с помощью намыва собирались приподнять эту территорию более чем на два метра над уровнем моря. Государство взяло на себя сооружение порта со всей необходимой инфраструктурой и обустройство поселка; впоследствии все перешли к обществу концессионеров, сумевшему привлечь капиталы не только местные, но и из отдаленных регионов; в административный совет комплекса вошли наиболее известные представители финансового и делового мира Италии. Вместе с крупными бизнесменами, среди которых был граф Чини, Вольпи и его группа берут под контроль практически всю региональную экономику: промышленность, энергетические источники, кредитную систему и туризм. Стремясь вывести Венецию из застоя, Вольпи устанавливает деловые отношения с фашистским режимом; став в 1924 г. депутатом, в 1934-м он уже является министром финансов и президентом Cofindustria, т. е. «патроном патронов».
Помимо порта Маргеры, куда не берут рабочих из Венеции (по причине их «излишней политизированности»), в «концерн Вольпи» в 1929 г. входят 60 предприятий, на которых занято 5500 человек; предприятия различного профиля: химические, металлургические, кораблестроительные, по производству электроэнергии, продуктов питания, транспортные и общественного обслуживания. В 1935 г. округ Маргера насчитывает 52 предприятия, на которых занято 6442 человека; в 1939 г. предприятий уже 63 и, соответственно, число занятых на них доходит до 18 872 человек.
В 1866 г. Венеция сталкивается с огромными проблемами, связанными с урбанизацией и оздоровлением города, причем не столько «благородных» кварталов, сколько жилищ простонародья. В 1871 г. появляются новые дороги и среди них трасса, соединившая площадь Сан-Марко с вокзалом. В 1880 г. торжественно открывается морской вокзал. В 1866 г. мэр города Данте ди Серего Алигьери приступает к осуществлению плана по очищению городской атмосферы: он хочет «проветрить» город за счет расширения основных каналов и разрушения домов, признанных вредными для проживания (в 1884–85 гг. в городе разразилась эпидемия холеры). Принятые меры вызывают протест со стороны «пассеистов», усматривающих в них посягательство на «культ красоты». В 1893 г. учреждается «комиссия по строительству здоровых и недорогих домов для народа»; ее деятельность, впрочем, приносит весьма скудные плоды. В 1891 г. принимается первый план, регулирующий развитие города. Обследование, проведенное в 1910 г., показало, что более 46 % квартир вредны для здоровья; и действительно, через год вновь вспыхнула эпидемия холеры. В 1917 г. принимается правительственное постановление о присоединении Маргеры к Венеции; затем наступает черед Пеллестрины, Местре, Мурано, Бурано и т. д. Создание «большой Венеции» имело целью воспрепятствовать превращению Местре в городской центр и оттеснению исторического центра города на второй план. За два года (1931–33) параллельно с железнодорожным мостом строится мост, предназначенный для движения автомобилей: Венеция перестает быть островом и отныне доступна также для автомобилистов.
Среди социальных потрясений следует выделить две забастовки гондольеров: первая (1881) была организована в знак протеста против развития навигации на каналах (особенно на Большом канале, где с недавнего времени стали курсировать небольшие пароходики); вторая забастовка (1904) проходила в рамках охватившего страну всеобщего протеста рабочих. Но так как Венеция по-прежнему оставалась городом скорее торгово-ремесленным, нежели промышленным (по крайней мере ее исторический центр), а связи между патронами и клиентелой были еще достаточно сильны, то даже при безработице социальные конфликты в городе возникали крайне редко.
К крупным культурным событиям этого времени следует отнести учреждение в 1893 г. мэром Сельватико международной художественной выставки, получившей название Бьеннале; целью выставки было вывести Венецию из культурного застоя и возвратить ее в международное культурное пространство. В 1930 г. Бьеннале возглавляет Вольпи, и выставка, порывая связи с Коммуной, претендует на звание островка свободы в центре фашистской Италии, своего рода «порто-франко искусства». В том же году учреждается фестиваль современной музыки; в 1932 г. – кинофестиваль; в 1934 г. – театральный фестиваль. Так постепенно Венеция вновь вписывает свое имя в мировую культуру.
Венеция и Венето в составе Италии
12 мая 1945 г. группа борцов Сопротивления забирается на сцену театра Гольдони и принимается бросать в зал, заполненный немецкими офицерами и сторонниками фашистской республики Сало, листовки с призывом к восстанию.
В 1946–51 гг. власть в городе, в отличие от всей остальной Италии, принадлежит муниципалитетам, в которых преобладают левые (коммунисты, социалисты, члены Партии действия, республиканцы). В 1955 г. из-за неучастия в выборах социалистов мэром становится представитель демохристиан. Через пять лет, как и в большинстве итальянских городов (в Милане, Генуе, Флоренции), к власти приходит и остается более чем на десять лет левоцентристская коалиция. В 1975 г. на местных выборах христианские демократы впервые потерпели поражение от коммунистической партии, сохранив, однако, при этом большинство в региональном совете: так возникает пропасть между столицей и ее областью.
В 1979 г. Б. Визентини предлагает отделить исторический центр от Местре, названного им «городской агломерацией, бесплановой, беспорядочной и бесформенной»; вопрос выносится на референдум. Однако при поддержке христианских демократов и коммунистов большинство населения (70 %) голосует против отделения, выразив таким образом свое несогласие с превращением Венеции в город-музей.
На последних, а, точнее, апрельских политических выборах 1992 г., Венето приобретает совершенно иной облик. Там христианские демократы получают 32 % голосов (немногим меньше, чем в среднем по стране), а в самой Венеции – 19 % (против 26,8 % в 1987 г.). «Лега венета» (Lega veneta) – лига защиты местных интересов и противодействия Югу, – совершившая прорыв на выборах 1983 г., теперь собирает 12,8 % голосов.
В экономическом плане наиболее важными мерами, принятыми во второй половине прошлого века, являлись следующие: в 1954 г. был создан «Консорциум» для расширения порта Маргера. В задачу его входила мелиорация 300 га польдеров и обустройство 800 га бывших сельскохозяйственных угодий – это вторая волна индустриализации, своим возникновением обязанная инициативе частной химической компании. В 1963 г. рассматривалось предложение по созданию третьей промышленной зоны, осушению 4 тыс. га маршей и созданию нефтяного порта. Но наводнение 1966 г. (о котором будет сказано ниже) блокировало эту инициативу. В 1968 г. создается новый фарватер глубиной 15 м, настоящий морской «автобан», позволяющий сверхкрупным нефтеналивным танкерам подходить почти к самому причалу порта Маргера.
Сегодня в Венето, в отличие от остальной Италии, наблюдается довольно низкий уровень безработицы (4,5 % активного населения против 11 % по стране в целом). Область, обеспечивающая 12 % национального экспорта, занимает третье место среди промышленно развитых регионов Италии и, таким образом, входит в состав образования, названного экспертами «третьей Италией» и противопоставляемого промышленному северо-западному треугольнику и Югу. Для Венето не характерна социальная напряженность (исключение – Маргера), а так как столицы эта область, в сущности, не имеет, то каждый ее город является региональным центром и обладает собственной специализацией: в Венеции развивается туризм, в Вероне – сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции, пищевая индустрия, в Тревизо – текстильное производство и т. д.
Между Венецией и Венето по-прежнему существует двойная аномалия. Венеция отличается от своего региона не только «левизной», но и экономическим складом: наряду с индустриальным монстром Маргерой большое место в ней занимает непроизводственный сектор (туризм и бюрократические структуры). В целом можно сказать, что за более чем столетнее пребывание в составе Италии отношения между Венецией и материком полностью изменились: Венеция больше не является ни владычицей, ни даже – дерзнем сказать – Светлейшей, но об этом ниже.
Венеция сегодня и завтра
Прилив – необходимая составная часть жизни лагуны, ибо он очищает ее и, следовательно, необходим он и городу; однако для последнего он зачастую представляет большую опасность. 4 ноября 1966 г. в силу хорошо известных факторов (прогрессирующее оседание почвы, общее влияние луны и солнца, феномен резонанса приливов в глубине Адриатического залива, обильные дожди, падение атмосферного давления, юго-восточные ветры и т. п.) высокие приливы (acqua alta) достигли поистине катастрофической высоты. Уровень воды поднялся на 1,94 м выше среднего, и в течение двадцати четырех часов Венеция находилась под водой, которая едва не поглотила ее.
После наводнения, потрясшего мировую общественность, публикуются многочисленные проекты «по спасению Венеции» – местные, итальянские и международные, в частности проект ЮНЕСКО. В 1973 г. в Риме впервые принимают специальный закон, согласно которому проблема Венеции становится «общеитальянской»; предусматривается также ряд мер по сохранению экологического равновесия лагуны. В 1975 г. в соответствии с новым законом объявляется международный конкурс на всеобъемлющий план спасения Венецианской лагуны. В том же году модернизируют систему водоснабжения города; артезианские колодцы, пробуренные до грунтовых вод и потому способствующие оседанию почвы, закрывают. В 1984 г. образуется «Новый венецианский консорциум», концессионером которого становится государство; в задачу новой организации входит реализация проектов, направленных на сохранение Венеции.
Еще одна опасность угрожает памятникам города – это загрязнение воздуха и моря (размножение водорослей и мельчайших насекомых, плотные тучи которых иногда даже препятствуют движению поездов и приземлению самолетов).
Подводя итоги (в 1971 г.) в анализе нынешней ситуации, Браунштейн и Делор справедливо отмечают: «Всем понятно, какие беды постоянно терпит Венеция… заболевание камня под воздействием бактерий и коррозии; в опасности фрески, картины, мозаика, мебель; проседание фундаментов грозит разрушением домов… Примерно подсчитано, сколько теряет Венеция ежегодно:
Мрамор 6%
Фрески 5%
Мебель и изделия декоративно-прикладного искусства 5 %
Живопись на холсте 3 %
Живопись на деревянных досках 2 %.
Это не считая, разумеется, ускоренного процесса разрушения самих зданий».
Чтобы остановить этот процесс, необходимо реализовать ряд комплексных и дорогостоящих мер и предотвратить дальнейшее загрязнение атмосферы.
Третья проблема, с которой сталкивается Венеция, – это демография. Исторический центр пустеет; в 1989 г. в нем проживало всего 79 487 человек, а в конце века там предположительно останется только 60 тыс. жителей. Проценты смертности и бесплодия побивают все рекорды. Из-за дороговизны жизни (главным образом жилья), сложностей с транспортом и отсутствия рабочих мест молодежь и люди небогатые переезжают на материк. Уже в 1970 г. две трети венецианцев проживали за пределами исторического центра – на материке или на побережье. И хотя этот феномен присущ всем городским центрам, в Венеции подальше от центра стремится убраться даже непроизводственный сектор: так, Бюро всеобщего страхования (самая крупная итальянская страховая компания) и редакция местной газеты «Гадзеттино» перебрались в Местре.
Даже не являясь уроженцем Венеции (т. е. будучи туристом), нельзя не заметить разрушений, причиной которых является туризм или, точнее, массовый туризм. В 1977 г. город принял четыре с половиной миллиона туристов, а в 1988-м – более шести миллионов. В последнее воскресенье карнавала 1984 г. (карнавал был возобновлен в 1979 г.) в центре города собралось более 140 тыс. человек. Что можно сказать об этих тысячах туристов, приезжающих на целый день и толпами кочующих между мостом Вздохов, Дворцом дожей и мостом Риальто? Они успевают увидеть (точнее, сфотографировать) все, что изображено на почтовых открытках, продающихся вместе с соломенными шляпами, футболками «а ля гондольер» и «сувенирами» самого дурного вкуса в расставленных на каждом шагу киосках. Чтобы сдержать натиск волн такого нашествия, его необходимо регулировать или даже запретить вовсе. Последняя мера также была предложена, но по причине ее полной недемократичности, совершенно очевидно, она неосуществима.
Сегодня Венеция является мировым центром «культурного производства»: в городе открыт университет (совсем недавно, однако уже успешно конкурирует с Падуанским), имеются академии (среди которых многоотраслевая – Венецианский институт) и институты, созданные по частной инициативе: Центр Чини на острове Сан-Джорджо Маджоре (со своими научно-исследовательскими лабораториями по изучению всемирной истории, истории искусств и музыки, своими изданиями, своими конгрессами и семинарами по проблемам «высокой культуры»); литературная премия Кампьелло (спонсируемая промышленниками Венето); выставочный центр в палаццо Грасси, созданный фирмой «Фиат» для проведения престижных выставок.
Наконец, в городе самая высокая в Италии концентрация музеев: Галерея Академии, Коррер, Кверини-Стампалья, Ка'Редзонико, Сокровищница собора Сан-Марко, Галерея современного искусства (дворец Пезаро), палаццо Фортуни, Коллекция Пегги Гугенхейм. Но если в конце XIX в. благодаря Бьеннале Венеция оказывается в центре международных экспериментов в области изобразительного искусства и местом соприкосновения всех наиболее значимых изысканий в этой области, то постепенно отношения между городом и Бьеннале охладевают и становятся практически окказиональными. Примечательно, что одним из самых больших выставочных центров современной живописи в Венеции стал музей Пегги Гугенхейм (созданный в 1973 г. знаменитой американкой), где выставлено множество крупных шедевров, представляющих различные художественные течения двадцатого века – от кубизма до абстракционизма, футуризма, сюрреализма и экспрессионизма.
Надо сказать, что именно в Венеции три великих архитектора хотели реализовать свои проекты: Ф. Л. Райт (1953) – построить студенческий центр на Большом канале, Ле Корбюзье (1964) – новую больницу, а Л. Кан (1969) – большой зал для проведения конгрессов, – но ни один из этих проектов не нашел поддержки у жителей города. В самом деле, облик Венеции таков, что «модерн» с трудом находит в ней место.
Между старым и новым, проникшим во всех области жизни города, – как видится будущее Венеции?
В мае 1992 г. муниципалитет дает согласие на строительство в лагуне метро, первая линия которого, проложенная в туннеле под каналами, должна пересечь исторический центр, а вторая – соединить аэропорт с Бьеннале и Местре. Тотчас возобновляются прежние дебаты. Взяв на вооружение аргументы, выдвинутые еще в начале века против урбанистических проектов, превративших отдельные участки города в строительные площадки, оппозиционеры утверждают, что «Венецию хотят лишить ее исконного облика, сделать ее похожей на материковые города, превратить в привычную всем метрополию».
Вопрос ставится следующим образом: Венеция – город-музей или современный город? Альтернативное решение дилеммы принадлежит В. Бранке, который в 1986 г. предложил превратить Венецию с помощью новых средств коммуникации в «лабораторию мысли» не только для интеллектуалов, но и для руководителей производства… Положительный момент этого предложения, на наш взгляд, заключается в том, что оно основано на стремлении древнего и славного города не просто к выживанию, но к полнокровной жизни.