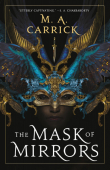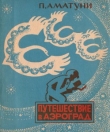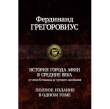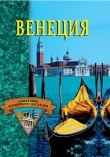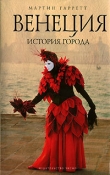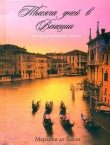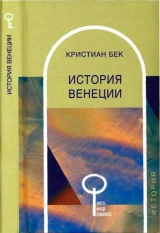
Текст книги "История Венеции"
Автор книги: Кристиан Бек
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
XVIII век: самоустранение из мировой политики и экономики
Бесславное падение Республики в 1797 г. в значительной степени омрачает образ Венеции, сложившийся на протяжении XVIII столетия.
Речь идет прежде всего о том, что в области внешней политики век этот начался для Светлейшей (которая теперь могла считаться таковой только внешне) весьма печально.
После смерти Карла II Габсбурга, не оставившего прямых наследников, начинается война за Испанское наследство; Франция Людовика XIV выступает против Австрии, союзниками которой являются Англия и Голландия; военные действия продолжаются с 1701 по 1714 г. Несмотря на давление со стороны воюющих стран, Венеция сохраняет нейтралитет, однако не может помешать армиям противников нарушать ее рубежи на суше и на море. Во время подписания Утрехтского и Раштаттского мирных договоров (нисколько не затрагивавших территориальной целостности венецианских владений) посол Республики в своих отчетах называет проводимую им линию политикой вооруженного нейтралитета, которой Светлейшая будет придерживаться на протяжении всего XVIII в.; но тот же самый посол с поразительной прозорливостью заметил, что великие державы не намерены считаться с его отечеством.
На Востоке враждебное отношение турок не позволяет Венеции соблюдать нейтралитет. 9 декабря 1714 г. турки объявляют Республике войну. С июня по октябрь следующего года, т. е. примерно за сто дней, в руках агрессора оказались Эгина, Коринф, Навплион, Корон, Модон и Мальвасия, а также Суда и Спиналунга на Крите. Однако в начале 1716 г. силы сопротивления на Корфу, возглавляемые маршалом Шуленбургом и Андреа Пизани, остановили турецкое наступление. Подписанный в 1718 г. Пожаревацкий мир подтвердил утрату венецианцами Мореи, сохранив за ними ряд позиций в Далмации, приобретенных во время войны. Отныне границы венецианской империи были окончательно определены; многовековая вражда венецианцев и турок прекратилась; теперь Венеция будет жить в мире – до нашествия Наполеона.
Несколько экспедиций, отправленных против берберских корсаров и пиратов всех мастей в 1765–86 гг., разумеется, в счет не идут. Некоторые экспедиции завершились успешно, однако успехи эти эфемерны: основной смысл их состоит в том, чтобы заставить общественное мнение поверить, будто флот и государство все еще сохраняют свое былое могущество.
Открыто провозглашенная политика нейтралитета ставит Республику в положение изоляции и обходится ей недешево; но она также отдает себе отчет в том, что уже уяснили себе ее руководители и посланники, а именно: отныне в Италии доминирующее положение занимают иностранные державы (в том числе и Австрия), и единственный путь, которым можно двигаться дальше, – это путь невмешательства. Республика осознает, что оказалась низведенной до уровня регионального государства.
Что касается внутренней политики, то XVIII век для Венеции стал аналогичным параличом. Разумеется, в предложениях реформ, как институционных, так и административных, недостатка не было. В 1760-х гг. патриций Анджело Квирини, увлеченный трудами философов, упрекает правительство за ту власть, которой оно наделило государственных инквизиторов (он полагает ее чрезмерной). 12 августа 1716 г. его арестовывают и отправляют как ссыльного в Верону. Во время одной из дискуссий, разгоревшихся в Большом совете, ряд мелких и средних нобилей потребовали усиления полномочий Совета сорока и адвоката Коммуны (Avogador di Comun), однако возобладало мнение консерваторов. Надо отметить, что противные стороны обе ссылались на необходимость возврата к прежним традициям…
В 1775–82 гг. споры по-прежнему не утихают; патриции Джорджо Пизани и Карло Контарини, выражая сожаление по поводу дефицита общественной казны и обнищания масс, представляют программу, предусматривающую восстановление былой власти Большого совета, сокращение полномочий Совета десяти и помощь со стороны государства обедневшим патрициям. В 1779 г. они, выступая перед Большим советом, излагают, с какими трудностями сталкивается венецианская экономика, говорят о лихоимстве и неэффективности администрации. Они добиваются назначения «корректоров», но те ограничиваются принятием весьма скромных мер экономического и регламентирующего характера. 31 мая 1780 г. Пизани и Контарини, обвиненные в злоумышлении против республиканских институтов. были высланы из города: один в Верону, другой в Каттаро.
Застой наблюдается и в административной сфере. И хотя там также работают советники и эксперты, не лишенные ни проницательности, ни новаторских идей, однако большинство их предложений после длительного изучения, а иногда даже и одобрения, не претворяются в жизнь. Должностные лица на местах сопротивляются любым нововведениям, равно как и нерешительные и медлительные представители правящего класса, закосневшие в своей инертности. Иными словами, «старинное Венецианское государство реформированию не поддавалось» (Скарабелло), ибо невозможно было сохранять старые институты и одновременно проводить реформы, неминуемо ставящие под угрозу само существование этих институтов. Кроме того, отсутствовала альтернативная политическая сила, поскольку не было достаточно развитого класса буржуазии, однородного и подготовленного идеологически и политически.
В экономической сфере положение тоже было не из лучших. В конце века общий объем товарооборота оставался еще достаточно высоким (20 млн. дукатов), однако, к примеру, французский товарооборот за период с 1770 по 1790 г. увеличился втрое. Конкуренцию венецианскому порту составляли Ливорно, Генуя, Триест и Фиуме (Риека), и он постепенно становится провинциальным перевалочным пунктом. Разумеется, кое-какие меры по поддержанию былого величия принимались: создавались новые магистратуры, строились большие корабли, хорошо вооруженные, с многочисленным экипажем, выслушивались (а затем отвергались) предложения, направленные на реформирование налоговой и таможенной систем, и т. д. Так, проект создания Торговой палаты по образцу французской был отклонен по причине отсутствия поддержки его со стороны компаний и чиновников.
Венецианская промышленность начинает сдавать свои позиции под жестким давлением конкурентов – государств с большим населением, более богатых сырьем и с менее затратной производственной базой. Снижается производство шерсти; производство шелка и полотна несколько увеличивается, но рост этот незначителен; стекольное производство пребывает в застое; сокращается производство бумаги, типографии и издательские дома снижают не только выпуск продукции, но и теряют в ее качестве (за исключением предприятия Ремондини де Бассано). И только «туризм» – мы к этому еще вернемся – продолжает успешно развиваться.
Как это ни парадоксально, но сельское хозяйство процветало. Высокий уровень частных вложений в него, отмечавшийся уже в XVII в., сохранился и в XVIII в. Согласно кадастру 1740 г., 49 % земель вокруг Падуи и 36 % земель вокруг Тревизо принадлежали нобилям, особенно венецианским патрициям. Именно здесь, в загородных владениях, просвещенные умы размышляли еще о возможности реформ: о применении современных технологий, о развитии пастбищного скотоводства, о реформе налогообложения. Однако столкновение различных интересов приводит к сохранению статус-кво.
В результате в 1790 г. население всей территории, принадлежавшей Республике, составляло 2860 тыс. жителей, из которых в самой Венеции проживало всего 140 тыс. По меркам тогдашних европейских столиц это крайне мало.
Угасание культуры
Средний по размеру город, Венеция в XVIII столетии привлекает к себе множество туристов, жаждущих приобщиться к ее культурным ценностям. Многочисленные кафе (в частности, знаменитое кафе «Флориан»), концерты, театры, игорные дома и дома свиданий, празднества (самый продолжительный из них – карнавал) делают Венецию европейской столицей развлечений.
Там даже царит свобода слова (но, разумеется, не в сфере политики). Во всяком случае, имя тамошним писателям поистине легион: веронец Шипионе Маффеи (1675–1755), Апостоло Дзено (1688–1764), Ипполито Пиндемонти (1753–86), Карло Гоцци (1730–1808), Карло Гольдони (1707–93), падуанец Мелькиоре Чезаротти (1730–1808).
Однако Венеция не в состоянии была удержать у себя наиболее пытливые и беспокойные умы того времени, среди которых следует назвать Альгаротти, Казанову (1725–98), писавшего, впрочем, не на итальянском, а на французском (он считал этот язык «более легким»), и даже самого Гольдони.
Действительно, половину жизни Гольдони проводит вдали от лагуны, но не утрачивает ни духовных связей с ней, ни менталитета, присущего исключительно венецианцам. Автор «Мемуаров» и множества театральных пьес на трех языках (французском, итальянском и венецианском диалекте), он порывает с импровизационной комедией дель-арте и возвращается к написанным (литературным) пьесам. В этих пьесах, которые до сих пор ставят в театрах всего мира, он выразил этические чаяния буржуазии и изобразил ее среду (особенно показательным в этом отношении стал персонаж Панталоне, превратившийся из скупого и капризного старика в здравомыслящего и рассудительного купца), сумев при этом проявить свои симпатии к «малым мира сего» и неприязнь к праздному и никчемному дворянству.
Наконец, в Венеции, как и повсюду в Европе XVIII столетия, наблюдается бурное развитие газетного дела; повсюду возникают периодические издания, главным образом познавательные и литературные, ставшие настоящей трибуной для провозглашения всевозможных новых идей. «Джорнале де леттерати д'Италиа» (1710–40), издание, основанное Апостоло Дзено, претендует на статус главного итальянского литературного журнала. Издание «Джорнале д'Италиа» (1764–76) посвящено научным и техническим вопросам. «Газетта венета» (1760) и «Оссерваторе венето» (1761) Гаспаро Гоцци обсуждают проблемы повседневной жизни.
Творчество уже упоминавшегося выше Дзено, а также Лоренцо Да Понте (1749–1838) как бы перекидывает мостик между музыкой и литературой. В качестве либреттиста Дзено сотрудничает со Скарлатти, Вивальди и Генделем. Да Понте сочиняет либретто для многих современных ему композиторов, в частности для Моцарта.
В XVIII в. Венеция – одна из музыкальных столиц Европы, там творят Вивальди (1678–1741), Альбинони (1671–1750), Бенедетто Марчелло (1686–1739), Галуппи (1706–85) и многие другие композиторы.
В области изобразительного искусства Венеция XVIII в. также не плетется в хвосте. Одной из первых величин Сеттеченто является портретист Розальба Карьера (1675–1757), чьи пастели буквально наводняют итальянские и европейские дворы. К лучшим работам Джованни Баттисты Пьяццетты (1683–1754) относятся сцены из народной жизни и сельские сюжеты; он также сотрудничает с венецианским издателем, иллюстрируя произведения Боссюэ и Тассо. Джованни Баттиста Тьеполо (1696–1770) создает динамичные, свободные по живописи жанровые картины, в том числе и на религиозные сюжеты; праздничные, наполненные светом и воздухом росписи вилл знатных венецианцев; а также величественные полотна во Дворце дожей, воскрешающие миф о былом величии Венеции. Наверное, самой судьбой ему предназначено прославлять клонящуюся к упадку цивилизацию, обожествляя город и самые знатные его семейства. Сын Джованни Баттисты, Джованни Доменико, после смерти отца создает мощные по своей живописной силе полотна, реалистические и исполненные социального подтекста, направленного на обличение пороков аристократии.
Своим творчеством Антонио Каналь (Каналетто) (1697–1768) утверждает другой жанр в живописи – его «ведуты» (виды, пейзажи-панорамы) имеют огромный успех у коллекционеров всего мира, и прежде всего у англичан. Если Каналетто художественно воспроизвел топографию города, то картины Пьетро Лонги (1702–85) и Франческо Гварди (1712–93) воссоздали быт и нравы венецианского общества в его повседневной жизни, его venezianita.
Падение Республики
В своих донесениях правительству венецианские посланники описывали события французской революции; некоторые прозорливо предчувствовали их приближение уже с конца 1787 г. Однако новые парвеню, пришедшие к власти в Венеции, поначалу не выказывали по этому поводу особого беспокойства.
В 1791 г. Республика принимает у себя графа Прованского, брата Людовика XVI (и будущего Людовика XVIII). Когда начинается война между Францией и Австрией, Светлейшая, несмотря на давление со стороны Вены, отказывается поддерживать контрреволюцию. В отличие от многих государств, она не выражает официального возмущения по поводу казни короля и вскоре дает согласие на то, чтобы символика Французской республики красовалась на стенах посольства Франции.
В 1794 г., когда нависает угроза иностранного вторжения на ее территорию, Венеция заявляет о своем нейтралитете и не принимает серьезных мер военного характера. Вскоре же она с облегчением узнает об окончании якобинского террора.
Однако в 1796 г. Директория упрекает Светлейшую в том, что та по-прежнему продолжает укрывать у себя графа Прованского, терпит антифранцузские выпады прессы и эмигрантов и предоставляет австрийским войскам свободный проход по своим владениям.
Вскоре Венеции приходится идти на последние уступки. Граф Прованский вынужден покинуть Верону. В апреле армия под командованием Бонапарта одерживает победу над Австрией и Пьемонтом и занимает Милан и Ломбардию. В конце мая она вступает в Бергамо, затем в Тренто и Верону (в ноябре).
18 апреля 1797 г. в Леобене Австрия и Франция приходят к соглашению относительно раздела венецианских земель. Австрия получает значительную часть Террафермы, а Венеции в качестве компенсации предлагают довольствоваться Романьей, Феррарой и Болоньей.
Пока в Бергамо, Брешии и Сало вспыхивают «демократические» беспорядки, крестьяне Венето поднимаются против французских оккупантов. В апреле восстание охватывает Верону: «Веронская Пасха» дает Бонапарту предлог для интервенции. 26 апреля войска его занимают Виченцу, а 28-го – Падую. В обоих городах тотчас создаются муниципалитеты.
1 мая объявлена война против Светлейшей. Правящий класс Венеции всячески пытается, не подвергая себя риску, сбросить бремя власти. 12 мая дож Лодовико Манин и Большой совет подают в отставку. Управление городом переходит к муниципалитету, набранному в основном из представителей буржуазии.
Но в конце октября в Венецию приходит известие о мирном договоре, заключенном Францией и Австрией в Кампоформио, согласно которому венецианские острова на Леванте переходят к французам, а австрийцы забирают себе Истрию, Далмацию, саму Венецию и прилегающие к ней территории вплоть до берегов По и Адидже. 18 января 1798 г. в Венецию вступают первые австрийские отряды. Начинается более чем полувековое господство иноземцев.
Глава 5
От падения Республики до наших дней
Большинство историков Венеции заканчивают свои работы падением Республики. И не без основания, ибо отныне Венеция прекращает свое существование как самостоятельное государство (не считая короткого периода революции 1848 г.) и находится под иностранным владычеством, а затем входит в состав Италии. Тем не менее с 1797 г. и до наших дней история города, какой бы временами мрачной и проблематичной она ни была, все же продолжается. «В Кампоформио Венеции была нанесена поистине незаживающая рана, отчего история ее вплоть до наших дней являет собой непрерывный процесс упадка во всех сферах жизнедеятельности города» (Аллегри). Но подобный приговор – далее мы в этом убедимся – на самом деле излишне суров.
Венеция под властью иноземцев (1797–1866)
Как мы уже говорили, 15 мая 1797 г. французские войска вошли в Венецию: за более чем тысячелетнюю историю города такое случилось впервые! Восемнадцатого января 1798 г. настал черед австрийских войск. Девятнадцатого января 1806 г. французы вновь захватывают город. С 1 апреля 1814 г. и вплоть до 1866 г. в Венеции властвуют австрийцы (не считая «ста дней» в 1848 г.). Таким образом, почти семьдесят лет истории Венеции прошли под иностранным игом.
Если первое пребывание французов на берегах лагуны (менее шести месяцев) было отмечено грабежами и насилием со стороны оккупантов, то первый период австрийского владычества характеризовался двумя основными чертами: сотрудничеством части венецианской аристократии с Австрией и быстрым упадком городского хозяйства.
Патриции, собравшиеся 22 февраля 1798 г. в зале Большого совета, назначают двенадцать представителей (среди которых и отрешенный от должности дож) и поручают им принести клятву верности и повиновения австрийскому императору. Разумеется, они делают это без особых колебаний, ибо видят в присоединении к империи наименьшее зло. Главы двух самых богатых венецианских семейств, Джованелли и Эриццо, за солидные денежные взносы удостаиваются княжеских титулов империи; ряд аристократов получают графские титулы, а большая часть бывших патрициев сохраняет свои дворянские титулы. Однако административные, должности, занимаемые новой имперской аристократией, являются исключительно второстепенными: все важные решения принимаются в Вене и исполняются чиновниками-австрийцами.
Вернувшись в Венецию в ноябре 1798 г., Да Понте пишет об унынии, охватившем город: «Читатель, вообрази себе мое удивление и мою печаль, когда на огромной площади (Сан-Марко), где в прежние времена царили лишь радость и веселье и народу было не протолкнуться, узрел я печаль, безмолвие, безлюдье и уныние». В 1802 г. один немецкий путешественник, посетивший Венецию, дает картину еще более мрачную: «Дворец дожей, похоже, опустел вовсе, а на Риальто для охраны расставлены пушки. В конце площади Сан-Марко, на берегу лагуны, австрийцы поставили шесть орудий, а напротив Сан-Джорджо французы еще раньше установили целую батарею, которую империя не только сохранила, но и усилила… Самое печальное зрелище в Венеции – это нищета и нищенство. Нельзя сделать и десяти шагов, чтобы не услышать скорбной мольбы о сострадании, вид же несчастных лишь усиливает горечь впечатлений… Но наибольшее потрясение испытал я при виде женщин из благородных семейств, кои, закутавшись в плотные, неподвластные взорам вуали, стоят на церковных папертях, преклонив колена и молитвенно сложив на груди руки, а перед ними поставлены маленькие деревянные мисочки, куда прохожие бросают мелкие монеты».
Упадок Венеции объясняется целым рядом причин: многие патриции разорились (по причине сокращения доходов от недвижимости, краха государственного банка и непомерного налогообложения); большая часть аристократической верхушки уехала на материк; администраторы и чиновники бывшей Республики лишились работы; туризм пришел в упадок, равно как и деятельность Арсенала, промышленность и торговля. По словам А. Дзорци, венецианцы от вечного карнавала перешли к столь же вечному посту.
В соответствии с Пресбургским договором 1 января 1806 г. в Венецию вошла армия Наполеона. Провинции Венеции были присоединены к Итальянскому королевству, вице-королем которого стал Евгений Богарнэ, сделавший своей столицей Милан. Таким образом, Венеция лишилась всех своих бывших территорий, разделенных теперь на департаменты, а ряд ее городов и областей Наполеон подарил своим соратникам: Тревизо стало владением Мортье, Истрия – Бессьера, Фельтре – Кларка, Виченца – Коленкура.
В отличие от миланской элиты, привыкшей к иностранному господству, венецианские аристократы и буржуа не склонны были к сотрудничеству с оккупантами.
Прибыв на берега лагуны в ноябре 1807 г., Наполеон I принимает ряд мер, направленных на оживление городской жизни: начинает портовые работы, отдает приказ о реставрации дамб (murazzi) Палестрины, покровительствует стекольному производству, оказывает финансовую помощь Арсеналу, дает острову Сан-Джорджо статус порто-франко. Однако Берлинский декрет о континентальной блокаде, установивший торговый барьер Англии, окончательно подрывает венецианскую торговлю и всюду, до самой Адриатики, провоцирует англичан нападать на венецианские суда.
В 1811 г. генерал Лористон в своем докладе императору рисует весьма печальную картину сложившегося положения: всеобщее запустение, разорение знатных семейств, бросающих свои дворцы и дома, которые идут с молотка. При этом он еще умалчивает о грабежах и разбазаривании тысяч произведений искусства, принадлежавших разрушенным церквям, разогнанным конгрегациям и скуолам: масштаб бедствия был столь велик, что создание музея Академии и передача фондов библиотеке Сан-Марко не могли компенсировать ущерб.
В конце 1813 г. Венецию осаждают австрийцы. В это время в городе находятся около 40 тыс. голодных и обнищавших жителей. Перемирие, подписанное 16 апреля 1814 г., передает разграбленный город под власть Австрии.
3 мая 1815 г. представители венецианских провинций, собравшись на площади Сан-Марко, приносят присягу на верность императору Францу I, который 31 октября торжественно вступил в Венецию. Провинции объединяются в Ломбардо-Венецианское королевство под властью вице-короля: столицей королевства становится Милан, а в Венеции остается кассационный суд и штаб командующего военно-морским флотом.
В 1819 г. в своем отчете императору вице-король по-прежнему говорит о руинах Венеции, брошенных дворцах и многочисленных нищих и безработных. Отток жителей из города продолжается, а Триест составляет жесткую конкуренцию венецианскому порту. С 1813 по 1818 г. население города сократилось на 12 тыс., а общее число жителей составило менее 100 тыс. человек. В 1825 г. Торговая палата отмечает, что порт фактически пребывает в запустении. В 1827 г. наблюдается значительное сокращение текстильной продукции: шерсти, шелка и хлопковых тканей.
Оживление экономики наступает довольно поздно. Только в 1830 г. Венеция и ее порт получают статус зоны свободной торговли. В 1837 г. создается общество для постройки железной дороги между Миланом и Венецией; в 1841 г. заложен первый камень железнодорожного моста, который свяжет город с материком; в январе 1846 г. в Венецию прибыл первый поезд. Создана новая коммерческая компания, ставящая своей задачей развитие морской торговли, а также речного судоходства между Миланом и Венецией. Принята программа строительства новых судов. Однако при всей энергичности венецианцев Милан – благодаря гибкости и динамичности своей элиты – в целом значительно опережает Венецию.