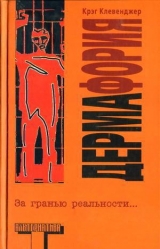
Текст книги "Дермафория"
Автор книги: Крэг Клевенджер
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Глава 7
Трава тычется в нос и глаза. По щекам струйками сбегает дождь. Капли пробираются через волосы и уши и растекаются под воротничком. Это не дождь. Жуки вылезли из грязи и разбирают меня на части, воюя между собой за драгоценные лоскутки тонкой, бледной кожи, сражаясь за влажную ткань во рту и под повязками. Посланные через усики-антенны закодированные послания передаются от дрона к дрону на расстояние взмаха крылышка, пока сигнал не поступает к механическим рабочим. Шестиногие бурильщики пробиваются сквозь грязь, чтобы очистить мои хрящи стальными мандибулами, срезать и соскрести с них плоть, оставив только ломкие кости, которые вобьет в грязь неутомимый горячий дождь. Ты произносишь мое имя, но голос твой теряется в шуме электрических разрядов. Вспышка. И раз, и два, и три. Гром. Пошевели пальцами ног. Шевелю. Но у меня нет пальцев. У других людей пальцы на ногах есть, но у меня только обувь. Пошевели шнурками. Не получается. Мне не убежать от легионов тех – или того, – кто врывается через разбитые в щепки двери, которых я не вижу. Открой глаза.
Я сижу пристегнутый ремнем на пассажирском сиденье мини-вэна. За рулем незнакомец в оранжево-желтой рубашке-поло.
– По-нашему это называется талон предупреждения. – Он протягивает руку, упирается мне в щеку большим пальцем и оттягивает нижнее веко левого глаза. – Очухался? Что, снова улетел? – Рука ложится на руль. – Вопрос в том, можешь ли ты снова этим заниматься?
У меня хрустят пальцы. Тру ладони одна о другую, и моторика понемногу восстанавливается. За спиной кто-то настойчиво требует мороженого. В голосе взрослого ясно слышны капризные нотки ребенка.
– Сейчас, сынок. Подожди немного, и мы купим тебе мороженого, – отвечает водитель и, обращаясь уже ко мне, добавляет: – Не узнаю. Где тот крутой парень, которого я знал? Где норов? Где мозги? Ни того, ни другого – дрожащая развалина.
Во рту металлический привкус. Язык неподвижен, так что я даже сглотнуть не могу. Как бы не захлебнуться собственной слюной. Стекла подняты, кондиционер вытягивает слабый запах лимона и цветущей груши и гонит холодный, пустой воздух.
– Мороженого.
– Успокойся.
Не знаю, где мы, но по крайней мере от «Огненной птицы» далековато. Едем между домами, которые я видел вдалеке из окна, похожие на коробки пчелиные ульи цвета песка, с красными черепичными крышами над высокими стенами или железными заборами. Облепили холмы, точно усоногие рачки. Саммит. Шейди-Пойнт. Виста-Эйкрс. Через каждые полмили появляются группки мексиканцев, подстригающих лужайки или зеленые изгороди. Самый яркий цвет у них, у этих газонов, никогда не видевших ни одеяла, ни стула, ни бейсбольной биты. Я не чувствую никакого запаха.
– Извини за шокер, – говорит мужчина. – Сынишка любит игрушки, да и я большой поклонник сильных мер. Ты и сам должен знать. Это мой парень там, сзади. Ты с ним встречался. Много раз. – Он молча смотрит на меня, ожидая реакции. – Ничего, да?
Ничего.
– Ты только не глупи, – продолжает мужчина. Я парализован, так что приходится слушать. – Он знает все главные артерии, нервные узлы, все болевые точки. Куда ударить, на что надавить. За сорок минут разделывает, потрошит и пакует взрослого человека в мусорный мешок. Во многих отношениях ребенок, но к этому ремеслу у него талант. Большинство профессионалов ему и в подметки не годятся. Своего рода легенда в определенных кругах. Ты ведь лучший, не так ли, Могильщик? – Мужчина смотрит в зеркало заднего вида.
– Я тебя люблю.
– Я тебя тоже, сынок. Вот и приехали.
Он сворачивает к торговому комплексу, того же неопределенного песочного цвета, что и все окружающие постройки, и паркуется в синей зоне. Грязный мальчишка-идиот открывает дверцу «форда» с моей стороны. Могильщик отстегивает ремень, хватает меня за локоть, вытаскивает и ставит на ноги. В его руках я – набитая пухом кукла.
Вечерние тени растекаются словно свежие чернила, пока не заливают всю площадку. Сухой воздух пустыни промокает их, окрашивая небо в синий, как лепестки ипомеи, цвет. Стремительно бегущие стрелки громадных часов над входом вызывают головокружение. Я опускаю глаза и не сопротивляюсь, когда Могильщик тянет меня куда-то. Ноги еще не обрели полной чувствительности, и я переставляю их осторожно, чтобы не поскользнуться ненароком на расплывшихся мокрых тенях.
Сопровождающие оставляют меня возле продовольственного отдела, напротив кинотеатра. Я слышу, как жужжит электрический ток, пробегая по неоновым огням. Парочка возвращается. Сынок, потеряв интерес к миру, грызет вафельный рожок.
– Я – Уайт, – говорит мужчина. – Иногда меня кличут Манхэттеном, но вообще-то я из Рочестера. Итак, повторяю. Вопрос в том, можешь ли ты снова этим заниматься? – Он поглаживает сына по волосам – раз, второй, – потом складывает руки на груди и смотрит на меня в упор. – Неужели и впрямь хочешь, чтобы мы начали сначала?
Говорить не могу. Не могу даже ни покачать головой, ни кивнуть, что было бы совсем не лишним.
– Попробуй, – говорит Могильщик и протягивает папаше ложечку мороженого. Манхэттен Уайт проглатывает кусочек и снова смотрит на меня. – Мы с тобой работаем на одну организацию. Точнее, работали, поскольку ты взял незапланированный отпуск. Помимо прочего, в сферу наших интересов входит производство и поставка фармацевтической продукции. В этой организационной цепочке ты подчиняешься мне как служащий отдела исследований и разработок. И не просто служащий, а глава вышеупомянутого отдела. Что касается меня, то я подчинялся и подчиняюсь мистеру Хойлу.
Могильщик опускает в мороженое пластмассового солдатика. Стоя по колено в ванильной массе, солдат со шрамом через все лицо наклоняется – наверняка для того, чтобы зарядить гранатомет.
– Положение в организации у тебя, сам понимаешь, очень высокое, – говорит Уайт. – Денег для нас – и, разумеется, для себя – ты заработал немало, и до последнего случая мы были тобой очень довольны.
– А кому подчиняется Хойл? – С подбородка на онемевшие, покалывающие руки скатывается длинная нить слюны. Я утираюсь ничего не чувствующей ладонью.
– Да, похоже, быстро не получится, – говорит Уайт. – Хойл не подчиняется никому. Он первое и последнее звено в цепи, и все, что в ней есть, принадлежит ему. Он – последнее слово в этой организации, его организации, и ты ухитрился попасть в его черный список. Большинство других в такой ситуации просто получили бы полный расчет, но у тебя есть что-то вроде парашюта, так что мы готовы к переговорам.
– Я весь внимание. – Слова склеиваются как теплая глина.
– Сарказм. Это уже в духе старины Эрика, – говорит он и улыбается. – Речь пойдет об устроенном тобой пожаре. Чтобы было ясно с самого начала, добавлю, это не обвинение. Никто – ни я, ни Холл – не считает, что ты сделал это намеренно. Меры предосторожности соблюдались, зарабатывал ты, мягко говоря, неплохо. Все уверены, что имел место несчастный случай. Тем не менее факт остается фактом: за лабораторию отвечал ты, и пожар случился в твою смену.
– Хойл наверняка застрахован.
– И да, и нет, – говорит Уайт. – Все не так просто. Помимо значительного материального ущерба в форме производственных мощностей и запасов готового продукта, есть еще вопрос интеллектуальной собственности. Ты работал по найму, выполнял для нас определенную работу, результаты которой, следовательно, принадлежат нам. И последнее. У нас есть основания полагать, что ты лично ответственен за сокращение запасов товарно-материальных ценностей. Учитывая твое правовое положение, нам приходится рассматривать вариант, при котором ты заключишь судебную сделку в нарушение соглашения о неразглашении с организацией. Для мистера Хойла такое развитие событий таит значительную потенциальную опасность, что, в свою очередь, представляет значительную потенциальную опасность и для тебя самого.
– Это угроза?
– Да. Представить в письменной форме?
– Я копам ничего не сказал.
– Но они уже спрашивали.
– Я на их вопросы не отвечал.
– Знаю, что не отвечал, – говорит Уайт. – В противном случае малыш Могильщик уже разложил бы тебя по пакетам. Тем не менее тебя допрашивали и еще будут допрашивать. И будут торговаться, предлагая будущее в обмен на нарушение соглашения о неразглашении.
Вонзаю ногти в ладонь. Закусываю губу, пока боль не прорывается через белый шум помех.
– Я не собираюсь торговаться тем, чего не знаю, а я не знаю ничего. – Слова звучат уверенно, солидно и ясно. Скребу языком по зубам и чувствую вкус крови. – Вы правы, я, возможно, несу ответственность за сокращение запасов, поскольку причинил серьезный ущерб еще и самому себе. Если что-то сказал, забудьте и не обращайте внимания. Если я правильно вас понял, Хойл не сможет использовать пожар для получения налоговых льгот. Я же со своей стороны не в состоянии компенсировать Хойлу или организации тот ущерб, который, как вы утверждаете, я ему причинил.
– Полиция придерживается того же мнения, так что спорить здесь не о чем.
– Ладно. Тогда что мы с вами обсуждаем?
– Одно из двух, – говорит Уайт. – Первое. Ты заявляешь, что не в состоянии компенсировать причиненный пожаром ущерб. Ошибаешься. Не считая руководства, ты зарабатывал едва ли не больше всех. При этом был трудоголиком и вел довольно умеренный образ жизни. Следовательно, мы вправе предположить, что компенсировать причиненный уничтожением лаборатории ущерб тебе по силам. Мы готовы подождать, покаты полностью восстановишься после неприятного инцидента в пустыне и сможешь восстановить доступ к офшорным счетам или хранилищам, где сосредоточены твои сбережения.
– А если не смогу?
– Тогда будешь заниматься исследованиями и разработками. Ну и опять же остается вопрос о находящейся в твоем владении нашей интеллектуальной собственности.
– Никакой интеллектуальной собственностью я сейчас не владею. – Слюна отдает неприятным вкусом, как будто я пил из металлической банки. Электрическое онемение сменяется пожаром под повязками. А если пересаженная кожа сместилась? Если не приживется?
– Я тебя, Эрик, не первый день знаю. И я тебе верю. – Он поднимается, и Могильщик, не говоря ни слова, помогает подняться мне. – Тем не менее, учитывая твое нынешнее состояние, договор о неразглашении остается в силе. Моя же обязанность заключается в том, чтобы ты, по мере выздоровления, смог решить вопрос возмещения убытков, сохранив при этом в неприкосновенности наши производственные секреты.
– А в чем моя обязанность?
– Вспомни. И не забывай держать рот на замке.
– То же самое говорили и копы, и адвокат. Теперь и вы туда же. Хотите, чтобы я вас с ними познакомил?
– Вижу, вижу старину Эрика. Поверь, все устроится само собой и даже раньше, чем ты себе представляешь.
– Мне надо вернуться. – Я так и не встретился со Стеклянной Стриптизершей.
– Вернуться куда?
Кто бы ни сидел на хвосте, Энслингер или Уайт, я не хочу, чтобы меня высаживали у отеля.
Едем молча. Мошки бьются об уличные фонари, отбрасывая жуткие тени на оштукатуренные кирпичные стены, защищающиеся Шейди-Пойнт и Виста-Эйкрс. Солнце садится, и дома-муравейники становятся одного цвета с наступившими сумерками. Уайт не смотрит ни на меня, ни на сына. Могильщик, если еще не уснул, изучает мой затылок.
– Ну вот, приехали, – говорит Уайт. Я сказал отвезти куда-нибудь, вот он и привез меня к «Форду». – Давай посидим как-нибудь, выпьем кофе.
Глава 8
Воспоминания роятся вокруг ярко пылающего в темноте пятна подобно пылевому облаку вокруг умирающей звезды. В этом хаотичном вихре я вижу рисунки и узоры, промежутки и бреши между жужжащими крылышками и усиками. Код их так же реален, как прикосновение твоей кожи к моей, и этот код говорит, что я снова ребенок.
Я удвоил дозу по сравнению со вчерашней, зная, что, когда кайф пройдет, буду низвергнут в пламени с неба на землю, но зато снова побывал в твоих объятиях, снова ощутил прикосновение твоих губ и твое дыхание. Я снова почувствовал поцелуй вселенной, всплеск волны, раскатившейся внутри меня, вверх и вниз, через сердце и до пят.
Джек был прав, я действительно слышу ток в проводах. Выдернул из розеток все шнуры, вывернул лампочки, а токи гудят, будто попавшая в ухо рассерженная саранча. Могу передвигаться по комнате с завязанными глазами, ориентируясь на жужжание дронов и мерзкий привкус жести. Подложил под дверь полотенце и прикрыл розетки подушками, однако звуки просачиваются сквозь них, как вода из текущей трубы, и вползают в сон.
Я купил кусочек Бога, истолок в порошок и смешал со спиртом в стеклянном пузырьке цвета мелассы. На этикетке изображен красный череп с перекрещенными костями. Над рисунком надпись – «Яд». Внизу другая – «Мышьяк».
– Крысиное дерьмо. – Отец сидел на полу в темной комнате подвала, держа между двумя пальцами, большим и указательным, крохотный шарик, похожий на мягкий кусочек глины.
Я слышал их по ночам – как скребут когти по камню, как волочатся, словно кожаные веревки, хвосты по крыше. Мы закладывали мышьяк в кусочки сахара и намазывали арахисовым маслом сельтерские таблетки. Мы раскладывали приманку в коробки из-под пирожных и оставляли их на крыше и в подвале. Одни крысы пожирали отравленный сахар, другие отдавали предпочтение арахисовому маслу, а потом те и другие дохли, и распухшие, разорванные внутренности лезли из разинутых ртов. Я любил экспериментировать и, удовлетворяя любопытство, комбинировал различные яды с новыми приемами маскировки наживки. Мышьяк, как я узнал, есть химический элемент, один из девяноста восьми атомов, составляющих всю вселенную. Следовательно, рассуждал я, Бог тоже в какой-то части состоит из мышьяка. И эта его часть убивает вредителей и паразитов и повергает в конвульсии людей.
Пока другие ребята моего возраста стригли лужайки или разносили газеты, я выгребал из подвала и сметал с крыши косматые комочки мяса. Приближался сезон бурь, и мама страшно боялась оказаться в тесном помещении даже с одной крысой, живой или мертвой, не говоря уже о целой колонии.
О сиренах мне рассказал отец. Моя работа заключалась в том, чтобы, когда они завоют, закрыть все окна в доме и держать открытой дверь в подвал. Каждая секунда между вспышкой в небе – и раз, и два, и три – и ударом грома равнялась одной миле между тобой и гневом Господним. Ты еще не успел захлопнуть дверной засов и прошептать: «Боже, помилуй» – и раз, и два, и три, – а Он уже затапливает соседний округ, и псы Его тут как тут.
Ты не знаешь, что такое «громко», если не слышал, как обутые в черные ботфорты ангелы Господа сносят с петель дверь, швыряют ее в небо и сбрасывают с фундамента твой дом. Ангелы не звонят и не просят показать документы. Они разваливают на две половинки самое большое дерево на твоем участке, выбивают пробки, сжигают телевизор, радио и телефон и оставляют тебя среди мертвецов.
Иногда то, что казалось громом, было не громом, а хлопающей дверью, и тогда в доме звенели стекла, осыпалась штукатурка и дрожали картины на стенах. Мама и папа никогда не повышали голос и не кричали. Гнев есть грех. Если не кричать, то и греха не будет. Напиваться – грех. Пить – нет. Если ты выпил, это не значит, что ты напился, говорила мама. Руководствуясь этим, они пили втихую, втайне друг от друга, а вечером не кричали и не дрались. Они шипели друг на друга сквозь стиснутые зубы. Любой неверный вопрос – где папа? что на обед? можно посмотреть телевизор? – мог задеть натянутую до предела проволоку напряжения. Следующий за этим взрыв – ремень или деревянная ложка – был не проявлением гнева, а уроком, дисциплинарной мерой и, соответственно, не считался грехом.
Мерилом напряжения стали сила и объем повседневной активности: пищу накладывали или швыряли на тарелки, приборы раскладывали или бросали. Безмолвие застолья нарушали только стук посуды и звон вилок и ложек. Гнев их был столь же реален и осязаем, как перемены в погоде. За звяканьем кофейника и воцарявшейся тишиной наступала пауза – и раз, и два, и три, – затем хлопала дверь или разлеталась на кусочки тарелка. Не дожидаясь, пока укажут, я вставлял стекла в оконные рамы, шпаклевал стены и вешал на петли двери – замазывал сокрушавшую наш дом тихую ненависть.
Сидя в подвале при тусклом красном свете, мы с отцом услышали сирены. Я побежал наверх, открыл окна и схватил радио. Когда вернулся, отца не было. Навалившись на тяжелую дверь, я высунул голову – в лицо ударил град, уши заложило от свиста – и окликнул его. Голос мой – шепот, похороненный в реве носящегося по кругу поезда.
Отец стоял с фотоаппаратом под грушей, не обращая внимания на сирены, ветер, град и грохот поезда. Где-то вдалеке отломился и рухнул кусок неба, потянув за собой весь остальной свод. Небо ударилось о землю громадным черным клином, и у меня на глазах исчез в клубе пыли и мусора целый дом. Черный клин вертелся и корчился; небо отчаянно пыталось втянуть его в себя, вернуть на место. Вихрь сопротивлялся, швырял почтовые ящики, собак, двери, цеплялся за все, что только можно, чтобы удержаться за землю. Наконец отец махнул мне рукой и спустился в подвал.
Съежившись, сидели мы в освещенном тусклым красным светом и очищенном от крыс подвале, пока Господь, псы Господни и самые сильные, самые яростные ангелы Его бились, колотили и кричали снаружи. Они разбросали и разбили все, что было в нашем доме, и даже грозили снести сам дом. Они пинали, рвали с петель двери, молотили по ржавому засову и выли, орали, требовали открыть. Они швыряли нам в голову бетонную пыль, плевали градом через трещины в фундаменте. Красные лампы вспыхнули, погасли, а потом взорвались, разбросав фонтанчики белых искр. Оглушенные их воем, мы не слышали самих себя, но держались. Мы так и не открыли двери. Мы так и не впустили их.
Глава 9
Мусорный дождь бьет в лицо. Я тру глаза, пытаюсь выковыривать щепки, но ничего не нахожу.
Дом не трясется, и Господь не ломает дверь. Я в своем номере в отеле «Огненная птица». Ливень – это улей фантомных жучков, раздирающих кожу миллионом невидимых мандибул. Ночью мне заменили череп. Кости плеч, локтей и коленей вибрируют в мышцах словно ржавые петли. Я пью из-под крана. Пью, пока больше уже не лезет, но горло все равно как будто набито ватой, а под повязки насыпали деревянных опилок.
Бритье почти сравнимо с операцией на глазах – дрожат руки. Что-то перескакивает через голую ногу. Крохотные коготки и розовый хвост. Меня бросает в дрожь, и фантомные мандибулы не выдерживают перегрузки. Рука соскальзывает, и бритва падает в раковину – с комком пены, влажной щетиной на лезвии и свежей кровью.
Джек и Дылда сидят вместе – старая супружеская пара. Джек читает газету. Дылда тупо, как загипнотизированный, смотрит в снежащий экран; к ушам его приклеились наушники.
– Влюблены, да? – спрашивает, отрываясь от газеты, Джек.
Я шарю по карманам, надеясь набрать мелочи для кофейного автомата. Может, Джек перехватил мой взгляд на его приятеля?
Кофейный автомат похож на экскаватор.
– Он замолчал после смерти Майлза Дэвиса, – поясняет Джек.
В упавшую откуда-то картонную чашку изливается горячий ручеек.
– Нашли Дезире? – Его газета отстала от жизни. На первой странице сообщается о ракетном ударе США по Ливии.
– Да, спасибо.
– Так вы влюблены. Я не ошибаюсь?
– Да, вроде того.
– Конечно, влюблен. У вас это на лице написано. – Он медленно и аккуратно складывает газету, так что любой желающий еще может узнать о начавшейся охоте на Каддафи.
– Это прекрасно. Каждый раз как первый. С этим ничто не сравнится.
– Точно.
– А токи? – Тот же покровительственный тон, ровный метроном-голос. – Не опасно? Или всего лишь неудобство?
Кофе отдает вкусом вскипяченной в выброшенной покрышке воды.
– Что там, за стенами, можно понять, только когда услышишь. Мили проводов, и все гудит от тока. Силовые линии, трансформаторы, радиоволны, микроволны, радары. У вас нет металлических пломб?
– Не знаю, не проверял.
– Будьте бдительны, а то эти сигналы могут ведь раскодироваться прямо в ушах. Начнете слышать телефонные разговоры, ток-шоу и прочую болтовню, а выключить не сможете. Станете богом – всемогущим и одновременно сумасшедшим. От такой любви недолго и рехнуться.
– Я буду осторожен.
– Осторожность для туристов. Вы уже зашли слишком далеко. Сами ведь сказали, что влюблены.
– Ладно, сделаю тюбетейку из фольги. Скажете размер головы, я и вам одну подброшу. Поможет?
– Нет, не поможет. Как не помогут ни ваш сарказм, ни неучтивость.
– Мне надо идти.
– Я всего лишь пытаюсь помочь, 621. Все, что еще не вспомнили, вы забыли не просто так, а по какой-то причине. Избавьтесь от нее. Сердечная боль ничто по сравнению с шумом в голове. Только не тяните, сделайте это сейчас.
Уже у дверей меня догоняет его крик:
– Кроме меня, у вас друзей нет.
Халатом у них называется свисающий до колен бумажный фартук цвета очистителя для раковин. Одна медсестра взвешивает меня, другая измеряет кровяное давление, третья слушает сердце. Четвертая расспрашивает о лекарствах, которые я, как предполагается, принимаю. Я представляю, что они строят иглуили вытесывают между пациентами ледяные скульптуры, делают записи на одном и том же планшете и говорят, что меня скоро осмотрит врач. По две минуты на каждого – получается больше двух часов.
Напротив меня девушка с трубками в руке и в носу. Повязка на голове сползла и прикрывает левый глаз. Рядом, держа ее за руку, сидит около попискивающего железного ящика женщина. Возле огнетушителя лежит на каталке мужчина. То ли бездомный, то ли мертвец, но скорее всего и то, и другое. Просачивающаяся через простыни в районе головы и груди кровь темнеет и тускнеет. Простыни придется отдирать от тела.
Мы у них перед глазами – с повязками, окровавленными простынями, в бумажных халатах, – но при этом невидимы. Пока мы ждем, среди оштукатуренных ульев в холмах над «Огненной птицей» разворачивается великая антидрама жизни. Кто-то обручился или прогулял уик-энд на свадьбе или похоронах. Кто-то спустил большие деньги, перекрасил волосы, забрал машину с принудительной стоянки. Кого-то трахнули. Кто-то подал заявление в колледж или перепил. Все обыденно и привычно, невероятно и нереально в сравнении с моими последними сорока восемью часами.
Отель «Огненная птица» пропитан испарениями упакованного в кирпичную коробку человечества: запахами мочи, пота и крови – выделений живых существ. Дома цвета протезных конечностей, втиснутые между калиброванными зелеными холмами Шейди-Пойнт, фильтруют и смывают этот вонючий коктейль с крайней предвзятостью. То, что я вдыхал в этих холмах и торговом центре, лишено каких-либо запахов, как отвратительных, так и нейтральных. Оно – ничто. Я знаю, потому что запах ничто здесь повсюду. Дабы удалить и скрыть пахучие следы и выделения борющихся за жизнь живых существ, делается все возможное. Смерть ждет, затаившись в запечатанных склянках с формальдегидом, тогда как половина живых, нагих и совершенно одиноких остаются без внимания второй половины, одетых в бледно-зеленые халаты и обитающих в грязно-коричневых домах.
Доктор Стэнли осматривает меня, избегая смотреть в глаза. При этом обращается то ли к планшету, то ли к моим повязкам.
– Что ж, выглядите вы получше, чем в прошлый раз. – Доктор немного старше меня, года, наверное, на четыре. Кадык выпирает из горла точно ручка воткнутой сзади в шею швабры.
– Как самочувствие?
– Мерзну.
За ширмой слева разговаривают двое мужчин. Один впервые обрел голос после того, как Смерть исполнила ему колыбельную, а врач вернул к жизни, очистив ржавое горло от грязи и травы. Голос просит выпустить его отсюда.
– Здесь отмечено, что температура у вас нормальная, – говорит доктор Стэнли, поглядывая на планшет. – Озноб или жар могут указывать на возникновение осложнений. Давно зябнете?
– С тех пор как сижу здесь раздетый, дожидаясь вас.
Доктор не отвечает. Каждый раз, когда он глотает, кадык проходит вниз по горлу, словно измеряет его глубину.
Из-за ширмы выходит санитар. Огромный, с такой темной кожей, что она отсвечивает синим, когда на нее падает свет. Он подставляет картонный стаканчик под струйку воды из питьевого фонтанчика и, обращаясь к невидимому голосу, говорит:
– Вас отпустят сразу же после следующего осмотра.
– Это был несчастный случай, – отвечает голос. – Мне не нужен никакой осмотр.
Доктор Стэнли рассматривает мои повязки.
– Чешется, – сообщаю я. – И у меня частый кашель.
– Начальные признаки инфекции, – говорит он. – Это плохо. Мы вас перевяжем, а потом я пропишу более сильные антибиотики.
– Разве я их уже не принимаю?
– В том-то и дело. Скажите, вы принимаете достаточно жидкости?
– Что такое достаточно?
– Эрик, вам грозит отторжение пересаженных тканей. Забудьте о спиртном, пейте побольше воды. При ожогах, подобных вашим, нарушается жидкостный баланс в тканях. Поберегите себя. Как у вас со всем прочим? Память улучшается?
– Понемногу. Трудно сказать…
– Это не по моей части, – отвечает невидимому голосу санитар. – Мы обязаны докладывать обо всех такого рода случаях. Сидите смирно.
Голос просит кофе.
Доктор Стэнли выписывает стероиды, новую порцию антибиотиков и болеутоляющих.
На потолке, там, где прячутся камеры, появились волдыри. Еще накануне я их не видел. Смотрю на застывшие в точке кипения хромированные пузыри, и комната начинает плыть. Мужчина с ведром, возящий тряпкой по плиткам пола, цепляет меня за ногу, и я опрокидываю стенд с бессмысленным коллажем из обнаженных женщин и тропических пляжей, хаотическим соединением рекламных брошюр и медицинских справок.
– Вам помочь?
Я потревожил Контролера.
– Я был у вас вчера.
– Разрешите отметить вашу карточку. Десятое шоу у нас бесплатно.
Понятия не имею, о чем речь.
– У меня нет карточки.
На пошив его рубашки пошла, должна быть, простыня с двуспальной кровати. Он замирает на мгновение, прежде чем принять вид человека, способного решить любую проблему и не зря занимающего свое место. Глазки бегают по мне точками лазерного прицела. Хромированные пузыри на потолке регистрируют каждое движение. Невидимые щупальца щекочут мою шею и уши. Поначалу я думаю, что это пот, но потом жучки теряют хватку, падают под рубашку и начинают вертеться, пытаясь выбраться из джинсов. Наклоняюсь, чтобы собрать коробки с видеофильмами и не впасть в бешенство.
– Не беспокойтесь, – говорит он.
– Ничего, мне не трудно.
– Оставьте их. Не трогайте. – Он, видимо, принимает меня за сумасшедшего, однако же не прогоняет. Знает, что у меня есть деньги.
– Дез и ре работает?
– Должно быть, раз вы здесь. – Меняет мою двадцатку на жетоны по доллару каждый. – Четвертая кабинка.
У кабинки под номером четыре горит зеленый глазок монетоприемника. Я опускаю жетон и, когда стеклянная панель открывается, просовываю деньги.
– Вы за своим, а я за своим.
В розовой рамочке окошечка стоит, подсвеченный со спины, Энслингер. Волосы по киношному гладко зачесаны назад, на шее галстук в мелкую полосочку. На нем рубашка того же, что и глаза, цвета жидкого янтаря, темно-зеленый, почти черный костюм, через руку переброшено пальто из верблюжьей шерсти.
– Ну же, – говорит он. – Два года не вытаскивал пистолет. Попытайтесь достать что-нибудь, и я выстрелю вам прямо в пряжку ремня. Итак, что вы здесь делаете?
Деньги в руке, как засаленный носок. Чего бы я хотел, так это съежиться и заползти в какую-нибудь щель. Но только не здесь.
– Доктору нужен образец спермы, а с журналами в больнице у меня ничего не получилось. А вы давно здесь работаете?
– И когда же решили отказаться от сотрудничества? – спрашивает он.
– Это вам тараканы рассказали? Не надо их слушать. У меня пунктик насчет чистоты, вот они и взбесились. Снял номер в какой-то дыре и навел в комнате порядок. Подмел крошки, прочистил трещины в трубах. Кажется, раздавил одного, вот вся колония и ополчилась. Впрочем, они ведь на вас работают, так что вы уже и сами все знаете.
– Где вы были, Эрик? Последние два дня у меня на голосовой почте только сверчки трещат.
– Вам прекрасно известно, где я был. Ваши шпики прячутся в моем номере и даже заползают в одежду.
– Я так не работаю, – качая головой, говорит Энслингер. – И это не я к вам пришел, а вы ко мне.
– Какая удача. Случайно забрел в ваш офис. Или тут ваша дочка трудится?
Энслингер леденеет. Теплые янтарные глаза застывают. Он не сердится и не усмехается, а только смотрит мне в лоб, за которым нет ничего, что могло бы ему понравиться.
– Скажи что-нибудь еще насчет моей дочери.
Таймер монетоприемника отсчитывает последние секунды.
– Ну же, смелее. Еще раз вспомни мою дочь.
Из-за стен проникают голоса, стоны наслаждения, похожие на предсмертные. Проклятия и ругательства заменяют нежности.
– Купи себе журнал! – орет Энслингер.
Рядом распахивается дверь. Я слышу поспешные шаги раздосадованного клиента.
– Я говорил с вашим адвокатом, – сообщает детектив.
– Значит, вам известно, что мне нельзя разговаривать с вами.
– Мне известно только то, что вы вроде бы согласились сотрудничать со следствием. Между прочим, он тоже не может с вами связаться. Через пару дней ему передадут несколько томов документов толщиной с Ветхий Завет. Там перечислено все, что мы нашли в радиусе сотни миль от места пожара. Все до последнего стеклышка. Мы получили результаты экспертиз почвы и подземных вод. И много чего еще. Адрес, по которому зарегистрирована ваша машина, совпадает с адресом сгоревшего помещения. Но вот известно ли вам, кто владеет этим помещением? Знаете ли вы, кто несет юридическую ответственность за все случившееся?
Может, Уайт, а может, и не Уайт.
– Мы тоже не знаем, – продолжает Энслингер. – Сделка совершена компанией с ограниченной ответственностью, интересы которой представляет адвокатская фирма с частным почтовым ящиком на Каймановых островах.
– Я ничего от вас не скрываю. Пытаюсь вспомнить. Нужно время.
– Как только большое жюри примет решение, делать какие-либо предложения будет уже поздно. Расскажите мне что-нибудь полезное. Или поделитесь с Мореллом.
– А если мои бывшие работодатели не хотят, чтобы я с кем-либо разговаривал?
– Так у вас есть работодатели?
Вот черт!
– Вам угрожали? – Легко ему задавать такие вопросы.
– Вы не заметили? Я сказал «если».
– Если вы назовете тех, кто вам угрожал, мы вычислим, на кого вы работаете. – Энслингер набрасывает на плечи пальто из верблюжьей шерсти. – И тогда это будет означать, что вы с нами сотрудничаете. Мы сможем вас защитить.
– У вас есть карточка?
– Нет.
Автомат пищит, и кабинка номер четыре погружается в темноту. Сердце затихает, руки перестают дрожать. Однако уйти я не могу.
Бросаю в щель еще один жетон, и Стеклянная Стриптизерша возвращается. Надутая секс-куколка, карнавальный приз, она вертится как ни в чем не бывало, словно окошечко и не открывалось. Даже если бы Энслингер выстрелил мне в лицо, она точно так же кружилась бы на моем окровавленном трупе. Сую деньги, и она прижимает к стеклу ладошку, как будто у нас свидание в тюрьме. Счетчик тикает, а она все держит ладонь. Я прижимаю к стеклу свою – в тюрьме принято обмениваться этим жестом – и пытаюсь сглотнуть подступивший к горлу обжигающий ком. Теперь, зная, что она видит меня, я хочу ее еще больше.








