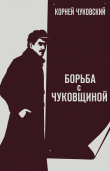Текст книги "Дневник (1901-1929)"
Автор книги: Корней Чуковский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
1916
21 июля.Вчера именины Репина. Руманов решил милостиво прислать ему добавочные 500 рублей при таком письме: «Глубокоуважаемый И. Е. Правление Т-ва А. Ф. Маркса в новом составе в лице И. Д. Сытина, В. П. Фролова и А. В. Руманова,ознакомившись с вашим прекрасным трудом и желанием получить дополнительное вознаграждение в сумме 500 рублей, не предусмотренное договором, считает своим приятным долгом препроводить Вам эту сумму. С истинным уважением В. Фролов».
Я вошел в кабинет И. Е., поздравил и прочел письмо. Он изменился в лице, затопал ногами: – Вон, вон; мерзавец, хочет купить меня за 500 рублей, сволочь, сапоги бутылками (Сытин), отдайте ему назад эти 500 и вот еще тысяча (он полез в задний карман брюк)... отдайте... под суд! под суд, и т. д.– Я был очень огорчен, что эта чепуха доставила ему столько страдания. Сегодня снова хочу попытать свое счастье.
На именинах вчера – обедали в саду, великолепные фрукты, компот и т. д. Шкилондзь пела Репину чарочку. Бобочка с Женечкой Соколовым в пруду на веслах. Ермаков меня травил и дразнил: через месяц призыв ратников, и моя участь зависит от Ермакова, он (в шутку) этим пользуется:
Сегодня – после двухлетнего перерыва – я впервые взялся за стихи Блока – и словно ожил: вот мое, подлинное, а не Вильтон, не Кушинниковы – не Киселева – не Гёц,– не все это мещанство, ликующее, праздно болтающее, к-рое вокруг. Последние дни мое безделье – подлое – дошло до апогея, и я вдруг опомнился и сегодня весь день сижу за столом: все 4 тысячи, что дала мне книжка, да две тысячи, что дали мне статьи, ушли в полгода, не дав мне ни минуты радости. <...>
Сентябрь 22.Вчера познакомился с Горьким. Гржебин сказал, что едем к Репину в 1 ч. 15 м. Я на вокзал. Не нашел. Но глянув в окно купе 1-го класса – увидел оттуда шершавое нелепое лицо – понял: это он. Вошел. Он очень угрюм: сконфузился. Не глядя на меня, заговаривал с Гржебиным: – Чем торгует этот бритый, на перроне? Пари, что это русский под англичанина. Он из Сибири – пари! Не верите, я пойду, спрошу.– Я видел, что он от застенчивости, и решил деловитыми словами устранить неловкость: заговорил о том, почему Розинеру до сих пор не сказали, что Сытин уже купил Репина. Горький присоединился: конечно, пора напомнить Розинеру, что он не редактор, а приказчик.
Заговорили о Венгрове, Маяковском – лицо его стало нежным, голос мягким – преувеличенно,– он заговорил в манере Миролюбова: «Им надо Библию читать... Библию... Да, Библию. В Маяковском что-то происходит в душе... да, в душе».
Но, видно, худо разбирается, ибо Венгров – нейрастенический, растрепанный, еще не существует, а Маяковский – однообразен и беден. Когда городская жизнь и то и другое...
Приехали на станцию – одна таратайка, да и ту заняли какие-то двое: седой муж и молодая жена. А у Горьк. больная нога, и ходить он не может. Те милостиво согласились посадить его на облучок – приняв его за бедного какого-то. У Репина Горький чувствовал себя связанным. Уныло толкался из угла в угол. Репин посадил его в профиль и стал писать. Но он позировал дико – болтал головою, смотрел на Репина – когда надо было смотреть на меня и на Гржебина. Рассказал несколько любопытных вещей. Как он ходил объясняться в цензуру.
Г о р ь к.– Ваш цензор неинтеллигентный человек.
Г л а в н. Ц е н з.– Да как вы смеете так говорить!
– Потому что это правда, сударь.
– Как вы смеете звать меня сударем. Я не сударь, я «ваше превосходительство».
– Идите, ваше превосх., к черту.
Оказывается, цензор не знал, что это Горький...– А потом мы оказались земляками (и Горький показал, как жмут руки). О Баранове нижегородском – все боялись, вор, сволочь – и вдруг оказывается, по утрам в 8 час. в переулке назначает свидание какой-то очень красивой даме, жене пивовара – сам высокий, она низенькая 40-летняя – так вдоль забора и гуляют... Она смотрит на него любовно снизу вверх, а он – сверху вниз, а я из-за забора – очень мило, задушевно.
А то еще смотритель тюрьмы – мордобоец – знаменитый в Нижнем человек, так он поднимал воротничок и к швейке. Швейка со мной по соседству, за перегородкой, в гнуснейшем доме жила. Он – к ней тайком – и (тихо, почти шепотом) Лермонтова ей читал... «Печальный демон, дух изгнанья».
Тут Юрий Репин робко: «Я очень сочувствую, как вы о войне пишете». Горький заговорил о войне: – Ни к чему... столько полезнейших мозгов по земле зря... французских, немецких, английских... да и наших, не дурацких. Англичане покуда на Урале (столько-то) десятин захватили. Был у нас в Нижнем купец – ах, странные русские люди! – так он недавно пришел из тех мест и из одного кармана вынимает золото, из другого вольфрам, из третьего серебро и т. д., вот, вот, вот все это на моей земле – неужто достанется англичанам – нет, нет! – ругает англичан. Вдруг видит карточку фотографич. на столе.– Кто это? – Англичанин.– Чем занимается? – Да вот этими делами... Покупает...– Голубчик, нельзя ли познакомить? Я бы ему за миллион продал.
Пошли обедать, и к концу обеда офицера, сидевшего весь обед спокойно, прорвало: он ни с того ни с сего, не глядя на Горького, судорожно и напряженно заговорил о том, что мы победим, что наши французские союзники – доблестны, и англ. союзники тоже доблестны... тра-та-та... и Россия, которая дала миру Петра Великого, Пушкина и Репина, должна быть грудью защищена против немецкого милитаризма.
– Съели! – сказал я Горькому.
– Этот человек, кажется, вообразил, будто я командую немецкой армией...– сказал он.
Я пошел домой и не спал всю ночь.
17 октября.Вчера был у меня И. Е. Я вздумал читать ему «Бесы» (при Сухраварди). Он сдерживал себя как мог, только приговаривал: дрянь, негодная, мелкая душа и т. д.– и в конце концов не мог даже дослушать о Кармазинове.– И какой банальный язык, и сколько пустословия! Несчастный, он воображал, будто он остроумен... Нет, я как 40 лет назад швырнул эту книгу (а Поленов поднял), так и сейчас не могу.
1917
1 января.Лида, Коля и Боба больны. Служанки нет. Я вчера вечером вернулся из города, Лида читает вслух:
– Клянусь Богом,– сказал евнуху султан,– я владею роскошнейшей женщиной в мире, и все одалиски гарема...
Я ушел из комнаты в ужасе: ай да редактор детского журнала 1, у к-рого в собств. семье так.
21 февраля.Сейчас от Мережковских. Не могу забыть их собачьи голодные лица. У них план: взять в свои руки «Ниву». Я ничего этого не знал. Я просто приехал к ним, потому что болен Философов, а Философова я нежно люблю, и мне хотелось его навестить. Справился по телефону, можно ли. Гиппиус ответила неожиданно ласково: будем рады, пожалуйста, ждем. Я приехал. Милый Дм. Влад. пополнел, кажется здоровым, но усталым. Чаепитие. Стали спрашивать обо мне и, конечно, о моих делах. Меня изумило: что за такой внезапный ко мне интерес? Я заговорил о «Ниве». Они встрепенулись. Выслушали «Крокодила» с большим вниманием. Гиппиус похвалила первую часть за то, что она глупая,– «вторая с планом, не так первобытна». Вошел Мережковский и тоже о «Ниве». В чем дело, отчего «Нива» такая плохая. Я сказал им все, что знаю: надо Эйзена вон, надо Далькевича вон.– Ну, а кого бы вы назначили (все это с огромным интересом). Я, не понимая, почему их заботит «Нива», ответил: – Ну хотя бы Ильюшку Василевского.– Они ухмыльнулись загадочно. «Ну а вы сами пошли бы?» Я ответил, что об этом уже был разговор, но я один боюсь. И вот после долгих нащупываний, переглядываний, очень хитрых умолчаний – они поставили дело так, что «Ниву» должна вести Зинаида.– Ну вот Зина, например.– Я ответил, не подумав: – Еще бы! Зинаида Н. отличный редактор.– Или я,– невинно сказал Мережк., и я увидел, что разыграл дурака, что это давно лелеемый план, что затем меня и звали, что на меня и на «Крокодила» им плевать, что все это у них прорепетировано заранее,– и меня просто затошнило от отвращения, как будто я присутствую при чем-то неприличном. Вот тут-то у них и сделались собачьи, голодные лица, словно им показали кость:
– Мы бы верхние комнаты под Религиозно-Философское О-во,– сказал он.
– И мои сочинения дать в приложении,– сказала она.
– И Андрея Белого, и Сологуба, и Брюсова дать на будущий год в приложении!
Словом, посыпались планы, словно специально рассчитанные на то, чтобы погубить «Ниву». Но какие жадные голодные лица.
4 марта.Революция. Дни сгорают, как бумажные. Не сплю. Пешком пришел из Куоккала в Питер. Тянет на улицу, ног нет. У Набокова: его пригласили писать амнистию. <...>
10 марта.Вчера в поезде – домой. Какой-то круглолицый самодовольный жирный: «Бога нету! (на весь вагон) смею уверить вас честным словом, что на свет я родился от матери, не без помощи отца, и бог меня не делал.– Бог жулик, вы почитайте науки». А другой – седой, истовый, почти шепотом: «А я на себе испытал, есть Господь Бог вседержитель» – и елейно глядит в потолок. Я стал его расспрашивать (когда стоеросовый атеист ушел), и он рассказал мне, какое чудо уверило его в бытии божьем.
– Я сиделец монопольной лавки. Сижу и гляжу на образ – казенный– Божьей Матери. Вдруг экспроприаторы. Стреляют, один раз возле уха, а другой раз в упор, в живот. И что же – пуля скользнула по животу и отскочила. И я понял, что это чудо.
30 апреля.Сейчас к Репину ходили по воду: я, Боба, Коля, Лида, Маня и Казик. Мы взяли пустое ведро, надели на длинную палку и запели сочиненную детьми песню:
Два пня
Два корня (к-рые могут встретиться по пути)
Чтобы не было разбито (ведро)
Чтобы не было пролито
Блямс!
Илья Еф. повел меня показывать свои картины. Много безвкусицы и дряблого, но не так плохо, как я ожидал. Он сам стыдился своей «сестры, ведущей солдат в атаку», и говорит:
– Приезжал ко мне один покупатель, да я его сам отговорил. Говорю ему: дрянь картина, не стоит покупать. Про какой-то портрет: «Это знаете, как футурист Хлебников говорил: мой портрет писал один Бурлюк в виде треугольника,но вышло непохоже». Про «Крестный Ход»: «Теперь уже цензура разрешит». О своем новом портрете Толстого: «Я делал всегда Толстого – слишком мягкого, кроткого, а он был злой, у него глаза были злые – вот я теперь хочу сделать правдивее» 2.
Показывал с удовольствием – сам – охотно. Я сказал про бандуриста, к-рый с ребенком, что ребенок как у Уотса, он: «Верно, верно, жалко, что выходит на кого-нб. похоже».
Вынес детям по бубличку. Проводит новый водопровод в дом, чтоб зимою не замерзало.– А то умру, и дом останется не в порядке. Сказал он, не позируя. <...>
Осенью И. Е. упал на куоккальской дорогеи повредил себе правую руку. Теперь он пишет почти исключительно левой – 73-хлетний старик!
– Я только портрет (г-жи Лемерсье) правой рукою пишу!
1 мая.Ничего не могу писать. Не спал всю ночь оттого, что «засиделся» до 10 часов с И. Е. Репиным. Дела по горло: нужно кончать сказку, писать «Крокодила», Уота Уитмэна, а я сижу ослом – и хоть бы слово. Такова вся моя литературная карьера. Пишу два раза в неделю, остальное съедает бессонница.
12 мая.Боба каждый день традиционно пугает Евген. Владиславну – учительницу. Ежеутренно становится за дверью и – бах. Она традиционно пугается. <...>
Коля и Лида признались мне в лодке, что они начали бояться смерти. Я успокоил их, что это пройдет. <...>
Дети играют с Соколовым Женей в крокет, и мне приятно слышать их смех. Теперь я понял блаженство отцовства – только теперь, когда мне исполнилось 35 лет. Очевидно, раньше – дети ненормальность, обуза, и нужно начать рожать в 35 лет. Потому-то большинство и женится в 33 года.
Читаю Уитмэна – новый писатель. До сих пор я не заботился о том, нравится ли он мне или нет, а только о том, понравится ли он публике, если я о нем напишу. Я и сам старался нравиться не себе, а публике. А теперь мне хочется понравиться только себе,– и поэтому я впервые стал мерить Уитмэна собою – и диво! Уитмэн для меня оказался нужный, жизненно-спасительный писатель. Я уезжаю в лодке – и читаю упиваясь.
Did we think victory great?
So it is – but now it seems to
me, when it cannot
be help'd, that
defeat is great,
And that death and dismay are great 3.
Это мне раньше казалось только словами и wanton [ 15 ] 15
Ненужной (англ.).
[Закрыть]формулой, а теперь это для меня – полно человечного смысла.
Июнь.Ходил с детьми к Гржебину в Канерву. Гржебин, заведующий конторой «Новой Жизни» – из партии социал-прохвостов. Должен мне 200 р., у Чехонина похитил рисунки (о чем говорил мне сам Чехонин); у Кардовского похитил рисунок (о чем говорил мне Ре-Ми); у Кустодиева похитил рисунок (о чем говорил мне Кустодиев); подписался на квитанции фамилией Сомова (о чем, со слов Сомова, говорил мне Гюг Вальполь); подделал подпись Леонида Андреева (о чем говорил мне Леонид Андреев). Словом, человек вполне ясный, и все же он мне ужасно симпатичен. Он такой неуклюжий, патриархальный, покладистый. У него чудные три дочери – Капа, Ляля, Буба – милая семья. Говоря с ним, я ни минуты не ощущаю в нем мазурика. Он кажется мне солидным и надежным.
Здесь у нас целая колония. <...>
Ре-Ми, карикатурист. Хотя я в письмах пишу ему дорогой, но втайне думаю глубокоуважаемый. Это человек твердый, работяга, сильной воли, знает, чего хочет. Его дарование стало теперь механическим, он чуть-чуть превратился в ремесленника, «Сатирикон» сделал его вульгарным, но я люблю его и его рисунки и всю вокруг него атмосферу чистоты, труда, незлобивости, ясности. <...>
Потапенко, Игнатий Ник.Относится к себе иронически. Мил. Прост. Самый законченный обыватель, какого я когда-либо видал.
Среда. Июнь.Были у Репина. Скучно. Но к вечеру, когда остались только я, Бродский, Зильберштейн и П. Шмаров – все свои,– Илья Еф. стал рассказывать. Рассказывал о Ропете. —Ах, это был чудный архитектор. В то время фотографий не было, и архитекторы так рисовали! Он, Ропет, был очень похож на меня, лицом, фигурой – (помнишь, Вера?) – ноон чýдно, чýдно рисовал. И вот с ним случился случай. Он поехал в заграничную поездку… от Академии… я тогда отказался, остался в России. Он окончил почти в одно время со мной… поехал в Италию… всюду… и все рисует… церкви, здания… мотивы… И все в чемоданчик… рисует, рисует… и чемоданчик для него дороже всего на свете… Ну, едет в Вену… и так много рисовал, что сомлел – ехал, дожно быть, 3-им классом – сомлел, обморок,– носильщики его вынесли… и он очнулся только в номере гостиницы.
– А где мой чемоданчик? Где рисунки? Туда, сюда… нету. Ай-ай-ай, ищут, ищут, нету... А Ропет, он вдруг вот так (скрючился) – да так и остался шесть лет... И с тех пор он не мог оправиться. Потом он рисовал, но уже не то... Так и погибла карьера. (Лицо И. Е. изображает страдание.)
Вот Куинджи, тот не так... Тому нужно было 35 тысяч перевезти в Крым, в Симеиз, за имение... Так он взял корзинку от земляники, уложил туда деньги, зашил, и конец.
– Носильщик!
И все морщится, когда носильщик несет к нему в вагон «земляничную» корзинку:
– А, и эта дрянь тоже здесь.
Так и доехал. А Орловский (художники, слушайте!), когда ему нужно было везти деньги, брал порожние тюбики и набивал их червонцами. Казалось, что краски.
Все стали рассказывать случаи, как кого обокрали. И. Е. рассказал:
– Ехал я в Одессу из Киева. В Киеве получил 1500 р., положил их в конверт, и в карман. Бумажник в левом, а конверт в правом. Хорошо. Еду. Только входит в купе красавец, брюнет, выше среднего росту. Я как глянул на него, так сейчас за карман и схватился. Он острым глазом подметил этот жест и отвел глаза. И вот я заснул – на меня нашел столбняк, сплю и чувствую, как кто-то шарит у меня в карманах, и ничего... а потом проснулся: Одесса. Беру извозчика, еду в гостиницу... и вдруг на дороге, ай-ай-ай, нет конверта... назад! – искали, публикацию делали, ничего не помогло. А брюнет со мной в одной гостинице остановился – я его встретил и говорю:
– Знаете, меня обокрали.
Он вежливо, но не очень горячо выразил сочувствие... Полиция нашла у него много денег. Но я заметил, что далеко зашел(?), и в конце концов сказал полиции, что никаких претензий ни против кого не имею. Ну вот и все.
Заговорили о купании.
– У нас в Чугуеве был мальчик Вася Кузьмин... Так он, бывало, возьмет камень, положит его себе на голову и идет через Донец под водой. Две минуты кажутся получасом, и все думаешь: нет, не вынырнет. Но Вася всегда вынырял.
Я, бывало, хорошо плавал. В Петергофе там один остров был – так я до него доплывал. Многие удивлялись.
(Заметив, что здесь тень хвастовства.) – Но потом, через 25 лет, попробовал с Матэ и Ропетом у Стасова, в Парголове – и черт знает что вышло!
16 июня.Вчера я тонул. Прыгнул с лодки в воду, на глубину, поплавал, и тянет меня в воду. А Коле крикнуть не могу, все слова забыл, только глазами показываю. (Я с детства был уверен, что умру в воде. Как русские критики: Писарев, Валерьян Майков.) Наконец-то, Коля догадался.
Играю по вечерам с детьми в шарады. Вчера они представляли – линолеум, я с Лидой и Гретой – карниз и светелка. Коля играет плохо, суетится, кричит, ненаходчив. Я вчера читал ему о Robert Owen'e.
19 июня.Совсем не сплю. И вторую ночь читаю «Красное и Черное» Стендаля, толстый 2-томный роман, упоительный. Он украл у меня все утро. Я с досады, что он оторвал меня от занятий, швырнул его вон. Иначе нельзя оторваться – нужен героический жест; через пять минут жена сказала о демонстрации большевиков, произведенной в Петрограде вчера. Мне это показалось менее интересным, чем измышленные страдания Жюльена, бывшие в 1830 г.
Я сочинил пьеску для детей. Вернее, первый акт. Лида сказала мне: – Папа, у тебя бывает бесписноевремя (когда не пишется); пиши тогда для детей.
Был с Репиным вчера у Ре-Ми. Он какой-то вялый. Не оживился ни разу. У Ре-Ми Буховы и Богуславская, которая вчера рассказывала о Бурцеве, а я сдуру смеялся над нею и, кажется, обидел. Зря.
20-го июня 1917.Пишу пьесу про царя Пузана 4. Дети заставили. Им была нужна какая-нб. пьеска, чтобы разыграть, вот я в два дня и катаю. Пишу с азартом, а что выйдет... Черт его знает. Потуги на остроумие. Места, не смешные для взрослых, смешат детей до слез. <...>
24 июня 1917.Делаем детский спектакль. У нас есть конкуренты. Катя говорит: у них будет оркестр кронштадтского горизонта(гарнизона). Коля в восторге. О, с каким пылом я писал эту пьесёнку, и какая вышла дрянь. 3-го дня у Репина были скандалы: явился Миша Вербов, всюду объявляющий себя учеником Репина и т. д. Репин его выгнал при всех и взволновался. И. Е. пишет Ре-Ми. Утомляется, не имеет времени поспать после обеда, и оттого злится. Шмаров прочитал невинные стишки – об измене России союзникам, И. Е. не разобрал, в чем дело – и давай кричать на Шмарова:
– Черносотенные стишки! – Адель Львовна вступилась, он набросился и на нее, как будто она автор стишков. Гости были терроризованы.
28 июня.<...> Забастовали кондукторы Финляндской ж. д., и бедная Марья Б. застряла в городе. Бобочкино рождение. По Куоккале расклеены объявления, будто Межуев (лавочник) выдает конину за говядину. Значит, мы ели конину и сами того не знали. Меня укусила бешеная собака. <...>
10 июля.Маша утром: «Знаешь, в России диктататура!» От волнения. Еще месяц назад я недоумевал, каким образом буржуазия получит на свою сторону войска, и казну, и власть; казалось, вопреки всем законам истории, Россия после векового самодержавия вдруг сразу становится государством социалистическим. Но нет-с, история своего никому не подарит. Вот, одним мановением руки, она отняла у передовых кучек крайнего социализма власть и дала ее умеренным социалистам; у социалистов отнимет и передаст кадетам – не позднее, чем через 3 недели. Теперь это быстро. Ускорили исторический процесс.
15 июля.<...> Руманов говорил мне о Лебедеве, зяте Кропоткина: – Это незаметный человечек, в тени,– а между тем, не будь его, Кропоткину и всей семье нечего было бы есть! Кроп. анархист, как же! – он не может брать за свои сочинения деньги, и вот незаметный безымянный человечек – содержит для него прислугу, кормит его и т. д.
В последний раз, когда я видел Кроп., он говорил о несомненном перерождении рабочего класса после войны.– Рабочие уже созревают для другого быта! – говорил он американцу.– Вот мистер Томсон из Клориона говорил мне, что транспортные рабочие, ткачи и железоделательные уже могли бы получить производство в свои руки and control it [ 16 ] 16
И контролировать его (англ.).
[Закрыть]. <...>
23 июля.Итак, я сегодня у Кропоткина. Он живет на Каменном Острове, 45. Дом Нидерландского Консула. Комфортабельный, большой, двухэтажный. Я запоздал к нему – и все из-за бритья. Нет в Питере ни одного парикмахера – в воскресение. Я был в «Палэ Рояле», в «Северной», в «Селенте» – нет нигде. Взял извозчика в «Европейскую», забегал с заднего крыльца в парикмахерские, и все же поехал к Кропоткину небритый. Сад у Кропоткина сыроватый, комильфотный. Голландцы играют лаун теннис. В розовой длинной кофте – сидит на террасе усталая Александра Петровна – силится улыбнуться и не может. —«О! я так устала... Зимний дворец... телефоны... О! я четыре часа звонила, искала Савинкова – нет нигде... Папа сейчас будет... У него Бурцев». Мы пошли пить чай. Племянница Кропоткина, Катерина Николаевна, женщина лет 45, наливает чай – сладким старичкам с фальшивыми зубами и военно-морскому агенту Брит. Посольства, фамилии коего не знаю. Она рассказывает, как недели две назад солдаты делали у них на даче обыск – нет ли запасов продовольствия. Она говорила им: – Да вы знаете, кто здесь живет? – Кто? – Кропоткин, революционер! – А нам плевать...– И давай ломать дверь на чердак. Кропоткины позвонили комиссару Неведомскому (Миклашевскому), и солдаты поджали хвосты. В это время в боковых комнатах проходит плечистый, массивный с пикквикским цветом лица Кропоткин, вслед за ним Бурцев... Я раскланялся с Бурцевым издали, а Кропоткин через минуту радушно и бодро подошел ко мне: – Как же! как же! Я вас всегда читаю. Здравствуйте, здравствуйте...– и сел рядом со мною и с аппетитом принялся болтать, обнаруживая светскую привычку заинтересовываться любой темой, которую затронет собеседник. Мы заговорили о Некрасове. Он: – Да, да, потерял рукопись Чернышевского «Что делать», потерял 5. Ему князь Суворов (тогдашний генерал-губернатор) – добыл ее из Петропавл. Крепости, а он потерял. Я вам сейчас скажу стих. Некрасова, к-рое нигде не было напечатано.– И стал декламировать (по-стариковски подмигивая) известное стихотворение:
Было года мне четыре,
Мне отец сказал:
Все пустое в этом мире,
Дело капитал!
Декламацию сопровождал жестами. Когда шла речь о кармане – хлопнул себя по карману. «Я ведь много стихов знаю» – вот, напр., «Курдюкову», и процитировал из «Курдюковой» то место, где говорится о городе Бонне. Я почувствовал себя в знакомой атмосфере Короленко,– атмосфере благодушия, самовара, стишков, анекдотов. Я бывал у Короленки каждый вечер, в то время, когда он писал о смертной казни,– и это всегда была семейная благодушная идиллия.– Стишкам Некрасова научил меня мой учитель Смирнов,– сказал Кропоткин. Тут подошла княгиня.– Как вам не стыдно, что не заехали к нам в Англии! – сказала она равнодушно-радушно. Тут я сразу почувствовал, что они устали, что я им в тягость, но что они покорно подчиняются уже сорок лет этой участи: принимать гостей – и выслушивать их внимательно, любезно, дружески и равнодушно. Он спросил меня, где я живу. Я подробно описал ему нашу коммуну – и сказал, что это совершенно новая для меня среда, да и вообще еще не учтенная нашей беллетристикой – рабочие, интеллигентные девушки. Я сказал ему, как мало они зарабатывают. Как скромно, достойно они живут. И, знаете, ничего двусмысленного...– Ну, а односмысленного много? – спросил он и, по-стариковски хихикая, сказал: – Смотрите, не влюбитесь!
Если бы я не знал, что передо мною сидит один из величайших пророков, гениальный борец за высший идеал человечества, я бы подумал, что это просто добродушный папаша. Чувство домашности, простоты.– Вот вы из этих ваших барышен найдите мне секретаршу. У меня была одна бельгийка в Англии – и хорошо справлялась – да приехал рус. балет, и она увлеклась.
Он опять по-стариковски подмигнул.
– Вот вы опишите-ка то, что рассказывали.
– Увы, я как беллетрист бездарен.
– Вовсе нет. Ваши крит. статьи – ведь та же беллетристика.
– П. А. всегда читал вас в «Рус. Сл.»,– вставил зять.
– Нет, в «Речи». Главным образом, в «Речи».– Он опять заговорил о секретаршах.– Странно, в России никто не знает стенографии. Меня на Финл. вокзале встретили репортеры; я стал с ними беседовать, и ни один из них не записал беседы точно.Все переврали. Потому что не стенографы!
Заговорили о Достоевском, у которого жена – стенографистка.– Ренегат! – сказал Кропоткин.– Вернулся из Сибири и восстал против Фурье, против социализма. И замечательно, что все ренегаты после ренегатства становятся бездарны, теряют талант.
Меня изумило это мнение, ибо Достоевский после каторги – и окрылился, но я почувствовал, что на огромном черепе князя Кропоткина нет эстетической шишки. Я сказал ему, как мне нравится стиль Михайловского... Он говорит: – Да, но я никогда не мог ему простить его политической трусости. Я виделся с ним в 1867 г. Он показался мне красной девицей. Как он боялся меня и брата!.. Это он поправлял Льву Тихомирову статьи.
Княгиня спросила, есть ли в Куоккала провизия. Я сказал: – Не знаю.– Ну, значит, есть, – сказал Кропоткин.– А вот сегодня я был в Зимнем Дворце у Керенского – и на нас, 4-х человек, дали на огромной тарелке с царскими вензелями, с коронами – четыре вот таких ломтика хлеба... И вода! (Он поморщился.) Мы с Сашей переломили один ломтик – а остальное оставили Керенскому.
Разговор перескочил на пишущие машины. Он стал расхваливать их, с восторгом. Ну, зато ж и дорого! Простая 20 ф., а с усовершенствованиями и все 30 отдай!! То же машины Зингера – длиннейший панегирик машинам Зингера: они и чулки штопают и петли метают. (Он указал рукой на воротник.) Вообще страшное гостеприимство чужим темам, чужим мыслям, чужой душе. Он готов приспособиться к любому уровню, и я уверен, что приди к нему клоун, кокотка, гимназист, он с каждым нашел бы его тему – и был бы с каждым на равной ноге, по-товарищески. Заговорили о Репине:
– Давайте, Корней Ив., поедем к нему.– Я сказал Кропоткину, что в Куоккала меня уверяли, будто он живет там.
– Вот напишите, К. Ив., как создаются легенды. Я ехал с Элизе Реклю, и тот в поезде упомянул мое имя. Вдруг южанин француз:
– О! prince Kropotkine убит... Да, да! —и рассказал ему целую историю о кн. Кропоткине. Или вот мой брат: в 1861 г. он участвовал в студенческих беспорядках, т. е. просто пошел вместе с компанией других в генер.-губернат. дом и заявил там какую-то претензию. Он был впереди всех и взошел с товарищем на верхнюю ступеньку, и его избили жандармы и поволокли в тюрьму... Проходит 3 дня, я получаю от него бисерным почерком написанную записку – все благополучно. Вдруг вбегает ко мне дядя Сулима и говорит:
– А знаешь, Петя, наш-то Саша... о!
– Что такое?
– Неужто не знаешь?
– Казацкая лошадь ударила его копытом в глаз, пенснэ разбилось, и осколки застряли в глазу.
– Чепуха! Брат не носит пенснэ! Я сегодня получил от него записку.
Но молва ходила по Москве и ширилась, и я слышал через год ту же историю.
– Кланяйтесь Илье Ефимовичу. Я чту его. Я знаю все его картины (увы!) по снимкам.
Мне почудилось, что Кропоткину не нравилось то, что Репин писал портреты самодержцев, вел. княгинь, и я еще раз почувствовал, что искусству он чужд совершенно.
– «Записки революционера» я диктовал по-английски. Потом Дионео переводил их. Переведет лист-полтора и приедет ко мне в Бромли, я исправляю – целый день. Он даже обижался. Я совершенно переделывал, писал заново. Но иначе было нельзя. A «Mutual Aid» я написал по-английски для «Nineteenth century» [ 17 ] 17
«Взаимная помощь», «Девятнадцатый век» (англ.).Полное название книги Кропоткина «Взаимная помощь как фактор эволюции».
[Закрыть].
Рассказал он о Г. З. Елисееве. Суровый был человек. Я был в «Отеч. Записках», в редакции. Там обсуждал письмо Суворина к одной шансонетной певице. Она снялась в непристойной позе, на коленях у Париса из Белой Лены (Belle Helene) – и Суворин выругал ее.
– Стыдно вам, талантливой, позорить себя!
Так вот по этому поводу Минаев написал стишки, высмеивающие Суворина,– и все: Курочкин, Пятковский и др.– эти стишки одобряли. Вдруг вошел Г. З. Елисеев, угрюмо взял стихи, прочитал, отложил в сторону, сказав лениво:
– Дрянь.
Тут я почувствовал, что Кр. очень устал, и стал прощаться. Он и княгиня ушли спать. Остался я и Ал. Петровна.
– О, как я устала... Устроить министерство удалось ровно на 10 дней – и потом опять все будет сначала.
– Советы депутатов мешают? – спросил кто-то.
– Нет, Некрасов – вот кто. Интриган, мелкий... Подлизался к совету, натравливает всех на Керенского. Поддерживает Чернова. Я так прямо и сказала Керенскому: у вас есть враг... Но Керенский и слышать не хочет. Папа дернул меня за рукав: молчи! – но я сказала: этот враг Некрасов.
Керенский поморщился: это у вас домашнее. (У Лебедева ссора с Некрасовым.)
И всё эта баба – Малаховская. Она ведь спит рядом со спальней Керенского в Зимнем Дворце – а сама глазами так и ест Савинкова.
– А как вам показался Савинков?
– Хулиган.
Я запротестовал. Савинков мне показался могучим, кряжистым человеком, с сильной волей. Недаром он был столько во Франции, он истинный тип франц. революционера.
И начался разговор, столь обычный во всех гостиных нынче. Потом пришли 2 француза – анархического вида, лысый и седой – богема, такие к Герцену часто ходили, и я ушел.
Шел по улице с военн.-морск. агентом, который просидел у Кр. полдня – и все же не читал ни одной его строчки. <...>
24 июля.<...> мы пошли в Интимный театр и видели там Виктора Шкловского, к-рый был комиссаром 8-й армии. Он рассказывает ужасы. Он вел себя как герой и получил новенький Георгиевский крестик. Замечательно, что его двоюродный брат Жоржик ранен на западном фронте – в тот же день. Когда Шкл. рассказывает о чем-ниб. страшном, он улыбается и даже смеется. Это выходит особенно привлекательно.– «Счастье мое, что я был ранен, не то застрелился бы!» Он ранен в живот – пуля навылет – а он как ни в чем не бывало.
31 июля, воскресение.Опять у Кропоткина. Он сидел с высоким американцем и беседовал о тракторах. Американец оказался инженер, который привез сюда ж.-д. вагоны для Сибирской ж. д. Кропоткин говорит: незачем доставлять сюда военные снаряды, нам нужны тракторы, рельсовые перекрестки (crossing & switches). Он пальцами показал перекрещивающиеся рельсы. «Мне все говорят, что нам нужны тракторы и рельсовые перекрестки. Я хотел бы повидаться с американским послом и сказать ему об этом.
– О, это легко устроить! – сказал инженер.– И я очень хотел бы, чтобы Вы поехали в Америку...