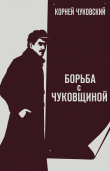Текст книги "Дневник (1901-1929)"
Автор книги: Корней Чуковский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Когда в Хохландии писал «Запорожцев»:
– Вы що за людина? Та не дивиться, що я в латаной свитке, в мене й мундир е.
– Художник.
– Ну що ж що художник? В мене й зять художник. А по якому художеству?
– Живописец.
– Ну що ж що живописец? В мене й зять живописец.
А Крестный Ход? Тут И. Е. встал и образными ругательными словами стал отделывать эту сволочь, идущую за иконой. Все кретины, вырождающиеся уроды, хамье – вот по Ломброзо – страшно глядеть – насмешка над человечеством. Жара, а мужики степенные с палками, как будто Богу служат, торжественно наотмашь палками: раз, два, раз, два, раз, два – иначе беда бы: все друг друга задавили бы, такой напор, только палками и можно. Не так страшно, когда урядники, но когда эти мужики, ужасно.
22 июля.Был у меня Крученых. Впервые. Сам отрекомендовался. В учительской казенной новенькой фуражке. Глаза бегающие. Тощий. Живет теперь в Лигове с Василиском Гнедовым: —Целый день в карты дуем, до чертей. Теперь пишу пьесу. И в тот день, когда пишу стихи, напр.
– Бур шур Беляматокией —
не могу писать прозы. Нет настроения.– Пришел Репин. Я стал демонстрировать творения Крученых. И. Е. сказал ему:
– У вас такое симпатичное лицо. Хочу надеяться, что вы скоро сами плюнете на этот идиотизм.
– Значит, теперь я идиот.
– Конечно, если вы верите в этот вздор.
(Страница оборвана.– Е. Ч.) с молоком!!! Пользуясь отсутствием Натальи Борисовны, старичок потихоньку разбавляет свой кофей жидковатым молочком, заимствуясь у кухарки Анны Александровны. Очень хорошо было потом: я лег на диван у него в кабинете, а он мне читал продолжение воспоминаний о пребывании на Волге, которые будут напечатаны в «Голосе Минувшего» 1. Может быть, воспоминания и сумбурны, но читал он их так превосходно, что я с восторгом слушал 2 часа. Волжский говор, мужичью речь – он воспроизводит в совершенстве, каждая сцена умело драматизирована, и выпуклость у каждой огромная. Говорили: о Б. Шуйском, журналисте. «Бездарность, ординарность». О его жене: «Ей 17 лет, и вечно будет 17!» (глупа). Оказывается, И. Е. в 1885 г у Калинкина моста написал свои воспоминания о юношеских годах, до приезда в СПб., о флирте со своими кузинами, но потом ему стыдно стало, и он сжег.
После этого, по настоянию Стасова, написал воспоминания о Крамском. Это было первое его литературное творение.
Ах, как он вспылил накануне. Я никогда не видал его в такой ярости. Приехал к нему Б. Шуйский с женой, евреечкой, манерной и кокетливой, с очень грубым непсихологическим смехом. Был Ермаков, Шмаров. Заговорил об иконке, которую Бенуа выдал за Леонардо да Винчи, а Государь купил за 150 000 р. Илья Еф. Говорил: «Дрянь! пухлый младенец! Должно быть, писал ученик, а мастер только «тронул» лицо. Но если б была и подлинная, нельзя платить такие деньжища, ведь у нас еще нет выставочного здания, нет денег, чтоб отливать в бронзу лучшую скульптуру учеников Академии, куда же нам… И все это афера барышников. Вот хотите пари: через месяц, через полтора приедет из Берлина какой-нб. Боде и объявит на весь мир, что это «школа Леонардо да Винчи» и что красная цена ей 100 р.».
Барыня вмешалась: – За Леонардо да Винчи и миллиона не жалко… Вся Европа… Чем же мы хуже… Мы уже достаточно культурны – Илья Еф. так покраснел, что даже лысина стала багровой, чуть не схватил самовар.
– Да как вы смеете. Что за щедрость. Что вы понимаете… Тоже болтает, лишь бы сказать… Ни души, ни совести.
1914
4 февраля.Сейчас ехал с детьми от Кармена на подкукелке. «Когда хочешь быть скорее дома, то видишь разные замечательства,– говорит Коля. – Дача Максимова – первое замечательство. Дом, где жила Паня, второе замечательство. Пенаты – третье замечательство».
Вчера был у нас И. Е. Рассказывал, как у него на родине мещане изготовляли пряники. – Чуть только женится сын, отойдет от родителей – в последний день масленицы невестка испечет для тещи и тестя огромный феноменальный пряник, величиной с дверь – медовый – и несут через город старикам. Старички весь пост жуют по крошке. Я, бывало, смотрю на них в окошко.
Теперь все пишут по впечатлениям, а в наше время – тенденция. Ужас! Непременно чтоб идея… Шишкин, бывало, напишет мост и подпишет: «Чем на мост нам идти, поищем лучше броду».
Когда в 70-х гг. я на Волге изобразил «по впечатлению» плоты – это такая прелесть: идут, идут плоты, огоньки на них, фигуры, река широкая – 7 недель идут – и вот я увлекся, писал – показываю Шишкину, а он: допишите, доделайте. Разве это плоты? Из какого дерева? Из березы или дубовые? (Сам Шишк., бывало, выберет себе рощу, лесок, залезет вверх, устроит помост на дереве, кое-где просеку вырубит – и начнет весною, когда зелень чуть-чуть, а кончит уж, когда все желто, заморозки.
А то однажды у него всю зелень коровы объели.) Ну я, известно: ничтожество!– а я, господа, ничтожество полное!– поддался Шишкину, возненавидел свою картину и написал сверх той – другую, пожалел холста. Ах, как это ужасно, что я на одной другую,– сколько погубил фигур…
О Витте: это гениальный человек. Когда я его писал, он спрашивает: – Ну вот вы написали весь Совет, у кого, по-вашему, самое выдающееся лицо?– Я подумал: самое картинное у такого-то. Борода до пояса. Говорю. Витте только фыркнул – посмотрел презрительно и, видно, думает: ах ты ничтожество. – А об Игнатьеве что вы думаете? – Игнатьев, по-моему, это Фальстаф. – Какие у вас шаблонные понятия. Ну что за Фальстаф Игнатьев? Это – половой от Тестова, а не Фальстаф… – Я подумал: и действительно. <…>
Был на Маринетти: ординарный туповатый итальянец, с маловыразительными свиными глазками говорил с пафосом Аничкова элементарные вещи. Успех имел средний.
Был на выставке Ционглинского: черно, тускло, недоделанно, жидко, трепанно, «приблизительно». Какую скучную, должно быть, он прожил жизнь.
Детское слово: сухарики-кусарики.<…>
Около 10 февраля.«Как известно, Шаляпин гостит у И. Е. Репина; бегая на лыжах, артист сломал себе ногу и слег» – такая облыжная заметка была на днях напечатана в «Дне». Должно быть, она-то и вдохновила Шал. и вправду приехать к И. Е. Он на лиловой бумаге написал ему из Рауха письмо. «Приехал бы в понед. или вт. – м. б. пораскинете по полотну красочками». – Пасхально ликуем!– ответил телеграммой И. Е. И вот третьего дня в Пенатах горели весь вечер огни – все лампы – все окна освещены, но Шаляпин запоздал, не приехал. И. Е. с досады сел писать воспоминания о пребывании в Ширяеве – и вечером же прочитал мне их. Ах, какой ужас его статья о Соловьеве Владимире. «Нива» попросила меня исправить ее, я исправил и заикнулся было, что то-то безграмотно, то-то изменить – он туповато, по-стариковски тыкался в мои исправления,– «Нет, К. И., так лучше»– и оставил свою галиматью 2.
На следующий день, т.е.– вчера в 12 ч. дня, приехал Шаляпин, с собачкой и с китайцем Василием. Илья Еф. взял огромный холст – и пишет его в лежачем виде. Смотрит на него Репин, как кошка на сало умиленно, влюбленно. А он на Репина – как на добренького старикашку, целует его в лоб, гладит по головке, говорит ему баиньки. Тон у него не из приятных: высказывает заурядные мысли очень значительным голосом. Например, о Финляндии:
– И что жеиз этого будет?– упирает многозначительно на подчеркнутом слове, как будто он всю жизнь думал только о положении Финляндии и вот в отчаянии спрашивает теперь у собеседника, с мольбой, в мучительном недоумении. Переигрывает. За блинами о Комиссаржевской. Теперь вылепил ее бюст Аронсон, и по этому случаю банкет...– Не понимаю, не понимаю. В. Ф. была милая женщина, но актриса посредственная – почему же это, скажите.
Я с ним согласился. Я тоже не люблю Комис.– Это все молодежь.
Шаляпин изобразил на лице глупость, обкурносил свой нос, раззявил рот, «вот она, молодежь». Смотрит на вас влюбленно, самозабвенно, в трансе – и ничего не понимает.– Почему меня должен судить господин двадцати лет? – не по-ни-маю. Не понимаю.
– Ну, они пушечное мясо. Они всегда у нас застрельщики революции, борьбы,– сказал И. Е.
– Не по-ни-маю. Не понимаю.
Со своей собачкой очень смешно разговаривал по-турецки. Быстро, быстро. Перед блинами мы катались по заливу, я на подкукелке, он на коньках. Величественно, изящно, как лорд, как Гете на картине Каульбаха – без усилий, руки на груди – промахал он версты 2 в туманное темное море, садясь так же вельможно отдыхать. О Деловом Дворе взялся хлопотать у Танеева. Напишет для «Нивы» 3.
После обеда пошли наверх, в мастерскую. Показывал извозчика (чýдно), к-рый дергает лошаденку, хватается ежесекундно за кнут и разговаривает с седоком. О портретах Головина: – Плохи. Федор Иоанныч – разве у меня такой. У меня ведь трагедия, а не просто так. И Олоферн тоже – внешний. Мне в костюме Олоферна много помогли Серов и Коровин. Мой портрет работы Серова – как будто сюртук длинен. Я ему сказал. Он взял половую щетку, смерил, говорит: верно.
Откуда я «Демона» взял своего? Вспомнил вдруг деревню, где мы жили, под Казанью; бедный отец был писец в городе и кажд. день шагал верст семь туда и верст семь обратно. Иногда писал и по ночам. Ну вот, я лежу на полатях, а мама придет и еще бабы. (Недавно я был в той избе: «вот мельница, она уж развалилась», снял даже фотографию.) Ну так вот, я слышу, бабы разговаривают:
– Был Сатанаил, ангел. И был черт Миха. Миха – добродушный. Украл у Бога землю, насовал себе в рот и в уши, а когда Бог велел всей земле произрастать, то и из ушей, и из носу, и изо рта у Михи лопух порос. А Сатанаил был красавец, статный, любимец Божий, и вдруг он взбунтовался. Его вниз тормашками – и отняли у него окончание ил, и передали его Михе.
Так из Михи стал Михаил, а из Сатанаила – Сатана.
Ну и я вдруг, как ставить Демона в свой бенефис – вспомнил это, и костюм у меня был готов. Нужно было черное прозрачное,– но чтобы то там, то здесь просвечивало золото, поверх золота надеть сутану. И он должен быть красавец со следами былого величия, статный, как бывший король.
Так иногда бабий разговор ведет к художественному воплощению.
Говорит о себе упоенно – сам любуется на себя и наивно себе удивляется. «Как я благодарен природе. Ведь могла же она создать меня ниже ростом или дать скверную память или впалую грудь – нет, все, все свои силы пригнала к тому, чтобы сделать из меня Шаляпина!» Привычка ежедневно ощущать на себе тысячи глаз и биноклей сделала его в жизни кокетом. Когда он гладит собаку и говорит: ах ты дуралей дуралеевич, когда он говорит, что рад лечь даже на голых досках, что ему нравится домик И. Е.: все он говорит театрально, но не столь же театрально, как другие актеры.
Хочет купить здесь дачу для своих Пб. детей.– У меня в Москве дети и в Пб. 4. Не хочется, чтоб эти росли в гнили, в смраде. Показывал рисунок своего сына с надписью Б. Ш., т. е. Борис Шаляпин. И смотрел восторженно, как на сцене. И. Е. надел пенсне: браво, браво!
Книжку мою законфисковали. Заарестовали. Я очень волновался, теперь спокоен 5. Сейчас сяду писать о Чехове. Я Чехова боготворю, тáю в нем, исчезаю, и потому не могу писать о нем – или пишу пустяки.
16 февраля, воскресение.Утром зашел к И. Е.– попросить, чтобы Вася отвез меня на станцию. Он повел показывать портрет Шаляпина. Очень мажорная, страстная колоссальная вещь. Я так и крикнул: А!
– Когда Вы успели за три дня это сделать?
– А я всего его написал по памяти: потом с натуры только проверил.
Вблизи замечаешь кое-какую дряблость, форсированность. Жалок был Шаляпин в эту среду. Все на него, как на идола. Он презрительно и тенденциозно молчал. С кем заговорит, тот чувствовал себя осчастливленным. Меня нарисовал карандашом, потом сделал свой автопортрет 6. Рассказывал анекдоты – прекрасно, но как будто через силу и все время озирался: куда это я попал?
– Бедный И. Е., такой слабохарактерный! безвольный! —сказал он мне.– Кто только к нему не ездит в гости. Послушайте, кто такой этот Ермаков?
– Да ведь это же ваш знакомый; он говорил мне, что с вами знаком.
– Может быть, может быть.
Рассказал о своей собаке, той самой, которую Репин написал у него на коленях, что она одна в гостиную внесла ночной горшок.– И еще хвостом машет победоносно, каналья!
Говорил монолог из «Наталки Полтавки». Первое действие. Напевал: «и шумить и гудить».– Одна артистка спросила меня: Ф. И., что такое ранняя урна – в «Евгении Онегине»?
– А это та урна, которая всякому нужна по утрам. Показывал шаляпистку: – Ах, Ф. И., куда вы едете? – В Самару.– Я тоже поеду в Самару. <...>
2-го апреля.Шаляпин о Чехове. «Помню, мы по очереди читали Антону Павловичу его рассказы,– я, Бунин. Я читал «Дорогую Собаку». Ант. Павл. улыбался и все плевал в бумажку, в фунтик бумажный. Чахотка».
Вчера с Лидочкой по дороге (Лидочка плакала с утра: отчего рыбки умерли): – Нужно, чтоб все люди собрались вместе и решили, чтоб больше не было бедных. Богатых бы в избы, а бедных сделать бы богатыми – или нет, пусть богатые будут богатыми, а бедные немного бы побогаче. Какие есть люди безжалостные: как можно убивать животных, ловить рыбу. Если бы один человек собрал побольше денег, а потом и роздал бы всем, кому надо. И много такого.
Этого она нигде не слыхала, сама додумалась и говорила голосом задумчивым,– впервые. Я слушал, как ошеломленный. Я первый раз понял, какая рядом со мною чистая душа, поэтичная. Откуда? Если бы написать об этом в книге, вышло бы приторно, нелепо, а здесь, в натуре, волновало до дрожи.
5 апреля.Завтра пасха. И. Е.: – А ведь я когда-то красил яйца – и получал за это по 1 ½ р. Возьмешь яйцо, выпустишь из него белок и желток, натрешь пемзой, чтоб краска лучше приставала, и пишешь акварелькой Христа, Жен Мироносиц. Потом – спиртным лаком. Приготовишь полдюжину – вот и 9 рублей. Я в магазин относил. Да для родственников – сколько бесплатно.
Сегодня Вера Ильинична за обедом заикнулась, что хочет ехать к Чистяковым.– Зачем. Чистякова – немка, скучища, одна дочь параличка, другая – Господи, старая дева и проч.
– Но ведь, папа, это мои друзья (и на глазах слезы), я ведь к ним привыкла.
И. Е.: – Ну знаешь, Вера, если тебе со мной скучно, то вот у нас крест. Кончено. Уезжай сейчас же. Уезжай, уезжай! А я, чтоб не быть одиноким, возьму себе секретаря – нет, чтоб веселее, секретаршу, а ты уезжай.
– Что я сказала, Господи.
И долго сдерживалась... но потом разревелась по-детски. После она в мастерской читала свою небольшую статейку, и И. Е. кричал на нее: вздор, пустяки, порви это к черту. Она по моей просьбе пишет для «Нивы» воспоминания о нем.
– Да и какие воспоминания? – говорит она.– Самые гнусные. Он покинул нашу мать, когда мне было 11 лет, а как он ее обижал, как придирался к нам, сколько грубости,– и плачет опять... 7
Я ушел. <...>
Мая 10.Очень приятно. Лидочка внизу, кричит мне:
Но коварный Меджикивис,
Бессердечный Меджикивис
Уж покинул дочь Нокомис 8.
Окна открыты. Пишу о романе Некрасова. Очень приятно.
8 июня.Пришли Шкловские – племянники Дионео. Виктор похож на Лермонтова – по определению Репина. А брат – хоть и из евреев – страшно религиозен, преподает в духовной академии французский яз.– и весь склад имеет семинарский. Даже фразы семинарские: «Идеализация бывает отрицательная и положительная. У этого автора отрицательная идеализация». А фамилия: Шкловский! Был Шапиро: густой бас, толстоносый, потеющий. Все о кооперации, о трамваях в Париже. Б. А. Садовской очень симпатичен, архаичен, первого человека вижу, у которого и вправдуесть в душе старинный склад, поэзия дворянства. Но все это мелко, куцо, без философии. Была Нимфа и в первый раз Молчанова, незаконная дочь Савиной, кажется? Пришел Репин. Я стал читать стихи Городецкого – ярило – ярился, которые Репину нравились, вдруг он рассвирепел:
– Чепуха! это теперь мода, думают, что прежние женщины были так же развратны, как они! Нет, древние женщины были целомудреннее нас. Почему-то воображают их такими же проститутками.
И, уже уходя от нас, кричал Нимфе:
– Те женщины не были так развратны, как вы.
– То есть, как это вы?
– Вы, вы...
Потом спохватился: – Не только вы, но и все мы.
Перед этим я читал Достоевского и «Крокодил», и Репин фыркал, прервал и стал браниться: бездарно, не смешно. Вы меня хоть щекочите, не засмеюсь, это ничтожно, отвратительно.
И перевернул к стене диван.
Завтра еду к Андрееву. Уложил чемодан.
15 июня.Сегодня И. Е. пришел к нам серый, без улыбок. Очень взволнованный, ждал телеграммы. Послал за телеграммой на станцию Кузьму – велел на лошади, а Кузьма сдуру пешком. Не мог усидеть, я предложил пойти навстречу.– Ну что... не нужно... еще разминемся,– но через минуту: – Хорошо, пойдем...
Мы пошли,– и И. Е., очень волнуясь, вглядывался в дорогу, не идет ли Кузьма.– Идет! Отчего так медленно? – Кузьма по-солдатски с бумажкой в руке. И. Е. взял бумагу: там написано Logarno (sic!) подана в 1 час дня. 28 june. Peintre Elias Repin. Nordman Mourante Suisse, Fornas [ 13 ] 13
28 июня. Художнику Илье Репину. Нордман умирает в Швейцарии. Форнас (франц.).
[Закрыть], бывший учитель фр. яз. в рус. гимназии.
Умирает? Ни одного слова печали, но лицо совсем потухло, стало мертвое. Так мы стояли у забора, молча. «Но что значит fornow? Пойдем, у вас есть словарь?» Рылись в словаре – «Какие у вас прекрасные яблоки. Прошлогодние, а как сохранились». Видимо, себя взбадривал. Кроме Бориса Садовского и Шкловского у нас не было никого. Дора. С паспортом у И. Е. странная канитель: он послал Васю в Териоки за благонадежностью, там сказали: не надо. Он послал в Куоккала: сказали: не надо. Но когда Крачковский, по поручению И. Е., явился в канцелярию градоначальника за паспортом, ему сказали: без бумаги из Куоккала не выдадим. Словом, уже вторая неделя, что Репин не может достать себе паспорта. Пошли наверх, я стал читать басни Крылова, Садовской сказал: вот великий поэт! А Репин вспомнил, что И. С. Тургенев отрицал в Крылове всякую поэзию. Потом мы с Садовским читали пьесу Садовского «Мальтийский Рыцарь», и Репину очень нравилась, особенно вторая часть. Я подсунул ему альбомчик, и он нарисовал пером и визитной карточкой, обмакиваемой в чернила,– Шкловского и Садовского 9. Потом мы в театр, где Гибшман – о папе и султане, футбол в публике, и частушка, спетая хором, с припевом:
Я лимон рвала,
Лимонад пила,
В лимонадке я жила.
Певцы загримированы фабричными, очень хорошо. Жена Блока, дочь Менделеева, не пела, а кричала, по-бабьи, выходило очень хорошо, до ужаса. Вообще было что-то из Достоевского в этой ужасной лимонадке, похоже на мухоедство,– и какой лимон рвать она могла в России, где лимоны? Но неукоснительно, безжалостно, с голосом отчаяния и покорности Року эти бледные мастеровые и девки фабричные выкрикивали: – Я лимон рвала.
Погода – на обратном пути сверхъестественная, разные облака, всех сортов, каждое дерево торжественно и разумно,– все разные – и, придя домой, Маша писала странное, о Евг. Оскаровне, Наталье Борисовне, Розе Мордухович.
Жива ли Н. Б.?
Сегодня 15-го я был у И. Е., он уже уехал в Пб. в 8 час.
У Шкловского украли лодку, перекрасили, сломали весла. Он спал на берегу, наконец нашел лодку и уехал в Дюны.
Дети учат немецкие дни недели.– Обоим трудно. Mittwoch [ 14 ] 14
Среда (нем )
[Закрыть].
19 июня.Вчера со Ст. П. Крачковским я пошел на Варш. Вокзал проводить И. Е. за границу. Он стоял в широкой черной шляпе у самой двери на сквозняке. Взял у Крачковского билет, поговорил о сдаче 3 р. 40 к. и потом сказал:
– А ведь она умерла.
Сказал очень печально. Потом перескочил на другое: – Я, К. И., два раза к вам посылал, искал вас повсюду: ведь я нашел фотографию для «Нивы» —и портрет матери! для Репинского № 10.
Пришел Федор Борисович, брат Нат. Борисовны, циник, чиновник, пьянчужка. И. Е. дал ему много денег. Ф. Б. сказал, что получил от сестры милосердия извещение, написанное под диктовку Н. Б., что она желает быть погребенной в Suisse.
– Нет, нет,– сказал И. Е.,– это она, чтоб дешевле. Нужно бальзамировать и в Россию, на мое место, в Невскую Лавру.
Я послал контр-депешу, но не знаю, как по-фр.– бальзамировать, сказал Ф. Б. Он, впрочем, быстро откланялся и уехал, как ни в чем не бывало, на дачу. И. Е. тоже, как ни в чем не бывало заговорил о «Деловом Дворе» и, взяв меня за талию, повел угощать нарзаном. Нарзану не случилось. Мы чокнулись ессентуками.– Теперь в Ессентуках – Вера.– Он поручил мне напечатать объявление oт его имени. Просил написать что-ниб. от лица писателей:
– Ее это очень обрадует.
Мы вошли в вагон, и т. к. Репин дрожал, что мы останемся, не успеем соскочить, мы скоро ушли и оставили его одного. Я уверен что он спал лучше меня.
22-го июня, вчера.Сплю отвратительно. Ничего не пишу. Томительные дни: не знаю, что с И. Е., вот уже неделя, как он уехал – а от него никаких вестей. Был вчера в осиротелых Пенатах. Там ходит Гильма и Анна Александровна и собирают ягоды. А. А. вытирает – слезы ли, пот ли, не понять. Показала мне письмо Н. Б.– последнее, где умирающая обещает приехать и взять ее к себе в услужение. «Так как я совсем порвала с И. Е.,– пишет она за неделю до смерти,– то до моего приезда сложите вместе в сундук все мое серебро, весь мой скарб. Венки уничтожьте, а ленты сложите Не подавайте И. Е. моих чайных чашек» и т. д. Я искал в душе умиления, грусти – но не было ничего – как бесчувственный
Третьего дня, в понедельник 15-го июля– И. Е. вернулся. Загорелый, пополневший, с красивой траурной лентой на шляпе. Первым делом – к нам. Привез меду, пошли на море. Странно, что в этот самый миг мы сидели с Беном Лившицем и говорили о нем, я показывал его письма и рукописи. Флюиды! О нейон говорит с сокрушением, но утверждает, что, по словам врачей, она умерла от алкоголизма. Последнее время почти ничего не ела, но пила, пила. Денег там растранжирила множество.
Война... Бена берут в солдаты. Очень жалко. Он по мне. Большая личность: находчив, силен, остроумен, сантиментален, в дружбе крепок, и теперь пишет хорошие стихи. Вчера в среду я повел его, Арнштама и мраморную муху 11, Мандельштама, в Пенаты, и Репину больше всех понравился Бен. Каков он будет, когда его коснется слава, не знаю; но сейчас он очень хорош. Прочитав в газетах о мобилизации, немедленно собрался – и весело зашагал. Я нашел ему комнату в лавке – наверху, на чердаке, он ее принял с удовольствием. Поэт в нем есть, но и нигилист. Он – одесский.
У меня все спуталось. Если война, Сытинскому делу не быть. Значит, у меня ни копейки. Моя последняя статейка – о Чехове – почти бездарна, а я корпел над нею с января.
Характерно, что брат Натальи Борисовны – Федор Борисович – уже несколько раз справлялся о наследстве.
Был вчера, 26-го июля,в городе. За деньгами: отвозил статью в «Ниву». В «Ниве» плохо. За подписчиками еще дополучить 200 000 р.– сказал мне Панин. У них забрали 30 типографск. служащих, 12 – из конторы, 6 – из имения г-жи Маркс. У писателей безденежье. Как томился длинноволосый – и час и два – в прихожей с какой-то рукописью. Видел Сергея Городецкого. Он форсированно и демонстративно патриотичен: «К черту этого изменника Милюкова!» Пишет патриотические стихи, и когда мы проходили мимо германского посольства – выразил радость, что оно так разгромлено. «В деревне мобилизация – эпос!» – восхищается. Но за всем этим какое-то уныние: денег нет ничего, а Нимфа, должно быть, не придумала, какую позу принять.
Был у А. Ф. Кони. Он только что из Зимнего Дворца, где Государь говорил речь народным представителям. Кони рассказал странное: будто когда государю Германия уже объявила войну и государь, поработав, пошел в 1 ч. ночи пить к государыне чай, принесли телеграмму от Вильгельма II: прошу отложить мобилизацию. Но Кони, как и Репин, не оглушен этой войной. Репин во время всеобщей паники, когда все бегут из Финляндии, красит свой дом (снаружи) и до азарта занят насыпанием в Пенатах холма на том месте, где было болото: «потому что Н. Б-не болото было вредно». Кони с увлечением рассказывает о письмах Некрасова, к-рые ему подарила наследница Ераковых – Данилова 12. Салтыкова письма: грубые. «Салтыков вообще был двуличный, грубый, неискренний человек». Неподражаемо подражая голосу Салтыкова, лающему и отрывисто буркающему, он живо восстановил несколько сцен. Напр., когда была дуэль Утина и Утин сидел под арестом, Кони встретился на улице с Салтыковым (мы жили с ним в одном доме):
– Бедный Утин,– говорю я.
– Бедный, бедный (передразнивает Салтыков). А кто виноват? Друзья виноваты.
– Почему?
– Это не друзья, а мерзавцы...
– Позвольте... ведь вы его друг... вы с ним в карты играете...
– В карты играю!.. Мало ли что в карты играю... Играю в карты... а не друг... В карты, а вовсе не друг.
– Но ведь и я к нему отношусь дружески...
– О вас не говорят...
– Но вот Арсеньев...
– Арсеньев... Арсеньев... А вы знаете, кто такой Арсеньев...
– ?
– Арсеньев – василиск!
Назвать Арсеньева василиском!Это был василек, а не василиск. Мало даровитый, узкий, но – благороднейший 13.
Потом пошли разговоры о Суворине: оказывается, у Суворина в 1873 г. (или в 74) жена отправилась в гостиницу с каким-то уродом-офицером военным, и там они оба найдены были убитыми. Кони как прокурор вел это дело, и Суворин приходил к нему с просьбой рассказать всю правду. Кони, понятно, скрывал. Сув. был близок к самоубийству. Бывало, сидит в гостиной у Кони и изливает свои муки Щедрину, тот слушает с участием, но чуть Сув. уйдет, издевается над ним и ругает его. Некр. был не таков: он был порочный, но не дурной человек.
О Зиночке. Бывало, говорит: – Зиночка, выдь, я сейчас нехорошее слово скажу.– Зиночка выходила.
Опять о государе: побледнел, помолодел, похорошел, прежде был обрюзгший и неуверенный.– Я снова на улице. Извозчики заламывают страшные цены. В «Вене» снята вывеска. У Лейнера тоже: заменены белыми полотняными: «Ресторан о-ва официантов», «Ресторан И. С. Соколова». Вместо St. Petersburger Zeitung вывеска: Немецкая Газета. По улицам солдаты с котелками, с лопатами. Страшно, что такую тяжесть носит один человек. У «Веч. Времени» толпа. Многие жертвуют на флот – сидит даже военный у кружки и дама, напропалую с ним кокетничающая. Какого-то зеленого чертежника, чахоточного, громко (со скандалом) бранят: как вы смели усумниться? как вы смели такое высказать... Он громко кричит «Это ложь!» (яростно). Дама оч. добродушная – хохлушка? – читает в окне «Веч. Времени»: «У Льежа погибло 15 000 немцев» и говорит: «Ну, слава Богу... я счастлива».
После долгих мытарств в «Ниве» иду в «Речь». Там встречаю Ярцева, театрального критика. Говорю: как будем мы снискивать хлеб свой, если единственный театр теперь – это театр военных действий, а единственная книга – это Оранжевая Книга! 14В «Совр. Сл.» Ганфман и Татьяна Александровна рассказывают о Зимнем Дворце и о Думе 15. В Думе: они находят декларацию поляков очень хитрой, тонкой, речь Керенского умной, речь Хаустова глупой, а во время речи Милюкова – плакал почему-то Бирилев... Говорят, что г-жа Милюкова, у которой дача в Финляндии, где до 6000 книг, заперла их на ключ и ключ вручила коменданту: пожалуйста, размещайте здесь офицеров, но солдат не надо. <...>