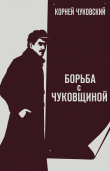Текст книги "Дневник (1901-1929)"
Автор книги: Корней Чуковский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 46 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Не дождавшись начала заседания – бойкий богоносец упорхнул. На заседании Нерадовский нарисовал в Чукоккалу – Александра Бенуа, а Яремич – Немировича 39. Когда мы обсуждали, какую устроить вечеринку, Блок сказал:
– Нужно – цыганские песни.
15 декабря.<…> Вчера Полонская рассказывала мне, что ее сын, услыхав песню:
Мы дадим тебе конфет,
Чаю с сухарями,
запел: «Мы дадим тебе конфет, чаю с сахарином»– думая, что повторяет услышанное. Был вчера на «Конференции Пролетарских Поэтов», к-рых, видит Бог, я в идее люблю. Но в натуре это было так пошло, непроходимо нагло, что я демонстративно ушел – хотя имел право на обед, хлеб и чай. Ну его к черту с обедом! Вышел какой-то дубиноподобный мужчина (из породы Степанов – похож на вышибалу; такие также бывают корректорá, земские статистики) и стал гвоздить: буржуазный актер не пони матнаших страданий не зн атнаших печалей и радостей – он нам только вреден (это Шаляпин-то вреден); мы должны сами создать актеров, и они есть товарищи, я, например…» А сам бездарен, как голенище. И все эти бездарности, пошлые фразеры, кропатели казенных клише аплодировали. Это было им по нутру. Подумать, что у этих людей был Серов, Чехов, Блок.
Потом в Дом Искусств. Пришли шкловитяне. Я предоставил им теплое, прекрасное, освещенное помещение, выхлопотал для лектора вознаграждение – и вот они впервые появились тут. – А что, есть буфет? Не дадут ли чего поесть? А это пианино – нельзя ли поиграть?– Я ушел домой опечаленный. Днем у меня был Мережковский в шубе и шапке, но легкий, как перышко.– Евреи уехали, нас не дождавшись. А как мы уедем не в спальном вагоне. Ведь для З. Н. это смерть. – Похоже, что он очень хотел бы, если бы встретилось какое-нб. непреодолимое препятствие, мешающее ему выехать. – Я опять не спал всю ночь – и чувствую себя знакомо-гадко.
1920
2 января.Две недели полуболен, полусплю. Жизнь моя стала фантастическая. Так как ни писания, ни заседания никаких средств к жизни не дают, я сделался перипатетиком: бегаю по комиссарам и ловлю паек. Иногда мне из милости подарят селедку, коробку спичек, фунт хлеба – я не ощущаю никакого унижения, и всегда с радостью – как самец в гнездо – бегу на Манежный, к птенцам, неся на плече добычу. Источники пропитания у меня такие: Каплун, Пучков, Горохр и т. д. Начну с Каплуна. Это приятный – с деликатными манерами – тихим голосом, ленивыми жестами – молодой сановник. Склонен к полноте, к брюшку, к хорошей барской жизни. Обитает в покоях министра Сазонова. У него имеется сытый породистый пес, который ступает по коврам походкой своего хозяина. Со мной Каплун говорит милостиво, благоволительно. У его дверей сидит барышня – секретарша, типичная комиссариатская тварь: тупая, самомнительная, но под стать принципалу: с тем же тяготением к барству, шику, high life'y [ 24 ] 24
Великосветской жизни (англ.).
[Закрыть]Ногти у нее лощеные, на столе цветы, шубка с мягким ласковым большим воротником, и говорит она так:
– Представьте, какой ужас,– моя портниха...
Словом, еще два года – и эти пролетарии сами попросят – ресторанов, кокоток, поваров, Монте-Карло, биржу и пр. и пр. и пр. Каплун предложил мне заведовать просветительным отделом – Театра Городской Охраны (Горохр). Это на Троицкой. Я пошел туда с Анненковым. Холод в театре звериный. На все здание – одна теплушка. Там и рабочие, и Кондрат Яковлев, и бабы – пришедшие в кооператив за провизией. Я сказал, что хочу просвещать милиционеров (и вправду хочу). Мне сказали: не беспокойтесь – жалованье вы будете получать с завтрашнего дня – а просвещать не торопитесь, и когда я сказал, что действительно, на самом делехочу давать уроки и вообще работать – на меня воззрились с изумлением.
Пучков – честолюбив, студентообразен, бывший футурист, в кожаной куртке, суетлив, делает 40 дел сразу, не кончает ни одного, кокетничает своей энергичностью,– голос изумительно похож на Леонида Андреева.
3 января.Вчера взял Женю (нашу милую служаночку, которую я нежно люблю – она такая кроткая, деликатная, деятельная – опора всей семьи: ее мог бы изобразить Диккенс или Толстой) – она взяла сани, и мы пошли за обещанной провизией к тов. Пучкову. Я прострадал в коридоре часа три – и никакой провизии не получил: кооператив заперт. Я – к Каплуну. Он принял радушно – но поговорить с ним не было возможности – он входил в кабинет к Равич и выходил ежеминутно. Вот он подошел к телефону: – Это вы, тов. Бакаев? Иван Петрович? Нельзя ли нам получить то, о чем мы говорили? С белыми головками? Шаляпин очень просит, чтобы с белыми головками... Я знаю, что у вас опечатано три ящика (на Потемкинской, 3), велите распечатать. Скажите, что для лечебных целей...
Мережковские уехали. Провожал их на вокзал Миша Слонимский. Говорит, что их отъезд был сплошное страдание. Раньше всего толпа оттеснила их к разным вагонам – разделила. Они потеряли чемоданы. До последней минуты они не могли попасть в вагоны... Мережк. кричал:
– Я член совета... Я из Смольного!
Но и это не помогало. Потом он взвизгнул: Шуба!– у него, очевидно, в толпе срывали шубу.
Вчера Блок сказал: «Прежде матросы были в стиле Маяковского. Теперь их стиль – Игорь Северянин». Это глубоко верно. Вчера в Доме Искусств был диспут «о будущем искусстве»,– но я туда не пошел: измучен, голоден, небрит.
Рождество 1920 г. (т. е. 1919, ибо теперь 7 ое января 1920).Конечно, не спал всю ночь. Луна светила как бешеная. Сочельник провел у Даниила Гессена (из Балтфлота) в «Астории». У Гессена прелестные, миндалевидные глаза, очень молодая жена и балтфлотский паек. Угощение на славу, хотя – на пятерых – две вилки, чай заваривали в кувшине для умывания и т. д. <...>
Я весь поглощен дактилическими окончаниями, но сколько вещей между мною и ими: Мáшины роды, ежесекундное безденежье, бесхлебье, бездровье, бессонница, Всемирная Литература, Секция Историч. Картин, Студия, Дом Искусств и проч. и проч. и проч.
Поразительную вещь устроили дети: оказывается, они в течение месяца копили кусочки хлеба, которые давали им в гимназии, сушили их – и вот, изготовив белые фунтики с наклеенными картинками, набили эти фунтики сухарями и разложили их под елкой – как подарки родителям! Дети, которые готовят к рождеству сюрприз для отца и матери! Не хватает еще, чтобы они убедили нас, что все это дело Санта Клауса! В следующем году выставлю у кровати чулок! В довершение этого à rebours [ 25 ] 25
Напротив (франц.).
[Закрыть]наша Женя, коей мы по бедности не сделали к рождеству никакого подарка, поднесла Лиде, Коле и Бобе – шерстяные вытиралки для перьев – собственного изготовления – и перья.
2-й день Рождества 1920 г.я провел не дома. Утром в 11ч. побежал к Лунач., он приехал на неск. дней и остановился в Зимнем Дворце; мне нужно было попасть к 11 ½, и потому я бежалс тяжелым портфелем. Бегу – смотрю, рядом со мною краснолицая, запыхавшаяся, потная, с распущенными косами девица, в каракулевом пальто, на красной подкладке. Куда она бежала, не знаю, но мы проскакали рядом с нею, как кони, до Пролеткульта. Луначарского я пригласил в Дом Искусств – он милостиво согласился. Оттуда я пошел в Дом Иск., занимался – и вечером в 4 часа – к Горькому. В комнате на Кронверкском темно – топится печка – Горький, Марья Игнатьевна, Ив. Николаевич и Крючков сумерничают. Я спросил: – Ну что, как вам понравился американец? (Я послал к нему американца)– «Ничего, человек действительно очень высокий, но глупый»… Возится с печью и говорит сам себе: «Глубокоуважаемый Алексей Максимович, позвольте вас предупредить, что Вы обожгётесь… Вот, К. И., пусть Федор (Шаляпин) расскажет вам, как мы одного гофмейстера в молоке купали. Он, понимаете, лежит читает, а мы взяли крынки – и льем. Он очнулся – весь в молоке. А потом поехали купаться, в челне, я предусмотрительно вынул пробки, и на середине реки стали погружаться в воду. Гофмейстер просит, нельзя ли ему выстрелить из ружья. Мы позволили…» Помолчал. «Смешно Лунач. рассказывал, как в Москве мальчики товарища съели. Зарезали и съели. Долго резали. Наконец один догадался: его за ухом резать нужно. Перерезали сонную артерию – и стали варить! Очень аппетитно Луначарский рассказывал. Со смаком. А вот в прошлом году муж зарезал жену, это я понимаю. Почтово-телеграфный чиновник. Они очень умные, почтово-телеграфные чиновники. 4 года жил с нею, на пятый съел. – Я, говорит, давно думал о том, что у нее тело должно быть очень вкусное. Ударил по голове – и отрезал кусочек. Ел он ее неделю, а потом – запах. Мясо стало портиться. Соседи пришли, но нашли одни кости да порченое мясо. Вот видите, Марья Игнатьевна, какие вы, женщины, нехорошие. Портитесь даже после смерти. По-моему, теперь очередь за Марьей Валентиновной (Шаляпиной). Я смотрю на нее и облизываюсь».– А вторая – Вы,– сказал Марье Игнатьевне Ив. Никол. – Я уже давно высмотрел у вас четыре вкусных кусочка. – Какие же у меня кусоч ьки?– наивничала Марья Игнатьевна. <...>
11 янв., вокресение.У Бобы была в гостях Наташенька Жуховецкая. Они на диване играли в «жаркóе». Сначала он жарил ее, она шипела ш-ш-ш, потом она его и т. д. Вдруг он ее поцеловал. Онá рассердилась:
– Зачем ты меня целуешь жареную? <...>
17 янв.Сейчас Боба вбежал в комнату с двумя картофелинами и, размахивая ими, сказал: папа, сегодня один мальчик сказал мне такие стихи: «Нету хлеба – нет муки, не дают большевики. Нету хлеба – нету масла, электричество погасло». Стукнул картофелинами – и упорхнул.
19 янв. 1920<…> Вчера – у Анны Ахматовой. Она и Шилейко в одной большой комнате,– за ширмами кровать. В комнате сыровато, холодновато, книги на полу. У Ахматовой крикливый, резкий голос, как будто она говорит со мною по телефону. Глаза иногда кажутся слепыми. К Шилейке ласково – иногда подходит и ото лба отметает волосы. Он зовет ее Аничка. Она его Володя. С гордостью рассказывала, как он переводит стихами – à livre ouvert – целую балладу – диктует ей прямо набело! «А потом впадает в лунатизм». Я заговорил о Гумилеве: как ужасно он перевел Кольриджа «Старого Моряка». Она: «А разве вы не знали. Ужасный переводчик». Это уже не первый раз она подхватывает дурное о Гумилеве. Вчера утром звонит ко мне Ник. Оцуп: нельзя ли узнать у Горького, расстрелян ли Павел Авдеич (его брат). Я позвонил, подошла Марья Игнатьевна. – Да, да, К. И., он расстрелян. – Мне очень трудно было сообщить об этом Ник. Авдеичу, но я в конце концов сообщил. <…>
25 января.Толки о снятии блокады 1. Боба(больной) рассказывает: вошла 5-летняя девочка Альпер и сказала Наташеньке Жуховецкой:
– Знаешь, облака сняли.
– А как же дождик?
Лида спросила Наташу: – Из чего делают хлеб? – Из рожи.
Мороз ужасный. Дома неуютно. Сварливо. Вечером я надел два жилета, два пиджака и пошел к Анне Ахматовой. Она была мила. Шилейко лежит больной. У него плеврит. Оказывается, Ахматова знает Пушкина назубок – сообщила мне подробно, где он жил. Цитирует его письма, варианты. Но сегодня она была чуть-чуть светская барыня; говорила о модах: а вдруг в Европе за это время юбки длинные, или носят воланы. Мы ведь остановились в 1916 году – на моде 1916 года.
8 февраля.<…> Моя неделя слагается теперь так. В понедельниклекция в Балтфлоте, во вторник– заседание с Горьким по секции картин, заседание по «Всемирной Лит.», лекция в Горохре; в средулекция в Пролеткульте, в четверг– вечеринка в Студии, в пятницу– заседание по секции картин, по Всемирной Литер., по лекции в Доме Искусств.
Завтра, кроме Балтфлота, я читаю также в Доме Искусств.
9 февраля.Это нужно записать. Вчера у нас должно было быть заседание по гржебинскому изданию классиков. Мы условились с Горьким, что я приду к Гржебину в три часа, и он (Горький) пришлет за нами своего рысака. Прихожу к Гржебину, а у него в вестибюле внизу, возле комнаты швейцара сидит Горьк., молодой, синеглазый, в серой шапке, красивый. – «Был у Константина Пятницкого… Он тифом сыпным заболел – его обрили… очень смешной… в больнице грязь буграми… сволочи… Доктор говорит: это не мое дело…» Потом мы сели на лихача и поехали – я на облучке. Марья Игн. Бенкендорф окончательно поселилась у Горького – они в страшной дружбе – у них установились игриво-полемические отношения,– она шутя бьет его по рукам, он говорит: ай-ай-ай, как она дерется!– словом, ей отвели на Кронверкском комнату, и она переехала туда со всеми своими предками (портретами Бенкендорфов и… забыл чьими еще). На собрании были Замятин, Гржебин, Горький, Лернер, Гумилев и я – но так как 1) больному Пятницкому нужно вино и 2) Гумилеву нужны дрова, мы с Гум. отправились к Каплуну в Упр. Советов. Этот вельможа тотчас же предоставил нам бутылку вина (я, конечно, не прикоснулся) и дивное, дивное печенье. Рассказывал, как он борется с проституцией, устраивает бани и т. д.– а мне казалось, что я у помощника градоначальника и что сейчас войдет пристав и скажет:
– Привели арестованных студентов, что с ними делать?
Нашел у Каплуна книгу Мережковского – с очень льстивой и подобострастной надписью... Гумилев один вылакал всю большую бутылку вина – очень раскис. <...>
12 февраля.Описать бы мой вчерашний день – типический. Ночь. У Марьи Борисовны жар, испанская болезнь, ноги распухли, родов ждем с секунды на секунду. Я встаю – занимаюсь былинами, так как в понед. у меня в Балтфлоте лекция о былинах. Читаю предисловие Сперанского к изд. Сабашникова, делаю выписки. Потом бегу в холодную комнату к телефону и звоню в телефон Каплуну, в Горохр, в Политотдел Балтфлота и ко множеству людей, нисколько не похожих на Илью Муромца. Воды в кране нет, дрова нужно пилить, приходит какой-то лысый (по виду спекулянт), просит устроить командировку, звонит г-жа Сахáр: нет ли возможности достать от Горького письмо для выезда в Швейцарию, звонит Штейн, нельзя ли спасти библиотеку уехавшего Гессена (и я действительно спасал ее, сражался за каждую книжку), и т. д. Читаю работы студистов об Ахматовой.
Где-то как далекая мечта – мерещится день, когда я мог бы почитать книжку для себя самого или просто посидеть с детьми... В три часа суп и картошка – и бегом во Всемирную. Там заседание писателей, коих я хочу объединить в Подвижной Университет. Пришли Амфитеатров, обросший бородой, Волынский, Лернер – и вообще шпанка. Все нескладно и глупо. Явился на 5 мин. Горький и, когда мы попросили его сообщить его взгляды на это дело, сказал: «Нужно читать просто... да, просто... Ведь все это дети – милиционеры, матросы и т. д.». Шкловский заговорил о том, что нужны школы грамоты, нужно, чтобы и мы преподавали грамоту... Штрайх (сам малограмотный) заявил, что он – арабская лошадь и не желает возить воду. И все признали себя арабскими лошадьми. Оттуда к Ахматовой (бегом), у меня нет «Четок», а я хотел читать о «Четках» в Пролеткульте. От Ахматовой (бегом) в Пролеткульт. Какой ветер, какие высокие безжалостные лестницыв Пролеткульте! Там читал каким-то замухрышкам и горничным об Анне Ахматовой – слушали, кажется, хорошо! – и оттуда (бегом) к Каплуну на Дворцовую Площадь. Его нету, я опоздал, он уже у Горького. Иду к его сестре и ем хлеб, к-рый мне дал Самобытник, пролетарский поэт. Хлеб оказывается зацветший, меня тошнит. Я прошу прислать от Горького автомобиль Каплуна. Через несколько минут является мальчишка и говорит: – Тут писатель, за которым послал Каплун? – Тут.– Сейчас шофер звонил по телефону, просил сообщить, что он запоздает, так как он по дороге раздавил женщину.– Опять? – говорит сестра Каплуна. Через несколько минут шофер приезжает. «Насмерть?» – «Насмерть!» Я еду к Горькому. От голода у меня мутится голова, я почти в обмороке. У Горьк. в двух комнатах заседания – и он ходит из комнаты в комнату, словно шахматист, играющий одновременно несколько партий. Потом оба заседания соединяются. Профессора и – мы. Среди профессоров сидит некто черненький, который с пятого слова говорит: Наркомпрос, Наркомпрос, Наркомпрос.– К черту Наркомпрос! – рычу я и ни с того ни с сего ругаю это учреждение. Потом оказывается, что это и есть Наркомпрос.– Зеликсон, тот самый, коего мы очень боимся, хотели бы всячески задобрить и т. д. Я так и похолодел. Возвращаюсь около часу ночи домой – М. Б. худо, вся в поту, не спит ночей пять, голова болит очень, просит шерстяной платок. Ложусь и, конечно, не сплю. Вскакиваю утром – Женя замучена, у меня пальцы холодные, иду пилить дрова.
14 февраля.Нынешний день пуст – без книг и работы. Связывал сломанные сани – послезавтра Жене ехать за пайком в Балтфлот. Привязал к саням ключ, звонок, обмотал их веревкой. Неприятное столкновение с Штейном. Был у меня Гумилев.– Блок третьего дня рассказывал мне: «Странно! Член Исполнительного Комитета, любимый рабочими писатель, словом, М. Горький – высказал очень неожиданные мнения. Я говорю ему, что на Офицерской, у нас, около тысячи рабочих больны сыпным тифом, а он говорит: ну и черт с ними. Так им и надо! Сволочи!» Шествуя с Блоком по Невскому, мы обогнали Сологуба – в шубе и шапке – бодро и отчаянно шагавшего по рельсам – с чемоданом. Он сейчас же заговорил о французах– безо всякого повода– «Вот французы составляют словари... Мы с Анаст. Николаевной приехали в Париж... Я сейчас же купил себе цилиндр»... И вообще распекал нас обоих за то, что мы не французы. <...>
15 марта 1920.На днях скончалась Ольга Ивановна Дориомедова, мать Марьи Конст. Гржебиной. Я был на панихиде. Анненкова попросили нарисовать покойницу. Он встал у гроба, за шкафом, так что его никто не видел; я глянул, вижу: плачет. Рисует и плачет. Слезы капают на рисунок! Я подошел, ему стало стыдно. «О какая милая, милая была бабушка!» – сказал он, как бы извиняясь.
20 марта.Скончался Федор Дмитриевич Батюшков. В последнее время он был очень плох. <...> Бедный, вежливый, благородный, деликатнейший, джентльменнейший изо всей нашей коллегии. Я помню его почти молодым: он был влюблен в Марию Карловну Куприну. Та над ним трунила – и брала взаймы деньги для журнала «Мир Божий». (Батюшков был членом редакции.) Он закладывал имения – и давал, давал, давал. <...>
Вчера заседание у Гржебина – в среду. Я, Блок, Гумилев, Замятин, Лернер и Варвара Васильевна. Началось с того, что Горький, сурово шевеля усами, сказал Лернеру: «Если вы на этой неделе не принесете «Казаков» (которые заказаны Лернеру около полугода назад), я закажу их кому-нб. другому». Лернер пролепетал что-то о том, что через три дня работа будет закончена вполне. Он говорит это каждый день.– Где заказанный вам Пушкин? – Я уже начал.– Но ведь на этой неделе вы должны сдать... (На лице у Лернера – ужас. Видно, что он и не начинал работать.) Потом разговор с Гумилевым. Гумилев взялся проредактировать Алексея Толстого – и сделал черт знает что. Нарезал беспомощно книжку – сдал и получил 20 000 р. Горький перечислил до 40 ошибок и промахов. Потом – разговор с Блоком. Блок взялся проредактировать Лермонтова – и, конечно, его работа прекрасна. Очень хорошо подобраны стихи – но статья написана не в популярно-вульгарном тоне, как нужно Горькому, а в обычном блоковском, с напрасными усилиями принизиться до уровня малокультурных читателей. Для Блока Лермонтов – маг, тайновидец, сновидец, богоборец; для Горького это «культурная сила», «двигатель прогресса», здесь дело не в стиле, а в сути. Положение Блока – трагическое. Чем больше Горький доказывал Блоку, что писать надо иначе: «дело не в том, что Лермонтов видел сны, а в том, что он написал «На смерть Пушкина», тем грустнее, надменнее, замкнутее становилось измученное прекрасное лицо Блока.
Замятин еще не закончил Чехова. Я – после звериных трудов сдал, наконец, Некрасова. Когда мы с Горьким случайно оказались в другой комнате – он очень огорченно и веско сказал:
– Вот наши писатели. Ничего не могут! Ничего. Нет, Корней Иваныч, ученые лучше. Вот мы вчера заседали здесь – это люди! Ферзман, Ольденбург и Пинкевич! Как работают. А из писателей вы один. Я вами любуюсь... Да, любуюсь...
Он только что получил от Уэльса письмо – и книжки, написанные Уэльсом,– популяризация естественных наук 2. Это Горькому очень дорого: популяризация. Он никак не хочет понять, что Блок создан не для популяризации знаний, а для свободного творчества, что народу будет больше добра от одного лирич. стихотворения Блока, чем от десяти его же популярных брошюр, которые мог бы написать всякий грамотный полуталант, вроде меня.
После заседания я (бегом, бегом) на Вас. Остр. на 11 линию – в Морской Корпус – там прочитал лекцию – и (бегом, бегом) назад – черт знает какую даль! Просветители из-под палки! Из-за пайка! О, если бы дали мне месяц – хоть раз за всю мою жизнь – просто сесть и написать то, что мнедорого, то, что я думаю! Теперь у меня есть единственный день четверг – свободный от лекций. Завтра – в Доме Искусств. Послезавтра – в Управлении Советов, Каплунам. О! О! О! О!
30 марта.Как при Николае I, образовался замкнутый в себе класс чиновничьей, департаментской тли, со своим языком, своими нравами. Появился особый жаргон «комиссариатских девиц». Говорят, напр., « определеннонравится», «он определеннохорош» и даже «я определенноиду туда». Вместо– «до свидания» говорят: «пока». Вместо: «до скорого свидания» – «Ну, до скорого».
Вчера читал лекцию в Педагогич. Институте Герцена – Каменноостровский 66 – и обратно ночью домой. Устал до судорог. Ночь почти не спал – и болит сердце.
Горький, по моему приглашению, читает лекции в Горохре (Клуб милиционеров) и Балтфлоте. Его слушают горячо, он говорит просто и добродушно, держит себя в высшей степени демократично, а его все боятся, шарахаются от него,– особенно в Милиции.– Не простой он человек! – объясняют они.
На днях Гржебин звонил Блоку: «Я купил Ахматову». Это значит: приобрел ее стихи. Дело в том, что к Ахматовой принесли платье, к-рое ей внезапно понравилось, о котором она давно мечтала. Она тотчас же – к Гржебину и продала Гржебину свои книги за 75 000 рублей.
Мы встретили ее и Шилейку, когда шли с Блоком и Замятиным из «Всемирной». Первый раз вижу их обоих вместе... Замечательно – у Блока лицо непроницаемое – и только движется, все время, зыблется, «реагирует» что-то неуловимое вокруг рта. Не рот, а кожа возле носа и рта. И у Ахматовой то же. Встретившись, они ни глазами, ни улыбками ничего не выразили, но тамбыло высказано много. <...>
1 апреля 1920 г.Вот мне и 38 лет! Уже два часа. Составляю каталог Детских Книг для Гржебина – и жду подарков. Вечер. Днем спал под чтение Бобы (Боба читал Сэттона Томсона), и мое старое, старое, староесердце болело не так сильно. Отдохнуло. Потом пили чай с дивным пирогом: изюм, корица, миндалин. Вычисляли: изюм – из Студии, корица – из Горохра, патока – из Балтфлота и т. д. Словом, для того, чтобы испечь раз в год пирог, нужно служить в пяти учреждениях. Я спросил как-то у Блока, почему он посвятил свое стихотворение
Шар раскаленный золотой
Борису Садовскому, которому он так чужд. Он помолчал и ответил: – Садовской попросил, чтобы я посвятил ему, нельзя было отказать.
Обычный пассивизм Блока. «Что быть должно, то быть должно». «И приходилось их ставить на стол» 3.
10 апреля.Пертурбации с Домом Искусства. Меня вызвали повесткой в «Комиссариат Просвещения». Я пришел. Там – в кабинете Зеликсона – был уже Добужинский. Кругом немолодые еврейки, акушерского вида, с портфелями. Открылось заседание. На нас накинулись со всех сторон: почему мы не приписались к секциям, подсекциям, подотделам, отделам и проч. Я ответил, что мы, писатели, этого дела не знаем, что мы и рады бы, но... Особенно горячо говорила одна акушерка – повелительным, скрипучим, аффектированным голосом. Оказалось, что это тов. Лилина, жена Зиновьева. Мой ответ сводился к тому, что «у Вас секция, а у нас Андрей Белый; у Вас подотделы, у нас – вся поэзия, литература, искусство». Меня не удивила эта страшная способность женщин к мертвому бюрократизму, к спору о формах и видимостях, безо всякой заботы о сущности. Ведь сущность ясна для всякого: у нас, и только у нас, бьется пульс культурной жизни, истинно просветительной работы. Все клубы – существуют лишь на бумаге, а в этом здании на Морской кипит творческая большая работа. Конечно, нужно нас уничтожить. <...> Так странно слышать в связи с этими чиновничьими ярлычками слово Искусство и видеть среди этих людей – Добужинского.
Вечером того же дня – вечер Гумилева. Гумилев имел успех. Особенно аплодировали стихотворению «Бушменская Космогония». Во время перерыва меня подзывает пролеткультский поэт Арский и говорит, окруженный другими пролеткультцами:
– Вы заметили?
– Что?
– Ну... не притворяйтесь... Вы сами понимаете, почему Гумилеву так аплодируют?
– Потому что стихи очень хороши. Напишите вы такие стихи, и вам будут аплодировать...
– Не притворяйтесь, К. И. Аплодируют, потому что там говорится о птице...
– О какой птице?..
– О белой... Вот! Белаяптица. Все и рады... здесь намек на Деникина.
У меня закружилась голова от такой идиотической глупости, а поэт продолжал:
– Там у Гумилева говорится: «портрет моего государя». Какого государя? Что за государь? 4<...>
19 апреля.Сегодня впервые я видел прекрасногоГорького – и упивался зрелищем. Дело в том, что против «Дома Искусств» уже давно ведется подкоп. Почему у нас аукцион? Почему централизация буржуазии? Особенно возмущался нами Пунин 5, Комиссар изобразительных искусств. Почему мы им не подчинены? Почему мы, получая субсидии у них, делаем какое-то постороннее дело, не соответствующее коммунистическим идеям? и проч.
Горький с черной широкополой шляпой в руках очень свысока, властным и свободным голосом:
«Не то, государи мои, вы говорите. Вы, как и всякая власть, стремитесь к концентрации, к централизации – мы знаем, к чему привело централизацию самодержавие. Вы говорите, что у нас в «Доме Искусств» буржуи, а я вам скажу, что это все ваши же комиссары и жены комиссаров. И зачем им не наряжаться? Пусть люди хорошо одеваются – тогда у них вшей не будет. Все должны хорошо одеваться. Пусть и картины покупают на аукционе – пусть! – человек повесит картинку – и жизнь его изменится. Он работать станет, чтоб купить другую. А на нападки, раздававшиеся здесь, я отвечать не буду, они сделаны из-за личной обиды: человек, к-рый их высказывает, баллотировался в «Дом Искусства» и был забаллотирован»...
Против меня сидел Пунин. На столе перед ним лежал портфель. Пунин то закрывал его ключиком, то открывал, то закрывал, то открывал. Лицо у него дергалось от нервного тика. Он сказал, что он гордится тем, что его забаллотировали в Дом Искусства, ибо это показывает, что буржуазные отбросы ненавидят его...
Вдруг Горький встал, кивнул мне головой на прощанье – очень строгий стал надевать перчатку – и, стоя среди комнаты, сказал:
– Вот он говорит, что его ненавидят в Доме Искусств. Не знаю. Но я его ненавижу, ненавижу таких людей, как он, и... в их коммунизм не верю.
Подождал и вышел. Потом на лестнице представители военного ведомства говорили мне:
– Мы на этом заседании потеряли миллион. Но мы не жалеем: мы видели Горького. Это стóит миллиона! Он растоптал Пунина, как вошь.
Перед этим я говорил с Горьким. Ему следует получить на Мурм. ж д. паек: он читает там лекции. Он говорит: нельзя ли устроить так, чтобы этот паек получала Маруся (Бенкендорф). Я спросил, не записать ли ее его родственницей.
– Напишите: родная сестра!
Конец мая.Белая ночь. Был только что у Белицкого. <...> Говорили о сестре Некрасова, Елисавете Александровне Рюмлинг – кошмаре всего управления советов. Ее облагодетельствовали с ног до головы, она просит наянливо, монотонно, часами – «А нельзя ли какао? Нельзя ли керосину? Вот говорят, что такому-то вы выдали башмаки и т. д.». Ее дочь была принята Каплуном на службу. 3 месяца не являлась, но мать пришла за жалованием. Каплун и Белицкий выдали ей свои деньги. 12 тысяч. Она пересчитывала раз десять и сказала:
– Дайте еще 400 рублей, потому что в месяц выдают 4 100 рублей (или что-то в этом роде).
Напрасно они уверяли ее, что дают ей свои деньги, она не верила и смотрела на них как на мазуриков. Это вообще ее черта: смотреть на людей как на мазуриков. Я часто отдавал ей зимою последнее полено – она брала – никогда не благодарила – и всегда смотрела на меня с подозрением. Однажды она сказала мне:
– Когда я была вам нужна, вы хлопотали обо мне...
Чем же она была мне нужна? Тем, что я устроил для нее паек, отдавал ей лампу, кофей, спички и т. д. Она думает, что я, пригласив ее выступить вместе с собою участвовать в вечере «памяти Некрасова», сделал какую-то ловкую карьеру. А между тем это была чистейшая благотворительность, очень повредившая моей лекции.
26 июня.<...> «Вечер Блока» 6. Блок учил свои стихи 2 дня наизусть – ему очень трудно помнить свои стихи. Успех грандиозный – но Блок печален и говорит:
– Все же этогоне было! – показывая на грудь.
28 июня.Дом Искусств. Пишу о Пожаровой. Вспомнил, что на кухне «Дома Искусств» получают дешевые обеды, встречаясь галантно, два таких пролетария, как бывший князь Волконский и бывшая княжна Урусова. У них в разговоре французские, англ. фразы, но у нее пальцы распухли от прошлой зимы, и на лице покорная тоска умирания. Я сказал ему в шутку на днях:
– Здравствуйте, ваше сиятельство.
Он обиженно и не шутя поправил:
– Я не сиятельство, а светлость...
И стал подробно рассказывать, почему его дед стал светлейшим. В руках у него было помойное ведро.
Сколько английских книг я прочитал ни с того ни с сего. Начал с Pickwick'a – коего грандиозное великолепие уразумел только теперь. Читаешь – и будто в тебя вливается молодая, двадцатилетняя бессмертно-веселая кровь. После – безумную книгу Честертона «Manalive» с подозрительными афоризмами и притворной задорной мудростью, потом «Kidnapped» Стивенсона – восхитительно написанную, увлекательнейшую, потом отрывки из Барнеби Рэджа, потом Conan Doyle – мелкие рассказы (ловко написанные, но забываемые и – в глубине – бесталанные) и т. д. и т. д. И мне кажется, что при теперешней усталости я ни к какому иному чтению не способен. Ничего систематического сделать не могу. Книгу дочитать – и то труд. Начал Анну Каренину и бросил. Начал «Catriona» (Stevenson) и бросил 7.
У нас в Доме Искусствна кухне около 15 человек прислуги – и ни одного вора, ни одной воровки! Поразительно. Я слежу за ними пристально – и восхищаюсь, как они идиллически честны! Это аристократия нашего простонародия. Если Россия в такие годы могла дать столько честных, милых, кротких людей – Россия не погибла. Или взять хотя бы нашу Женю, милую нашу служанку, которая отдает нашей семье всю себя! Но где найти 15 честных интеллигентных людей? Я еще не видел в эту эпоху ни одного.