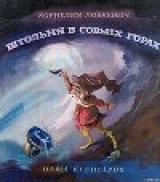
Текст книги "Штольня в Совьих Горах"
Автор книги: Корнелия Добкевич
Жанры:
Сказки
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 11 страниц)
Едва лишь писарь появился на дороге около Пшесеки меж двух рядов тополей, Марцин издалека увидел его с холма: он как раз был во дворе и поил коней у колодца. Узнал писаря по его черному кафтану, полы которого развевались на ветру, будто два крыла ворона, да еще по тому, что плохо держался писарь на коне. «Уж не ко мне ли едет? С чем бы это – с добром или с плохой вестью?» – тревожно подумал Марцин, когда писарь свернул со шляха на полевую дорогу, что вела ко двору Марцина. А всадник всё ближе подъезжал… Услышала конский топ молодая хозяйка, выбежала из хаты и встревоженно около мужа встала. Белёхонькие кружевца на ее чепце тряслись над лбом: дрожала бедняга от страха.
А посланец княгини уже въезжал на чисто выметенный двор Марцина.
– Письмо тебе, хозяин! От моей госпожи! – молвил писарь и с трудом, неуклюже, с коня соскочил. Подал Марцину свитый в трубку пергамент, с которого на шелковых лентах свисали две большие красные печати.
– Письмо от княгини? А чего хочет госпожа? – услышал Марцин тревожный шепот своей светловолосой жены.
– Сейчас узнаешь… Посмотрим!
Молча развернул Марцин свиток и медленно, как бы не веря глазам, прочел то, что гласили черные, похожие на худых червей, латинские буквы.
– Марина… – тихо сказал жене. – Марина… – и не докончил речи: горе ему дыхание сдавило.
А тем временем писарь быстро выехал со двора – видать, спешил обратно в замок, чтобы поскорее доложить княгине о выполненном поручении. Двое людей остались во дворе – в печали и тревоге несказанной.
– На что княгине Марцинов двор? – дивились люди во всей Пшесеке. – Ведь у нее и так замок огромный, шесть фольварков и мельниц несколько!
Странным всем в деревне показалось это неожиданное желание старой княгини. И письмо, и поспешность его присылки Марцину – всё дивно как-то было. Сошлись люди мудрые во двор на холме, чтобы поговорить обо всём и посоветовать Марцину, что делать.
И так судили, и эдак, – ничего не удумали. Тогда кузнец, человек смекалистый и бывалый, сказал людям:
– Видать, таится тут чья-то хитрость бесчеловечная, и не самой княгиней это придумано. Стара она уже, редко из замка выезжает, да и не зла при том – только и всего, что большого ума никогда у нее не было.
– Кто же тогда уговорил ее? – крикнула Марина. – Неужто послушалась какого пройдоху?
– Видно, так оно и есть… Это уж точно, что поспешные и не ко времени замыслы – из наговоров рождаются! – ответил кузнец. Помолчал он, подумал и еще сказал: – Вот что, Марцин! Езжай-ка ты сам к ней в замок, да попроси княгиню, чтобы изменила свою волю. Скажи ей, что это кривда не только для тебя и Марины, но и для всей нашей деревни, ибо живем мы тут в полном соседском согласии, пусть же она не рушит его: не к добру это! А еще скажи: хату, мол, не только ты сам ставил, но и мы тебе помогали, каждое деревцо тут твоей рукой посажено, каждая доска топорами соседей обтёсана. Припомни ей, как из Пшесеки пришли люди лес ее спасать, когда он гореть начал… И если она тебя с этого двора и поля выгонит, то и с нами у нее согласия не будет! Никогда, никогда, ни один пшесечанин не забудет ей этого!
– Правду молвишь, кузнец! – закричали мужики. – Умно!.. Езжай, Марцин!.. Не жди, пока этот пройдоха, что княгиню противу тебя настроил, еще какую пакость тебе учинит. Поезжай!
С тем и разошлись люди.
Раненько утром подготовил Марцин телегу, коней буланых запряг. И сам по-праздничному оделся – в силезский убор народный: длинный камзол синий и штаны замшевые, мягкие. Да взял с собой два бочонка свежего липового мёда и шесть самых лучших кур – в подарок старой княгине. С тем и поехал со двора. Долго ему вслед Марина смотрела. Выглядывали из окон и соседи. А собачки деревенские до самой развилки его проводили и лаем невесть с чего заливались…
Правду сказал кузнец. Не было у княгини большого ума, но и не злая она оказалась. Поэтому, когда поднес ей Марцин дары, да напомнил о Марине и всё рассказал, что умный кузнец посоветовал, – ответила старая милостиво:
– Землю эту хотела я вернуть не для себя, а чтобы продать рыцарю Любине. Это могущественный и богатый человек, да при том учтивый очень и красноречием отличается. Просил любезно, уговаривал сильно. Вот и пообещала я ему твои поля… ммм…двор… сад…пасеку тоже…
– Ах, госпожа! – простонал Марцин, и лицо его сильно побледнело.
– Ну, а теперь, мой мужичок, что мне делать? – тут княгиня беспомощно оглянулась вокруг своими черными на выкате глазами. – Что делать? Слова своего обратно взять не могу… Вот, разве, единый выход есть. Если рыцарь Любина от этой покупки откажется, то и я не настаиваю. Можешь тогда по-прежнему жить на своем дворе… Упроси Любину, а тогда…
Делать нечего: отправился Марцин в путь. Ехал, как и некогда, по берегу Бобра. Снова бор шумел над ним, а потом шелестела над головой листва дубов и буков. Снова ветер пел в камышах и гнал волны по реке.
Ехал Марцин весь день. Уже затрубили на башнях Болеславца, чтобы поднять мост и закрыть городские ворота, когда буланые кони протопали по деревянному настилу перед хоромами Любины. Как и прежде, пышен был двор рыцарский – с большим резным крыльцом, со стеклянными плитками в свинцовом переплете окон. И флажок над воротами развевался, как прежде, только стражей знакомых не видно было – помер дед, а сирота ушел куда-то искать лучшей доли. Охраняли ворота два стражника из челяди рыцарской.
– Дома ваш хозяин? – спросил Марцин.
– Дома! – ответили сторожа. – А ты кто будешь?
– Марцин из Пшесеки, давний слуга его. Прошу отвести меня к господину вашему.
Открыла стража ворота, чтобы ввел Марцин коней и телегу во двор. Оглянулся он: буйно разрослась сирень, тень широкую на весь двор бросила. Остановился Марцин перед крыльцом, побежал оруженосец рыцарю сказать о его приезде.
Любина сидел возле окна, на скамейке, в своей охотничьей комнате: выбирал в коробе наконечники для стрел. Как заслышал от оруженосца, что давний его слуга Марцин из Пшесеки стоит у крыльца и ждет вызова – до того обрадовался, что борода у него затряслась, как у козла. Потом схватил большую чару мёду старого и до дна осушил ее.
– Хе-хе-хе! – гоготал он на всю комнату. – Вот уж гость нежданный пожаловал!.. А ну, приведите-ка его сюда! – крикнул оруженосцам. – Хочу послушать, какая нужда его пригнала ко мне?
Вскоре остановился в дверях Марцин с шапкой в руке. Но теперь рыцарь видел перед собой не нищего паренька, но молодого зажиточного крестьянина – мужчину статного, с красивым лицом. Новая одежда так красила его, что Любина от удивления только головой покачал.
– Неужто ты? – спросил он, глазам своим не веря. – Марцин?
– Да, господин.
– И что же привело тебя сюда, мой бывший слуга? – хитро спросил Любина, будто и не знал вовсе, какая причина загнала Марцина в Болеславец.

– О полях речь пойдет, которые я когда-то откупил у княгини… – спокойно начал Марцин. – Пришел к вам с просьбой, господин. Откажитесь от них, не отнимайте у меня дома моего! Был я у княгини, просил и ее тоже. Сказала госпожа, что не зарится на землю мою, что оставит это дело, если вы… – тут голос Марцина дрогнул, а руки сильно смяли суконную шапку.
– Ах, вот о чем твоя речь! – с притворным удивлением воскликнул Любина. – О столь малом деле хлопочешь? Но ведь люди и в городе, и во всей округе говорят, что ты теперь очень богат! Значит, о чем горевать? Купишь себе новый участок и дом новый поставишь!
– Могу и так. Но эти поля я обрабатывал своими руками вместе с отцом, пока он еще жив был… Болото осушил, мельничку малую поставил там. А в хате у меня молодая хозяйка – она сама хату белила и украшала, сама под окнами мальвы посадила… – скорбно и с огорчением говорил Марцин.
– Ладно! – после минутного раздумья ответил Любина. – Если тебе так милы дом твой и поля эти – оставляю их за тобой. Но за это ты должен мне поведать: как дошел ты до такого богатства? Уж не добываешь ли ты на своих полях серебро? А может на дне ручья золотой песок нашел?
– Нет, господин, – ответил Марцин. – Единое серебро на моем поле – жито. А золото – пшеница.
– Но тогда как же ты разбогател?
– А вот как, господин… Послушайте, что скажу!
До того жадность Любину одолела, что не посчитался с гордостью рыцарской: указал Марцину место на скамье возле окна и сесть ему, простому крестьянину, чуть не рядом с собой, дозволил. Сел Марцин и, глубоко вздохнув, рассказ свой начал:
– Хоть и гневались вы тогда, господин, а всё же видели мы в ту ночь Золотого Селезня…
И поведал рыцарю обо всём, без утайки.
Слушал Любина его рассказ, затаив дыхание, только глаза у него от алчности горели. Да еще всё время мёду в свой кубок подливал: от волнения, видать, горло пересыхало. Поставил и перед Марцином чашу маленькую.
– Золотые перья… Золотые перья… – шептал рыцарь.
Когда закончил Марцин свою речь, жадный рыцарь сказал:
– Чудеса ты мне рассказываешь, хлоп! Неслыханные чудеса! Однако и так бывает. Но если так сильно желание твое, чтобы я отказался от покупки этой земли, то должен и ты кое-что для меня сделать… А хочу я вот чего: чтобы ты пошел вместе со мною на тот берег, где Селезень появляется, да помог мне найти перья золотые! Они должны быть там, должны лежать где-либо в траве или среди камышей! Наверно там их Селезень оставляет, не иначе.
– Хорошо, господин! – ответил Марцин. – Только не берите с собой ни лука, ни стрел.
На сей раз согласился рыцарь.
В следующий вечер тайно вышли они из усадьбы рыцаря, добрались до реки и спрятались за стволом старого дуба, ветви которого низко над водой свисали.
– Да, это здесь… – молвил Любина. – Хорошо помню, что здесь мы были!
– Стойте спокойно, господин! – предупредил Марцин. – Уже смеркается, надо ждать, пока на небе месяц молодой покажется…
Несколько дней скрывались они: всё ждали нового месяца. Любина опять гневаться начал, упрекать стал Марцина, грозить ему. И снова наполнилось сердце молодого крестьянина болью и страхом за благодетеля своего – Золотого Селезня.
– Эх, забирайте, господин, дом мой и поле, – прошептал в отчаянии, – только не трогайте Золотого Селезня!
Сказав это, отошел Марцин от дуба, сел на берегу у самой воды и лицо руками закрыл, чтобы злой рыцарь не тешился его горем. Жаль было Марцину земли, руками его возделанной, и дома, который построил он с помощью братьев своей жены, но больше всего – молодой хозяйки, Марины. Придется ей теперь уходить из хаты, которую она сама белила и украшала… Но что было делать бедному Марцину – где мужику против рыцаря устоять! Любина не только богатством славился, не только родом своим могущественным, но знали повсюду жестокость его и злобу. Был он хитёр и коварен не меньше, чем алчен. «Простому человеку лучше уступить дорогу могущественному, нежели разгневать его» – в великой печали и заботе думал Марцин…
И тут услыхал он, что в тростниках как-то по-особенному ветер запел, что в шелесте их зазвучало что-то. Отнял он руки от лица и глянул на камыши: выплыл оттуда Золотой Селезень! И сразу прямо в сторону Марцина направился – словно увидел его издали. А вокруг него свет золотистый сиял.
Высунулся из-за дуба Любина – бледный, трясущийся от жадности: при виде золотой птицы охватило его безумие. Шептал он что-то невнятное, бормотал слова всякие и кусты ломал, что возле дуба росли.
– Тише вы, господин! – шепнул Марцин. – Селезня не полошите, улетит!
Проплыл Селезень мимо них близко, у самого берега, а потом подхватило его течение и стал он постепенно отдаляться, но на волнах за ним перья золотые колыхались – большие, сверкающие. Медленно погружались они в воду, светясь и отбрасывая блеск золотистый…
– Останешься ты, хлоп, на своем хозяйстве, как обещано! – сказал Любина. – А я сейчас эти перышки соберу… Но ты теперь не смей ходить за мной! Не смей, Марцин! Слышишь, что говорю?..
Вошел рыцарь в реку и побрел по темной воде за уплывавшими золотыми перьями. Но лишь только руку протягивал, чтобы ухватить дар Золотого Селезня, как волна тут же подхватывала перо и дальше уносила… Снова тянулся жадюга за перьями и опять относило их всё дальше и дальше от берега.
А Золотой Селезень уже скрылся из виду, и темнота снова наступила. Только высоко в небе сиял узенький серпик нового месяца, да под ногами алчного рыцаря блестели на дне реки золотые перышки. Брел за ними Любина всё дальше и дальше от берега – вскоре вода уже до пояса ему дошла. А он наклонялся и нырял в воду так, что брызги кругом летели, и всё ногтями по дну царапал. Но зря – золотые перья всё время из-под пальцев у него выскальзывали и только жадность его этим усиливали…
Марцин на берегу стоял и тревожно глядел на рыцаря. Далеко уже отошел Любина. Охватил тут Марцина страх, ибо увидел он: неосторожный корыстолюбец приближался к глубокой впадине на речном дне, где водоворот был.
– Остановитесь, господин! – закричал в ужасе Марцин. – Там глубина! Там омут!..
Однако ничего не слышал жадный рыцарь кроме плеска воды. Ничего и видеть не хотел кроме блеска уплывавших от него перьев золотых, что по дну скользили. Бросился он за ними в воду еще раз. Почувствовал в руке острый край пера, но выскользнуло оно из пальцев и укатилось в яму подводную…
Напрасно звал его с берега Марцин, напрасно прыгнул в реку и поплыл на самую стремнину – чтобы спасти несчастливца. Не захотел Любина услышать его, даже глядеть не стал на руки, что ему помощь и спасение несли – только глубже нырнул…
Сомкнулись волны речные над головой корыстолюбца. Только кувшинки речные, что вблизи берега росли, глядели вслед ему побледневшими от страха лепестками…
От автора: В давние времена находили золото в силезских реках – так же, как и в горах. Об этом гласят не только сказки, но также книги и старые пергаменты.
КУЗНЕЦ И ГНОМЫ
Далеко разносилась песня Якуба Прокши, когда летним вечером возвращался он в свою кузницу. А нес он на плече кайло – старый-престарый килоф[22]22
Килоф – род кирки или кайла: орудие горняков при работах по добыче руды.
[Закрыть] из оленьего рога, что оставил ему дед вместе с кузницей. Укрытая в глубине бора, стояла она на берегу шумливого и быстрого ручья, притулившись к склону горы Сьлёнжи, и дымила весь день. Кайло это служило Якубу орудием для вскрытия дерна на далеких приречных лугах, что лежали за лесом: из-под дерна добывал он железную руду для выплавки.
Петрек Лабендзь, богатый рыцарь, что жил в своем небольшом замке на вершине горы, всего несколько дней назад дозволил Якубу Прокше за небольшую плату добывать эту руду на своих лугах.
– Только гляди, Якуб! – сказал рыцарь, угощая кузнеца мёдом в людской, где его челядь кормилась. – Поимей в виду, чтобы ты в своей кузнице всегда ко времени делал для меня всё, что мне на войне потребуется, а хлопам моим – для возделывания полей. Следи, чтобы в замке Лабендзей всегда было в достатке мечей, топоров боевых и копий, а в моих деревнях под горой Сьлёнжой – плугов, хозяйственных топоров, ножей, серпов и кос. Понял?
– Ни в чем у вас недостатка не будет, господин! – ответил Прокша. – Только бы руда пригодная была, а плавильщики и кузнецы у меня неленивые…
На лугах Лабендзевых нашел Прокша руду богатую, чистую, да к тому же и близко под дерном она залегала. И была бурая, а не красноватая, не желтая – знак, что много в ней железа.
Сильно обрадовался Якуб и уже на следующий день послал товарищей своих на луга, чтобы начали копать там и сушить руду на огне. Оттого-то и пел он веселую шахтерскую песенку, как пели ее некогда его отец и дед:
Будет вдоволь железа,
Шихта в печи не влезет!
Нам руда – что алмазы!
Сыну дома не спится,
На меня он дивится —
Почему я такой чумазый?..
Дельными, трудолюбивыми были силезские забойщики. Ловко умели добывать руду кайлами из оленьего рога. Да не только из-под дерна: если надо – брали ее со дна болот и прудов, лишь бы хватало железа для плавильщиков. А эти уж, своим чередом, вытапливали руду в плавильных печах, что дымарками в Силезии зовутся. Строили их завсегда – по местному обычаю – близ кузницы, на широкой лесной вырубке, с немалым трудом выкорчеванной еще дедами Якуба Прокши.
Ночью плавить придется,
Пот обильный прольется,
Но богаче мы станем сразу…
Этими словами закончил Якуб свою песенку: нежданно увидел что-то странное впереди.
А был он уже вблизи кузницы и вырубки, на которой стояли дымарки, – круглые печи глиняные. Днем и ночью поддерживали в них огонь с помощью мехов, днем и ночью смотрели за ними плавильщики, потому-то всегда далеко по лесу и над ручьем дымом пахло. И весь день звенели на широкой вырубке людские голоса.
Но сейчас не почуял дыма Якуб, и залегла вокруг странная, глухая, никогда здесь не бывавшая, тишина. С беспокойством прислушивался Прокша, но так ничего и не поняв, пошел дальше. Высокие деревья, что росли вдоль дороги, поредели, и вскоре за ними начался густой, но низкий ольшаник, а по земле стлалась ежевика. Однако и теперь не увидел Прокша ни одного багрового отблеска, ни одного костра.
«Что же это такое? – в тревоге подумал он. – Уж не случилось ли тут чего?» Недоброе предчувствие сдавило его сердце.
Надвинул он шапку, чтоб не слетела, и что было сил кинулся бегом к вырубке. Ничего не замечая, продирался Якуб сквозь колючий кустарник, перепрыгивал через ручейки, скрытые среди моха и папоротника. И вот уже вырубка…
Тихо было вокруг. Только где-то далеко птица ночная кричала – громко и жалобно. Испуганный, запыхавшийся, вбежал Якуб через широко распахнутые ворота на двор свой… Темно в кузнице. В хате двери выбиты. В наступающем сумраке различил он черепки побитой посуды, а возле порога наткнулся на скамейку поломанную…
За домом, на вырубке, не слышно голосов, не видно огней. Бросился Якуб к дымаркам… Стояли они погасшие, заброшенные, а внутри застывала полурасплавленная руда.
«Разбойники тут побывали!.. – пронеслось в голове Якуба. – Грабители!.. Что ж тут скажешь? Люди завсегда болтают, что в кузницах найдешь, чем поживиться: слитки железные, поковки разные. Не дешевле серебра они ценятся – особливо, если так хорошо обработаны, как у меня хлопцы делали… Да и готового оружия, топоров, ножей и копий два полных сундука стояло в сарае за домом…»
Тяжко вздохнул тут Прокша, почуял вдруг, что глаза у него как-то странно жжет. До рассвета просидел он на пороге хаты, лицо руками закрыв, а утром сморил его сон тяжелый…
Солнце всходило бледное, туманное. Лениво бросало оно лучи свои на землю из-за низко нависших, клубящихся туч.
А Прокша всё еще сидел на пороге хаты – сонный, одеревеневший от ночного холода и печали. И вдруг почувствовал, как что-то теплое, влажное коснулось руки его свисавшей. Открыл глаза. Увидел возле себя пса любимого, Гацека, который ластился к нему и тихо повизгивал, будто жаловался и хотел рассказать о том, что творилось здесь накануне…
Дали псу такую кличку – Гацек – за большие уши, которые торчали высоко и прямо вверх над маленьким лбом с узкой лисьей мордочкой. Шерсть у Гацека была желто-бурая, косматая, а хвост пушистый. Верный страж поглядывал на Якуба чуть выпуклыми черными глазами и, желая показать огорченному хозяину свою преданность, пушистым хвостом вилял.
– Гапусь… Гацусь… – с трудом повторил Якуб, гладя и прижимая к себе верного друга.
Трудно ему было встать и выйти на вырубку. Из темной кузницы веяло на него страхом: а ну, как увидит он там, на полу у наковальни, помощника своего Войцеха, – с разбитой молотом головой, или самого младшего из кузнецов, Сёмека, – копьем пронзенного…
«Людей увели, а некоторых видно побили на смерть… – водя глазами по замусоренной грабителями вырубке, с горем думал Якуб. – Иные, быть может, прочь со страху бежали».
Но в тот же день суждено было Прокше всю правду узнать. Из лесу, из самой глухой чащобы, приплелся к хате нищий странствующий. Бродя по всему свету, заглянул он недавно и в хозяйство Прокши, да и прожил тут несколько дней.
– Грабители сюда понаехали нежданно… – начал он печальное свое повествование. – Неведомо, что за люди и откудова. С криком и шумом страшным ворвались сюда целой шайкой – на конях, да и пешо… Не было у нас мочи оборониться противу их – до трех разбойников приходилось на каждого нашего! Повязали они плавильщиков и с собой увели, похватали из кузницы оружие и всё, что получше было, а из хаты добро повыволокли, да и убрались во-свояси… Налетели, словно буря страшная, и опять будто ветром их обратно унесло! Вывели Войцеха и Сёмека из кузни, а когда те за топоры хватались – пригрозили, что хату и всё вокруг спалят. Ну и поддались оба – жалко им тебя стало. А кто успел из рук разбойничьих вырваться – бежал, куда глаза глядят… Только и утешения, что никого тут не убили.
– Так, дедушка… – печально ответил Якуб. – Не убили! Видать, разбойники эти хватают людей, чтобы потом в неволю их продать – туркам, али татарам. Большая это беда, печаль великая, да и разорение полное…
А Гацек всё вертелся поблизости – то лизал руки хозяину, то скулил жалобно, словно говорил о верности своей и дружбе… Посидел немного на завалинке дед, но видя горе хозяина и не надеясь больше милостыню от него получить, закинул за спину тощую, драную суму, да и пошел себе по дороге, что через лес ко Вроцлаву вела.
Остался Прокша один. Семьи и родных у него не было – в своем роду оказался он последним. Из прежних его уцелевших работников кузнечных никто не пожелал вернуться к нему – страшились разбойников, боялись работать в такой глуши лесной. Потянулись к местам, где полюднее и побезопаснее – в кузницы нанимались в Тархалицах и Волове: испокон веков силезские кузнецы там осели.
Из польских деревень, что были далеко друг от друга разбросаны по равнине подсьлёнжинской, тоже никто не захотел придти Якубу на помощь: и без того обезлюдел тот край после наезда татарского и мора страшного. Даже у рыцаря Лабендзя рабочих рук для пахоты и всякого хозяйства не хватало. Да и не каждый может кузнецом быть – нелегкое это ремесло! Чтобы таким мастерством овладеть, здоровье требовалось большое, сила немалая, ловкость, внимательность и упорство. Оно и понятно: в те давние времена кузнец был не только кузнецом, но и плавильщиком.
Немало забот стало у Прокши: зачали в округе немцы хитрые шнырять, выспрашивали мужиков, где тут дворы заброшенные имеются, высматривали в лесах древесину получше да поценнее, вынюхивали и примерялись меж собой, где бы им мельницу свою поставить заместо сожженной татарами, или мост на реке, чтобы способнее лес вывозить…
Дед-нищий, что вскоре к Прокше из Вроцлава зашел, наведался в праздничный день в замок Лабендзя, но когда вернулся оттуда – еще больше огорчил Якуба:
– Своими глазами видал я одного толстого немца и двух потощее, когда они с Лабендзем на крыльце стояли и околицу осматривали… Лопотали по-своему что-то и голову рыцарю морочили так, что слуги погнали их прочь: до того надоедные, черти!
Помрачнел Яку б от этих слов, спросил деда:
– А не слышал ли кто, чего они болтали?
– Слышали, слышали! – поспешил ответить дед. – Ничего иного и не плели, только то, чтобы рыцарь тебя из кузницы прогнал, да продал им вместе с лесом этим и с рудой, что на лугах…
– Боже милостивый! – схватился за голову Прокша.
– Показывали Лабендзю, что кузница твоя и не дымит вовсе… – говорил дед. – Лопотали, что, видать, спишь ты за полдень и о людях не беспокоишься, кои разбежались с твоего двора…
– Недоля моя… Беда! – в страшном отчаянии вздыхал кузнец, огорченно и скорбно глядя на остывшие дымарки, что на вырубке чернели. – Кузница! Рода нашего кузница, всех Прокшей. Как могу я покинуть ее, ежели тут еще мои деды-прадеды сидели? Лес корчевали, дом этот ставили, кузницу строили, сараи, ограду… Да и куда мне, идти? – стонал он жалобно. – В какую сторону оборотиться?
Молчал дед, озабочен был он и жалел Прокшу. Ничего не замечая, жевал он корку хлеба засохшую – всё, что нашлось в хате Якубовой, – а думал о горе хозяина.
Гацек вертелся возле них, лизал потрескавшиеся, почерневшие от работы руки Якуба. Много приходилось теперь трудиться Прокше, да разве один управишься? Мало перековал он слитков выплавленных – приходилось от наковальни к мехам перебегать и обратно, а всё одному, без помощи.
Отдохнув немного на завалинке, да поговорив еще с кузнецом, отправился дед в новое свое странствие. А Прокша принялся пересчитывать да чистить клещи, молотки и другой инструмент, что в кузнице сохранился. За этой работой и время шло, только думы не отлетали – пытался Якуб выход какой-то найти, чтобы кузницу свою отстоять от немцев…
А Гацек – видя, что не до него хозяину – погрыз корку сухую, что ему дед бросил, воды в ручье налакался и в лес побежал: позабавиться, а то и поживиться чем-нибудь. Вспугнул старого кабана одинокого, что в болотце за ольхами разлегся, потом белку на дерево загнал, гневным лаем ворон переполошил, которые над кустом вереска кружили, где бедный зайчонок укрылся. По дороге жабу лесную обнюхал и носом перевернул – баловства ради. До того забегался, что с вывешенным на бок языком залез в лещиновые заросли – отдохнуть немного от гоньбы немыслимой.
Тяжело дыша, припал Гацек брюхом к земле. Охватила его дремота, потянулся пёсик, зевнул сладко, повертелся малость по собачьему обычаю – чтобы вытоптать местечко в траве – да и улегся.
Но тут вдруг какой-то твердый предмет в бок ему уперся. Вскочил Гацек, осмотрелся, принюхался – пахло чем-то приятным: немного стружкой, немного ремнем старым. Схватил Гацек зубами выступавший край, рванул на себя и, к радости своей, вытащил старый постол, давно кем-то брошенный.
Совсем тут дремота от пёсика отлетела. Старый постол! Да разве может быть что-либо лучше для собачьей забавы, чем мягкая, заношенная человеческая обувь?..
Поиграл им Гацек немного, потом взял в зубы и потащил в хозяйскую хату. Забрался в темные сени и подальше за бочку, что в углу стояла, спрятал: как собаки кость прячут про черный день.
И не знал пёсик, что в постоле том нашел себе пристанище пендзименжик – добрый маленький человечек с седой бородой, в коричневом колпачке на голове и в таком же кафтанчике, сотканном из пуха заячьего.
Днем человечек всегда спал – ночью у него работы много было. Ходил он тогда по лесу и, присвечивая себе куском светящейся гнилушки, ночных сов от птичьих гнезд отгонял. Ранним же утром помогал мотылькам из куколок выходить и крылышки расправлять, а цветам – бутоны раскрывать перед восходящим солнцем. Потом вел на водопой маленького косулёнка, у которого звери матку загрызли; от волка его охранял. А еще освобождал из силков попавшихся туда куропаток и тетеревов…
Когда же падала на землю роса – купался гном в ямке, что лось копытом своим выбил. Освеженный, чистенький, возвращался он в жилище, что в старом постоле было, да и засыпал на ложе из мягкого птичьего и заячьего пуха.
После целой ночи ходьбы и работы наваливался на гнома тяжелый, каменный сон. Зарывшись в пух, не слышал он ни лая Гацека, ни путешествия в зубах пёсика. Только к вечеру разбудил его голод – тем более сильный, что пухлый носик его почуял какой-то очень вкусный запах.

Как раз в это время Якуб растопил печь и жарил на сковороде сало для заправки пшенной каши. Гном быстренько вылез из постола и с любопытством огляделся вокруг. Тихо и тепло было в сенях – ни ветра, ни сырости. Приподнялся гном на цыпочках, подтянулся к самому порогу и сквозь щель в неплотно закрытых дверях заглянул в горницу. То, что он там увидел, показалось ему приятным и вызвало доверие в маленьком сердечке гнома. На лавке сидел человек в сером кафтане и в таких же постолах, как и тот, что служил гному жилищем. На коленях человек держал миску с кашей и ел из нее. Рядом с ним, у самых ног хозяина, аппетитно чавкая над малой мисочкой, уплетал кашу пёсик.
Известно, как любят гномы вкусную еду. С большой охотой пьют они молоко и едят пшенную кашу со свиными шкварками.
Но не посмел гном войти в хату и попросить незнакомого хозяина, чтобы он и ему выделил часть своей еды. Поэтому притаился за порогом и стал ждать.
А тем временем Прокша поужинал, да и лег на полатях, где сено было положено и застлано кожухом. Гацек же прыгнул через порог и, чуть не растоптав гнома, отправился дом сторожить. В печи догорали смолистые щепки и бросали на пол тусклый свет.
Гном осмелел, перелез через порог и вошел в горницу. Охватило его сразу приятное тепло, а манящий запах, что долетал от сковороды, казался гному еще милее. Тихо ступая по глинобитному полу своими тонкими ножками, обутыми в сапожки из кожи, которую недавно сбросил с себя ужик, стал гном собирать возле лавки рассыпанную кашу, крошки хлеба и кусочки шкварок, которые упали с ложки Якуба.
Обильно поужинал гном – пришлось маленько распустить на своем круглом брюшке пояс, сотканный ему в подарок старым одиноким древесным пауком.
«О, видно хороший хозяин этот человек, что спит на полатях! – подумал гном. – Сам ест и о собаке заботится. Сколько каши ему в мисочку наложил!»
А Прокша и не спал вовсе – печальные мысли его в это время одолевали. Со своего ложа заприметил он гнома и усмехнулся добродушно, видя, как маленький человечек старательно собирает с пола и с аппетитом ест крохи, оставшиеся от ужина.
«Добры они, эти человечки! – подумал он. – Старательные, заботливые, полезные… Пусть он у меня поселится. Веселее с ним будет в хате, всё не один я…»
Утром поставил он для маленького гостя – поближе к порогу – мисочку похлебки и кусочек хлеба помягче. С того дня, когда, бы ни ел, всегда помнил о гноме.
А маленький человечек, видя, что хозяин дружелюбен к нему, совсем освоился и надолго загостился в хате Прокши. Теперь он совсем изменил свои обычаи – как и люди спал ночью, а работал днем. Однажды, прибирая в сенях, Прокша глубже задвинул бочку в угол, чтобы Гацек не добрался до постола. Так что пёсик вскоре и позабыл о принесенной из лесу забаве. Теперь уже никто не мог нарушить покой в жилище гнома.
Обрадованный этим маленький человечек насобирал в лесу заячьего пуха и выстелил себе новое ложе, а из пустого ореха смастерил себе музыкальный инструмент, на котором по вечерам очень красиво играл. Днем же старательно работал и много услуг оказал кузнецу. Уцелевшим от грабителей курам устроил удобные гнезда, чтобы не приходилось им нестись в лопухах; коровам сочный хебд[23]23
Хебд – (гебд) род кустарникового растения с мягкими сочными листьями: обычно подмешивается в корм скоту.
[Закрыть] в корм подбрасывал, чтобы молоко пожирнее давали; пёсику будку вымостил и покрыл наново, чтобы кудлатого дождь не мочил. Обойдя весь дом и двор, осмотрев его, да справив всё, что надобно, отправился гном в кузницу, где Прокша трудился в одиночестве, перековывая оставшиеся после наезда разбойников слитки выплавленного железа.
Едва гном через порог кузницы перелез, как зашумело что-то на дороге, и вот уже сам Лабендзь, с двумя своими оруженосцами, остановил коня возле кузницы.








