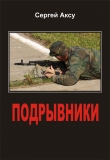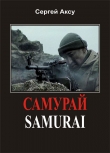Текст книги "Господин мертвец. Том 2"
Автор книги: Константин Соловьев
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц)
Гюнтера он заставил идти впереди. Не столько для того, чтобы предотвратить возможную попытку к бегству, сколько из нежелания видеть его лицо. Он догадывался, как себя чувствует свежеиспеченный мертвец, и подсознательно избегал общения с ним, словно слова, скользнувшие между ними, могут заразить и его самого той тяжелой, как смерзшийся ком земли, апатией, свойственной всем молодым «Висельникам». А потом глубоко в груди родились слова, и Дирку пришлось выдавить их из себя, потому что уместить их в себе оказалось невозможно.
– Обычное дело, рядовой Гюнтер. Верите или нет, но через это проходит каждый. Иначе не бывает. Знаю это ощущение, когда кажется, что все не можешь вынырнуть из затянувшегося стылого сна. И за каждым его витком следует еще один, и начинает казаться, что эти жуткие сновидения сейчас раздавят, растерзают, словно голодные крысы. Можно прожить месяц, а ощущать себя как в первую минуту. Гул в голове, незнакомые лица вокруг, легкость в теле, которая начинает казаться отвратительно неприятной, и слова, которых не понимаешь.
Гюнтер издал какой-то звук, непохожий на членораздельное слово. Скорее спазматический кашель.
– Растерянность, вот что ощущаешь сразу же. Хотя нет, сперва – облегчение. Ведь вы помните, рядовой, тот тупой удар пули, который почувствовали, прежде чем провалиться в распахнувшуюся в земле черную щель. Помните то звериное отчаяние, с которым пытались удержать равновесие, глядя на то, как бьющая толчками кровь пачкает форменные штаны. И какой-то душевный, в глубине всего этого, крик – черт возьми, почему же я?.. И это горькое ощущение несправедливости, с которым делаешь последний вдох, прижимаясь щекой к остывающей земле.
– Это был… кинжал, господин унтер.
– Неважно. У каждого из нас свой пригласительный билет, покойный рядовой Мартин Гюнтер. И на будущее – не слишком-то болтайте о своей смерти и не спрашивайте о чужих. Просто не принято. Да, у мертвых свое представление о вежливости, и скоро вы его поймете. Облегчение. Ты открываешь глаза и вдруг понимаешь, что способен видеть. И из самой души вскипает горячий источник, разносящий течение счастья до самых пальцев. Ты понимаешь, что был на волосок от смерти, но каким-то чудом уцелел. И ты торопливо бормочешь молитву деревянным языком, еще не понимая, как все это случилось. А вокруг тебя стоят незнакомые люди, и по их взглядам ты впервые понимаешь – что-то не так. В их взглядах нет радости или облегчения. Они смотрят на тебя, как… Равнодушно, иные даже с сочувствием. Ты пытаешься сказать им что-то радостное, что передаст им захватившее тебя без остатка ощущение вселенского счастья.
Но по их глазам понимаешь, что ответа не будет.
Собственная голова кажется большим холодным камнем, а перед глазами все еще стоит легкая пелена. Но даже сквозь нее ты видишь, что происходящее вокруг выглядит подозрительно. Ты пытаешься понять, что именно вызывает тревогу, но ничего не находишь, и даже незнакомые лица и незнакомая форма ничего тебе не говорят. Самое отвратительное ощущение, верно? Понимание неправильности происходящего. Ты вновь вспоминаешь пулю, которая тебя ударила. А потом, повинуясь неизвестно чему, ощупываешь себя – и замечаешь сквозную дыру, в которую можно просунуть палец, в собственном животе. Или внутренности, свисающие, подобно сосискам, до самой земли. Или еще что-нибудь в том же духе. И кто-то, кто желает быстрее развеять твои сомнения, окунув тебя в бесконечный кошмар, говорит: «Добро пожаловать в Чумной Легион, приятель…»
– Хорошо рассказываете, господин унтер, – сказали хрипло из темноты, и при свете очередной осветительной ракеты Дирк увидел впереди что-то массивное и громоздкое неясных очертаний. – Не надо стрелять. Рикошет может вам повредить. Это я, Штерн.
Дирк чертыхнулся, возвращая «Марс» в кобуру.
– Ах ты ржавая бочка! Значит, гуляешь по ночам в старых траншеях?
– Здесь спокойнее, тише. Редко кто-то ходит.
– Я и забыл, что все штальзарги по своей натуре одиночки, – проговорил Дирк с усмешкой.
– Мы все философы, – возразил все тот же голос, спокойный и лишенный выражения. – А толпа философов – это уже рынок. Зато наедине с самим собой каждый человек становится философом.
– Не обращайте внимания, рядовой, – сказал Дирк окаменевшему Гюнтеру. – Это Штерн, штальзарг из первого отделения. И самый безумный штальзарг из всех, кого я знаю. Он сам не всегда понимает, что говорит, зато является полным кавалером всех французских пуль и снарядов.
Поклон в исполнении штальзарга выглядел жутковато, как обвал огромного утеса. Но Штерн ухитрился отвесить его не без элегантности.
– Новенький… – проворчал он, выпрямляясь с металлическим скрипом, вроде того, что издает изношенный трактор, – и сразу бежать? Как это знакомо. Унтер прав, бегут все. Но не от опасности. Преимущественно от себя. Тебе еще повезло, парень. Отделался дыркой. Меня к тоттмейстеру несли четверо. И у каждого из них было примерно поровну меня.
Штерн говорил в своей обычной манере, ровными короткими фразами. И Дирк не мог избавиться от впечатления, что стальной воин улыбается. Лицом, которого у него давно уже не было.
– Первая пора тяжелее всего, – продолжил Дирк. Штальзарг с его молчаливого согласия ковылял позади, земля под ногами гудела от его ухающих шагов. – Поначалу кажется, что изменился мир, а не ты. То ли в этом мире что-то появилось, то ли что-то пропало. Просто он стал другим, и ты пытаешься устроиться в нем, как лишний патрон в обойме, и из этого ничего не выходит. Тут многие ломаются, рядовой Гюнтер. Сам видел. Потому что начинают понимать ту основную вещь, которая рано или поздно приходит к тебе в размышлениях и скребет, как бродячая собака дверь кухни. Начинают понимать, что этот мир, в котором они успели лет двадцать пожить и один раз умереть за Германию, уже не их мир. Он создан для других, и ты в нем чужой. В этом мире есть вода, которой ты уже никогда не напьешься, и воздух, которого больше не вдохнешь. Вы грамотны, рядовой Гюнтер?
– Да, господин унтер, – ответил тот одними губами. Шел он как калека, ссутулившись и глядя себе под ноги. Дирк подумал, что полезно было бы прикрикнуть на него или вовсе заставить всю ночь заниматься строевой подготовкой, меряя шагами импровизированный плац, сооруженный Карлом-Йоханом, но не стал этого делать.
«Мейстер был прав. Человеколюбие, вот что это за грех. Проклятое человеколюбие».
– Приходилось видеть тех, кто остался на второй год в школе?
– Угу.
– Их можно выделить даже не по лицам, которые уже впору брить, а по их выражению. Они обычно выглядят потерянными, отчужденными. Они испытывают то же самое. Мир, частью которого они привыкли себя считать, вдруг изменился, не позаботившись их подождать. И теперь это уже другой мир. Или другой ты в прежнем мире. Короче, кто-то из вас уже не такой, как прежде, и никак этого исправить нельзя. Новые одноклассники не понимают, о чем ты говоришь, и ты ловишь их сочувственные, брошенные исподтишка взгляды. Они только пробуют курить и увлекаются теми вещами, про которые ты давно забыл. В вас нет ничего общего, хотя на самом деле вас различает какой-нибудь год или два. Или одна маленькая свинцовая пуля, пробившая легкое.
Штальзарг за их спиной издал короткий отрывистый звук, который сложно было понять или перевести в человеческие интонации. Он мог быть и вздохом, и смешком.
– Складно болтаете, унтер.
– Я столько раз говорил это, что заучил на память… Мне приходится повторять это каждому новому мертвецу во взводе. Ведь они все бегут. Кто-то на второй день, кто-то на тридцатый. Но все. Говорить это раньше бесполезно – не поймут. А сейчас уже есть шанс.
– Значит, и вы сами когда-то слышали подобное?
– Конечно. У каждого унтер-офицера заготовлена на этот случай небольшая речь. Мою вы только что услышали.
– И как? – спросил Штерн, в нечеловеческом голосе которого появилось нечто отдаленно напоминающее любопытство. – С вами это сработало?
Дирк усмехнулся.
– Нет, – сказал он, – это никогда не работает.
Глава 2
«Однажды я жил в одной комнате с мертвецом, – вставил Грэг, разглядывая стакан с ядовито-желтым пойлом, – целых три дня. Это было в Янгстауне, в шестьдесят шестом. Он «звезду поймал». Так у нас тогда говорили. Сердце, кажется. Похоронить его я не рискнул, я тогда и свет-то старался лишний раз не зажигать. Так вот, лучшего компаньона я и желать не мог. Он никогда не включал громко музыку, не жаловался на жизнь, не впадал в ярость… Это были три самых спокойных дня того проклятого месяца.
Я бы терпел его и дольше, но пришлось возвращаться в Солтлэйк-сити». – «А запах?» – спокойно спросила Салли. Она цедила своего «Московского мула» уже полчаса. Грэг встряхнул свой стакан, едва не пролив его содержимое мне на брюки. «Запах!.. Черт возьми, Сал, человек в наше время может позволить себе хоть какие-то недостатки?»
Брайан Джей Коэн, «Пигасус: визг в защиту свободы»
Французы напомнили о своем существовании на семнадцатый день после штурма.
В течение двух недель они оставались невидимками, живущими в призрачном мире, отрезанном от привычного широкой полосой вспаханной снарядами нейтральной полосы. Никто не мог с уверенностью сказать, что там происходит, и оттого почти недельное затишье будоражило самые скверные и зловещие фантазии.
Наблюдатели изредка замечали лишь блеск линз и едва заметное шевеление во вражеских траншеях. И, хоть все это было проявлением чужой жизни, оно ничего не говорило о ее сути, как подрагивание когтей хищника еще не говорит о его намерениях. Никто не мог с уверенностью сказать, о чем помышляют французы. Переживают ли они последствия своего ужаса, пытаясь восполнить потери и отвести в тыл на переформирование наиболее пострадавшие части, или же, затаившись, уже готовятся к новому выпаду. Лейтенант Крамер, хмурившийся день ото дня все больше, посматривал в сторону французов с напряжением, которое не укрывалось от Дирка.
– Затихли… – сказал в сердцах Крамер на пятнадцатый день, откладывая бинокль, когда они с Дирком пытались обнаружить признаки жизни в передовых французских траншеях. – Галльские петухи спрятали головы в песок и чего-то ждут.
Бездействие томило лейтенанта, и Дирку оставалось только качать головой, наблюдая за тем, как Крамер не находит себе места, делаясь день ото дня все тревожнее. Есть люди, которые не созданы для покоя.
– Насколько я могу судить, до полного штиля еще далеко. Регулярно слышу выстрелы, особенно по ночам, да и пушки не стоят без дела.
– Обычная фронтовая жизнь, – отмахнулся Крамер с досадой. – По три-четыре раза на дню наши орудия обмениваются с батареями лягушатников приветами. Но это не обстрел, а так, ругань соседок… По десятку выстрелов на орудие – легкий дождь, не более. У нас про это говорят «француз горохом сыплет». Такое ощущение, что французским бомбардирам важнее отчитаться о потраченных снарядах, чем в самом деле во что-то попасть. Наверное, изображают кипучую деятельность перед своими генералами, показывают, что не только с консервными банками воюют…
– Может, прощупывают нашу оборону?
– На все воля Господа и Генерального штаба. Может, и прощупывают. Но следов я пока не вижу. Каждую ночь лично рассылаю своих ребят. Секреты обновляем ежесуточно, пластунские отряды на нейтральной территории, замаскированные наблюдательные позиции… Тихо, как в затянутом тиной пруду, ни всплеска. Позапрошлой ночью перестал доверять своим нижним чинам, ночью сам выбрался в удобную воронку и проторчал там весь следующий день с «цейсом» в руках. Под вечер я потерял бдительность, и чертово солнце блеснуло на линзах… По мне дали две ленивые очереди – и только. В прежние времена галльские петухи исклевали бы всю нейтральную полосу!
– Смотрю, вы проводите время с пользой. – Дирк не смог удержаться от улыбки. К счастью, незамеченной Крамером.
– Я трачу его бездарно, как неопытный пулеметчик, расстреливающий вхолостую патроны… Мне уже начинают мерещится французские вылазки. С наступлением темноты выгоняю вперед метров на двести засадные команды на тот случай, если французские гренадеры соберутся ночью нанести визит. Тщетно. За все время не видали даже лазутчиков.
– Саперы? – предположил Дирк. Больше для того, чтобы дать беспокойной мысли Крамера новое направление для движения, чем из серьезных опасений. – Усыпляют бдительность на поверхности, а сами ведут штреки под наши позиции…
Крамер досадливо мотнул головой.
– Постоянно заставляю посты акустической разведки слушать землю. Никакой вибрации, никаких звуков. Вероятность подкопа практически нулевая, иначе пришлось бы считать, что французские саперы достигли в этом деле невообразимых высот. Точнее, невероятных глубин.
– Значит, передышка.
– Не люблю я такие передышки. И ребята нервничают. Знаете, не так нервы треплет бой, как его отсутствие. Напряжение губит быстрее, чем страх. Хотя вам, мертвецам, это едва ли знакомо.
– Знакомо, но по другому поводу… – пробормотал Дирк. – Вот сейчас…
– Напряжение губит быстрее, чем страх, – повторил Крамер, словно не услышав «Висельника». – Человек – глупейшее создание, Дирк. Он способен сам себя свести в могилу, достаточно лишь предоставить его страхам подходящую почву. Однажды в семнадцатом году, я тогда командовал взводом, нас выдернули на передовую, толком не объяснив, что происходит вокруг. А может, и в штабах никто ничего не знал… Выдернули на передовую и держали там две недели. Казалось бы, что с того? Ребята у меня уже тогда были обстрелянные, пороху нюхнули будь здоров. Да и я не мальчик. Но неизвестность давила сильнее самых ужасных страхов. Мы сидели, сутки напролет сжимая липкие от грязи винтовки, в полном снаряжении, и не знали, что случится в следующую минуту: взлетит ли сигнальная ракета и начнется штурм, или же на нас покатятся французские цепи. То же самое, что сидеть на неразорвавшемся снаряде и тюкать его булыжником. Нервы с каждым днем закручиваются все туже, как колючая проволока на бобинах. И люди, не один раз спокойно смотревшие смерти в лицо, вдруг начинают дрожать, как сопливые призывники при разрыве «угольного ящика». За две недели сидения в траншеях я потерял шесть человек. Двое в дуэлях, четверо застрелились. Какая-то эпидемия. И оставшиеся выглядели как мертвецы, только не вроде вас, а иначе: лица мертвые, окоченевшие, и глаза сияют на них, как жуткие гибельные звезды… К счастью, потом французы все-таки напали. И я потерял половину своего взвода, но мы дрались как дьяволы, с удовольствием, едва ли не смеясь. С ума сойти, верно?
– Да, – Дирк механически повторил кивок Крамера, – с ума сойти.
– Значит, вы от такого ощущения избавлены? – Крамер убрал в футляр бинокль, который все это время бессмысленно крутил в руках. – Нервы как нержавеющая сталь?
– Всякая сталь ржавеет со временем. Просто нержавеющая дольше сохраняет прочность.
– Воинство, которое не способно испытывать страх, всегда будет серьезной силой. Особенно в этой войне, где страх безграничен.
Крамер произнес это с усмешкой, и Дирк не понял, чего в его словах было больше, сарказма или уважения.
– Мертвецы не способны чувствовать страх, – сказал он, чтобы нарушить воцарившуюся на наблюдательном пункте тишину, – как и некоторые другие вещи. Радость боя, опьянение победой или грусть о погибшем товарище. Госпожа Смерть любит принимать дары в той же мере, что и подносить. Мертвецы не знают чувств.
– Вот как? – Крамер встрепенулся. – То есть, когда вы оторвете голову французу, вы не испытываете при этом никаких чувств?
– Разве что удовлетворение. Не радость.
– А если… Скажем, если сейчас просвистит снаряд и меня полоснет осколком? Вы что-то испытаете, глядя на то, как я истекаю кровью?
Это был не тот вопрос, который можно пропустить. Лейтенант Крамер выжидающе смотрел на Дирка. С одной стороны, он выглядел напряженным, как перед боем, с другой – сквозь эту напряженность просвечивало что-то почти насмешливое. Как если бы лейтенант заранее знал ответ собеседника, и этот ответ казался ему до крайности нелепым.
Наверное, стоило бы сказать ему что-то успокаивающее.
Но этот человек в мундире лейтенанта, с молодым, но жестким лицом, заслуживал искренности. Хотя бы из-за того, что имел смелость называть мертвеца своим товарищем.
– Испытаю сожаление, – сказал Дирк. – Вы – хороший солдат, Генрих, и ваша смерть была бы мне неприятна.
– Польщен.
– Испытывать горечь или чувство утраты – не в моих силах.
– Благодарю и на том.
– Вы сегодня необычайно желчны, Генрих. И подавлены. Немного зная вас, могу предположить, что дело здесь не в обычном бездействии.
– Не обращайте внимания, обычная траншейная хандра. – Крамер махнул рукой, на мгновение утратив выправку, сделавшись просто уставшим человеком в лейтенантском мундире. – А впрочем… Все равно ведь и до вас дойдет. Держите, ознакомьтесь.
Он вытащил из планшета лист бумаги, неровно смятый и немного испачканный, как если бы его касались многие руки.
– Письмо, – пояснил он со смешком в ответ на вопросительный взгляд Дирка, – от наших французских друзей.
Дирк распрямил листок на узком столе наблюдательного пункта, машинально отметив, что бумага весьма неплоха. В германской армии даже приказы кайзера печатали на куда худшей.
Странное послание содержало в себе отпечатанное в хорошей типографии изображение в одну краску и не очень длинный абзац текста. Текст заинтересовал Дирка больше – отчасти из-за того, что изображение было предсказуемым.
«Солдат! – гласил текст на пристойном, против ожидания, немецком. – Тебя обманули. Война, на которой гибнут твои братья и на которой в любой момент можешь погибнуть ты сам, это ложь и обман. Глубоко в тылу фабриканты оружия штампуют миллионы винтовок – для таких же обманутых, как ты. В теплых дворцах сытые министры пишут приказы о наступлении, которое завтра же захлебнется кровью, – для таких же голодных и израненных, как ты. Твои товарищи, понимая суть этого обмана, складывают оружие, не желая сражаться на чужой войне. Им на смену штабы шлют мертвецов, выкопанных из солдатских могил. Те, кто были обречены погибнуть за чужую ложь, даже после смерти не могут обрести свободу. Забирая у них душу, тоттмейстеры кайзера делают из них кровожадных чудовищ, пожирающих человеческое мясо в тщетной попытке победить в уже проигранной войне. Разлагающиеся трупы в военной форме маршируют по полю боя. Быть может, завтра к ним присоединишься и ты. Помни, что, воюя за чужую ложь, даже после смерти ты не обретешь свободы. Бросай оружие и с честью сдавайся в плен вне зависимости от звания – французское командование обещает тебе уважение, горячую еду, тепло и спасение. Сохрани свое тело и душу!»
Рисунок выглядел фрагментом батального полотна, изображенным умелой, хоть и поспешной кистью. Схематически изображенные траншеи легко угадывались в изломанных зигзагах, тянувшихся во всю ширину листа. Кустистые разрывы снарядов были чересчур жидки, должно быть, художнику не часто доводилось бывать под настоящим артобстрелом. Зато пехотинец в германской форме, замерший в самом центре, был изображен со всей тщательностью и вниманием к деталям. Стоптанные сапоги, гранаты на ремне, вещмешок, винтовка… Не было только лица. Из-под ржавого, в дырках пикельхельма скалился мертвыми глазницами пустой череп с выкрошившимися зубами. Оттого что глазных яблок у черепа не было, он, казалось, заглядывал прямо в лицо смотрящему. Что в сочетании с жутковатой ухмылкой производило должное впечатление.
– Ну как? – сдержанно поинтересовался Крамер, следивший за его реакцией.
– Недурно. Их агитаторы быстро учатся. А кисти мне уже знакомы.
– Приходилось видеть?
– Несколько раз. Картинка та же, текст другой. Раньше было что-то про тоттмейстеров, которые пируют, как вороны, на поле боя, выхватывая друг у друга куски мертвечины… Слишком много поэзии. Этот образ определенно лучше.
– Рад, что вам понравилось. – Крамер принял листок обратно, сложил его, как если бы собирался убрать в планшет, но вдруг резко смял его и швырнул под ноги. – Этой поучительной литературой французы снабдили вчера половину полка. Агитационные снаряды.
– Быстро среагировали. Наверное, держали наготове. Вот и пригодилось.
– Конечно. Я приказал сжигать эту дрянь не глядя, но вы же знаете пехотинцев… Все равно будут тащить – на папиросы, на бинты… Не уверен, что смогу полностью пресечь эту затею.
– И не пресечете. Французы – большие любители наступить кому-то на больную мозоль. К сожалению, даже если держать их подальше, больная мозоль от этого не исчезнет. Мне только интересно, что сказал насчет этого оберст фон Мердер?
Лейтенант Крамер неопределенно мотнул головой, но ничего не сказал. Лишь отвел взгляд в сторону.
В последнее время им редко удавалось поговорить. Лейтенант Крамер после того дня, когда тоттмейстер Бергер освободил душу Лемма, уже не так часто забредал в расположение «Веселых Висельников». Дирку оставалось только гадать, что было тому причиной. Отвращение к тоттмейстеру Бергеру, который не моргнув глазом отдал своего мертвеца на заклание? Угрозы фон Мердера относительно дружбы с мертвецами?
Дирк не заговаривал об этом, а Крамер со своей стороны тоже не спешил вступать в беседу. Для лейтенанта было бы лучше и вовсе тут не появляться, чего он не мог не понимать. Но все же он приходил. Изредка, обычно под вечер, раз в два-три дня. Если Дирк бывал свободен, они просто сидели в наблюдательном пункте «листьев», поглядывая на французские позиции в перископ, болтали о какой-нибудь ничего не значащей ерунде или вспоминали фронтовые истории, которых у каждого было припасено более чем достаточно. Время здесь текло по-особенному и исчислялось не в часах и в минутах, а в иных, не предусмотренных древним Хроносом единицах. Бывало, что чья-то жизнь и смерть укладывались в минуту. Бывало, какая-нибудь никчемная мысль занимала час.
– Слишком тихо. – Руки Крамера, как намагниченные, постоянно тянулись к «цейсу» и подолгу не выпускали его. – Совершенно не французская манера. Галльский темперамент я хорошо выучил, не один месяц был для этого. Французы всегда суетятся, как голодные вши на кальсонах, даже если загнать их пулеметами в самую глубокую дыру, они и там будут виться, не находя места. Ложные удары, контратаки, ловушки… А тут словно переморозило всех… Такое ощущение, ждут чего-то.
– Чего же ждут французы?
Лейтенант лишь пожал плечами.
– Со мной они редко делятся своими соображениями. Но мне кажется, что затевают что-то.
– С чего бы такие выводы?
– Можете считать интуицией. Я часто околачиваюсь на переднем крае, коротаю время за перископами. И заметил, что в сумерках над французскими позициями как будто бы больше дыма. При свете дня они, конечно, таятся, не жгут. Но когда солнце садится, немного заметно… Походные кухни. Или пуалю от испуга стали жрать в пять раз больше, или их там прибавилось. А если прибавилось, значит, долго не усидят. Значит, намеренно молчат, проверяя нашу выдержку, не сунемся ли сгоряча в атаку. Но если они решили пробрать этим фон Мердера, могут не стараться. Старик решил остаться на этом клочке земли до тех пор, пока самого не снесут в могилу. А что узнали ваши мертвые пташки?
– Мейстер мне тоже не докладывается, Генрих. Но наш «Морри» сообщает, что птицы обнаружили довольно большое количество грузовиков во французском тылу. Передвигаются по ночам, хорошо маскируются, но у наших птичек зоркий глаз… Наверняка французы получают подкрепление.
– Паршиво, господин унтер.
– Так точно, господин лейтенант, – в тон ему ответил Дирк. – Настанет момент, и попрут наши французы, как тесто из кадки… А нас тут – две трети полка да потрепанная рота. И голое, как фронтовая шлюха, поле за спиной. Сейчас все смотрят на юг, там сейчас все решается. Все резервы югу, и все силы югу. Никто не думает про север. Никто не понимает, что стоит лопнуть здесь – и не будет больше никакого юга и никакого севера, а будет то же дерьмо, что было весной восемнадцатого. Одна лишь артбатарея «Смрадных Ангелов» майора Крэнка километрах в двадцати позади, и те долго не продержатся…
Крамер с удивлением взглянул на него, точно не ожидал подобной тирады. Обычно молчаливый, Дирк расходовал слова куда как экономнее да и эмоций не проявлял столь явно.
– Вы, кажется, сегодня тоже не в духе. Надеюсь, я не заразил вас своим пессимизмом?
– Это все мейстер, – неохотно сказал Дирк. – Мы улавливаем его настроение. А сейчас он не в лучшем расположении.
– Тоже ощущает гнет французского молчания?
– Французы ему безразличны. Его мучает другое. Мейстер ощутил присутствие… своих коллег.
Лейтенант Крамер нательного креста не носил, но рефлекторно перекрестился – коротким скупым жестом, как, наверное, крестился в траншеях перед короткой яростной атакой, не выпуская из рук гранат.
– Французские тоттмейстеры? – спросил он, мрачнея еще больше.
– Лишь их призрачный след. Наш с вами кабан был предвестником этого следа. Теперь же он проявился в воздухе во всей полноте.
– И какой след оставляют тоттмейстеры? Что-то вроде могильной вони?
– Вы сами по легкой дымке вычисляли полевые кухни, Генрих. Сходным образом наш мейстер чувствует присутствие тоттмейстерских… кхм… чар. Чужих чар. Мейстер не может сказать, что это за чары и на что они направлены. Именно поэтому он сильно не в духе уже несколько дней. Постоянно в состоянии транса пытается уловить какие-то знаки, проявления… Кажется, у него это не очень-то получается. По крайней мере, все «Висельники», не исключая и меня, чувствуют сильнейшее напряжение в окружающем пространстве. И беспокойство.
– Теперь и я чувствую себя схоже.
– Сочувствую.
– Это я вам сочувствую, – отмахнулся Крамер. – Я, по крайней мере, могу влить в себя полбутылки трофейного коньяка.
– Лишен подобного удовольствия.
– То-то и оно. Трудно, должно быть, воспринимать такие новости, если не имеешь возможности отвести душу.
– Даже к этому можно привыкнуть со временем. Ну а отвести, как вы выразились, душу можно и мертвецу.
– И каким же образом? – поинтересовался Крамер.
– Самым обычным и безобидным. Партия в карты или шахматы, книги, какие-нибудь глупые разговоры…
– С трудом представляю вас с картами!
– Я не игрок. Но у нас есть специалисты. Иногда по вечерам, когда свободны от дежурств, мы собираемся в клубе. Мы – это я и прочие унтер-офицеры роты, Йонер, Крейцер и Ланг. Играем партию-другую…
– Клуб?
– Звучит, конечно, гордо, но мы привыкли именовать его так. На самом деле это просто невзрачный блиндаж, который стоит на отшибе и достался нам по наследству. Сразу после штурма французских позиций мы провозгласили его клубом мертвых унтер-офицеров и время от времени собираемся там вчетвером. Дурачество, ничего более.
– И чем же занимаются мертвые унтер-офицеры в свободную минуту?
– Да так, отводим душу. Пьем еще теплую кровь, читаем проклятья в адрес живых или даже…
– Дирк!
– Валяем дурака, конечно. Карты, домино да пустопорожние разговоры. Скука ужасная, да и запах не лучший. Вам бы не понравилось.
– Не уверен, что у меня есть возможность оценить.
– Мертвецы гостеприимны, а двери клуба открыты для всех. С другой стороны, хоть вы и являетесь одним из немногих здешних обитателей, у которых не вызывает отвращения Чумной Легион, общество скучающих за картами покойников даже вас едва ли обрадует.
– Отчего же, при случае я бы охотно заглянул, – сказал Крамер с интонацией человека, который, встретив противодействие, пытается преодолеть его больше из упрямства, чем из какой-либо выгоды. – Если вас это не затруднит, конечно.
– У нас нет тайных сборищ, паролей и явок, так что вам не требуется особого приглашения. Заходите в любое время.
– Приму к сведению. Признаться, в последнее время здесь несколько скучновато. Проклятые французы закопались в свои норы и грызут нервы.
Дирк хотел было спросить, отчего лейтенант не посещает офицерский клуб, который, конечно, имелся в расположении полка. Но, поколебавшись, спрашивать не стал. Должно быть, у Крамера были на то причины. И Дирк даже подозревал, какого рода.
На семнадцатый день французы решили напомнить о себе. И сделали это достаточно эффектно.
Первым тревогу поднял Хаас.
Следуя своему обыкновению, он коротал послеобеденные часы, уже наполненные легкой весенней духотой, предвещающей настоящее тепло, неподалеку от оружейного склада. В блиндажи он предпочитал не спускаться даже во время редких артобстрелов, утверждая, что там пахнет, как в могилах. Хаас был немного навеселе, как всегда после обеда, но все-таки не пьян.
Поэтому, когда он внезапно вскочил, обращая к небу пустое бледное лицо, Дирк сразу напрягся. Как и всякий магильер, властелин воздуха обладал особенным чутьем, верным, как нюх санитарного пса, способного найти раненого на заваленном мертвецами поле боя.
– Северо-северо-запад, – в полузабытьи пробормотал Хаас. Подобно флюгеру, он немного вращал головой, точно нащупывая заостренным носом невидимые течения ветра. – Возмущение воздуха. Точно, вот оно… Моторы… Бьют, как в колокола… Какие горячие…
Дирк оказался возле люфтмейстера в одно мгновенье.
– Расстояние! Высота! – гаркнул он, хоть и знал, что Хаас в подобном состоянии, напоминающем транс, редко способен реагировать на посторонние раздражители.
Но люфтмейстер его услышал.
– Два километра… – сказал он слабым, как у тяжелобольного, голосом. – Высота – два и пять.
Этого было достаточно.
– Тревога! – крикнул Дирк. – Воздух! Пулеметные расчеты по местам! Винтовки к бою! Воздух!
Сигнал тревоги разошелся по всему расположению взвода за считаные секунды. Мертвецы передавали его один другому по цепочке, и вскоре уже откуда-то из-за спины ползло, как газ по траншеям, повторенное чужими голосами зловещее: «Воздух! Воздух!»
Пулеметная команда Клейна, как всегда, сработала без нареканий. Клейн не случайно многие часы подряд обучал пулеметные расчеты, не жалея ни сил, ни времени. Это окупалось. Когда-то, в самом начале войны, аэропланы казались забавными стрекочущими игрушками, парящими в небе. Но эти игрушки быстро заставили всех считаться с собой.
«Моторы, – лихорадочно соображал Дирк, подгоняя командиров отделений и нижних чинов. – Хаас сказал – «моторы». Если бы он почуял один мотор, было бы проще. Просто хитрый воздушный разведчик, вздумавший разглядеть глубину германских позиций. В худшем случае – артиллерийский корректировщик, и тогда на головы «Висельников» может посыпаться такое, что уставший от «гороха» Крамер обрадуется до смерти. А вот если сразу эскадрилья…»
Замаскированные сетями и охапками жухлой прошлогодней травы пулеметы в едином порыве повернулись тупорылыми носами на северо-запад. Как цветы, поворачивающиеся в сторону солнца. Во втором отделении было семь пулеметов, и каждый из них теперь изучал небо, низкое, укрытое клочковатыми, похожими на отсыревшую вату облаками. Красивое небо, не испорченное колючими разрывами шрапнели и дымными трассами.