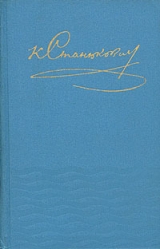
Текст книги "Том 4. Повести и рассказы"
Автор книги: Константин Станюкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 21 страниц)
«О, какая святая женщина!» – снова пронеслось в голове молодого человека, и он, умиленный, продолжал слушать с благоговейным вниманием, взглядывая по временам на грустное лицо рассказчицы с сочувственным восторгом. Она сама, казалось, была растрогана чужой несчастной судьбой, и голос ее, тихий и нежный, звучал скорбными нотками.
Справедливость требует, однако, заметить, что адмиральша, рассказывая эту повесть о своей «бедной подруге», несколько отступила от действительности, вероятно для более сильного художественного впечатления на такого «фефелу», как Неглинный.
Вместо того, чтобы прибавить своей «подруге», как это обыкновенно водится, годик, другой, третий, она, напротив, великодушно сбавила ей целых пять лет, но зато, впрочем, скромно назвала ее «недурной», хотя считала очаровательной. Забыла она также перечислить в хронологическом порядке все ее увлечения и с «пожертвованием всем», и без пожертвований, а только с флиртом, которые бывали до того времени, когда она «впервые» полюбила «другого». Кроме того, рассказчица значительно отступила от истины, приписав сваей «подруге» и «тяжелую борьбу с чувством» и «страх» разбить жизнь «боготворившего» ее человека. В действительности – и адмиральша это отлично знала – «подруга» без особенной борьбы обманывала доверчивого мужа, пользуясь его частыми уходами в море.
Впрочем, какая же повесть, да еще рассказанная женщиной тридцати пяти лет, с пылким темпераментом и только что расставшейся с любимым человеком, – бывает без художественных красот!
И Нина Марковна, заметившая, что ее рассказ производит на слушателя потрясающее впечатление, продолжала:
– И бедная моя подруга должна была скрывать свое чувство, казаться веселой, когда грустно, играть комедию, когда на сердце драма… Разве это не ужасно?
– Ужасно! – ответил Неглинный с таким искренним сочувствием и таким подавленным трагическим голосом, точно он сам в эту минуту переживал все перипетии этой драмы.
– Признаюсь, я не могла бы обвинить эту несчастную женщину, несмотря на то, что она и обманывает мужа. Она ведь сама страдает, хотя в обществе и носит маску… А ведь ее многие обвиняют… Про нее бог знает что рассказывают, на нее клевещут…
– Какие-нибудь негодяи! – энергично воскликнул Неглинный, готовый в эту минуту, несмотря на свою кротость, задушить каждого «мерзавца», который осмелился бы сказать что-нибудь дурное об адмиральше.
– Не негодяи, а так называемые порядочные люди из общества и больше всего, разумеется, дамы, которых вы считаете такими ангелами, добрейший Василий Николаич, – с едва заметным раздражением проговорила Нина Марковна.
– Но эта святая женщина, надеюсь, не обращает внимания на эти гнусные сплетни… Она выше этого?
– Еще бы! Слишком было бы много чести для них! – ответила адмиральша с высокомерной, презрительной усмешкой. – Сами осуждающие каковы!
Разговор о порядочных женщинах, часто несущих страдальческий крест и кару несправедливого осуждения, продолжался еще несколько времени. Говорила больше адмиральша, а Неглинный подавал только сочувственные реплики или делал восторженные восклицания. К концу беседы он так был очарован адмиральшей, обладавшей способностью приноравливаться к людям и тем легче нравиться им, что пожалей она теперь хотя бы какую-нибудь страдалицу-«подругу», принужденную, по примеру героини Бурже, любить и обманывать троих разом Неглинный, при всей своей суровой добродетели, не имел бы сил осудить ее.
За обедом адмиральша завела давно желанную речь о Нике. С кем же и поговорить о нем, как не с другом, да еще таким преданным!
Она очень просто и, нисколько не смущаясь, как ожидал ее собеседник, смутившийся невольно сам, когда речь зашла о Скворцове, – заметила, что ей очень жаль, что Николай Алексеич так внезапно уехал. Он так часто бывал у них и к нему она и Ванечка так привыкли.
– Ведь вы, вероятно, знаете, что мы были большие друзья с вашим другом. Он такой славный и неиспорченный, этот милый Николай Алексеич… И я, и Ванечка смотрели на него, как на родного, близкого человека. Ванечка его очень любит, – почему-то нашла нужным подчеркнуть адмиральша. – Что ж вы не пьете вина?
И адмиральша любезно сама налила, слегка нагнувшись к Неглинному, красного вина в маленький стаканчик. Молодой человек совсем зарделся и от этого любезного внимания и, главным образом, от близкого соседства этого благоухающего склонившегося бюста с открытым вырезом, из-под которого тихо колыхалась грудь. И он, никогда не пивший вина, с какой-то отвагой смущения выпил стакан залпом.
Адмиральша снова наполнила стакан.
– О, благодарю вас… Не беспокойтесь, – пролепетал Неглинный, благоразумно не поднимая кверху глаз и только благоговейно любуясь маленькой рукой.
– Это легкое вино… И я даже пью его целую рюмку. – Верно, и вам было жалко расстаться с Николаем Алексеичем!.
Он далеко не чувствовал теперь того сожаления о друге, какое чувствовал еще сегодня утром, но счел долгом сказать, что «очень жалеет».
– И мы с Ванечкой жалеем, что на время лишились доброго, милого знакомого. Целый год его не увидим.
– Два года! – добросовестно поправил Неглинный…
– Как два года? – воскликнула адмиральша. – Николай Алексеич говорил, что уходит на год…
«Ах, обманщик!» – подумал Неглинный и тотчас же поправился:
– Виноват… Два года будет плавать крейсер, а Скворцов, послан, кажется, на год… Да, именно на год! – решительно прибавил он, не желая выдавать друга, и снова залпом дернул стаканчик красного вина.
– Как ни жаль, а мы все-таки порадовались за Николая Алексеича… Молодому офицеру надо плавать…
– Обязательно… Необходимо даже…
«Эдакий болван… уйти от такой мадонны!» – добавил он мысленно…
– Сам-то он, кажется, неохотно пошел в плавание… Или ему хотелось? Как вы думаете. Василий Николаич?.
Застигнутый врасплох этим неожиданным вопросом адмиральши, Неглинный чуть было не брякнул, что «Колинька» очень был рад назначению, но вовремя спохватился, ужаснувшись при мысли, какую бы нанес рану в сердце «страдалицы», если б сказал правду… Она ведь так любит эту неблагодарную и легкомысленную скотину!
И он торопливо сказал:
– Совсем не хотел… Проклинал, что его назначили…
– Но почему его вдруг назначили?. Кто-нибудь просил за него? выспрашивала подозрительная адмиральша.
«Держи, брат Неглинный, ухо востро!» – подбадривал себя молодой человек и ответил:
– Кому же, собственно говоря, хлопотать за него, если он не хотел уходить… Скворцов говорил, что сам морской министр назначил…
Они еще долго разговаривали о Скворцове. Адмиральша хвалила его ум, доброту и почему-то особенно напирала на его неиспорченность и на его способность быть постоянным в привязанности.
– Вот хоть бы ваша дружба. Сколько лет она продолжается! – прибавила, точно утешая себя, адмиральша…
«Черта с два постоянен… Шабала какая-то всегда был и будет! А она, бедняжка, верит!»
И, несмотря на зарождавшуюся уже ревнивую неприязнь в душе Неглинного, он самоотверженно расхваливал своего друга и даже гораздо более, чем следовало.
Но зато адмиральша так ласково на него глядела и промолвила задушевным тоном, вставая из-за стола:
– Какая редкость такая дружба. Как вы его любите! Надеюсь, что и мы с вами будем приятелями! – прибавила она с дружеской простотой и протянула ему руку.
Неглинный снова бережно и почтительно дотронулся до маленькой ручки, не догадавшись поцеловать ее, и адмиральша как будто бы изумилась, бросив на молодого человека несколько удивленный взгляд.
– Ну, теперь пойдем гулять! Я сейчас приду.
Она через минуту вернулась в какой-то необыкновенной красивой, обшитой кружевами шляпе, в изящной жакетке, в желтых перчатках.
Они вышли за калитку сада и направились в рощу.
– Давайте-ка вашу руку, Василий Николаич. Неглинный неловко и застенчиво подал руку, счастливый, что адмиральша предложила ему быть ее приятелем (смел ли он ожидать такой чести!), и все время держал свою руку неподвижно в сторону и как-то напряженно, боясь каким-нибудь неловким движением коснуться адмиральша. Но скоро он почувствовал близость ее тела, аромат духов, с ужасом заметил, что рука его, во время поворотов лица адмиральши, касается ее груди, и замер от стыда, смущения и страха. Наконец, его положение сделалось настолько мучительным, ему было так совестно, и рука его так задеревенела, что он, наконец, прошептал умоляющим голосом, отнимая свою руку:
– Простите, я совсем не умею водить дам под руку. У меня рука… заболела, – прибавил он, краснея, как рак.
Адмиральша едва заметно усмехнулась и сказала:
– И видно, что вы совсем не дамский кавалер, Василий Николаич.
– Вы меня простите… Я… я, собственно говоря…
– К чему вы извиняетесь?. Я ведь так… шучу… Мне Николай Алексеич про вас рассказывал, как вы боитесь дам… Это правда?
– Правда…
– И хорошо делаете, – протянула Нина Марковна и задумалась.
Гуляли они недолго. Неглинный остался пить чай и засиделся до десяти часов. Он долго и много философствовал, желая занять адмиральшу, говорил о науке, о своих занятиях, о жизни вообще и неожиданно сорвался с места, взглянув на часы, и стал прощаться.
– Надеюсь, что не в последний раз вы навещаете отшельницу, Василий Николаич? Приезжайте и поскорей – поболтаем, как сегодня!.. Будете писать Николаю Алексеичу, кланяйтесь ему от меня… Спасибо вам, что навестили и развлекли в моем одиночестве! – говорила адмиральша, крепко пожимая Неглинному руку.
Неглинный только молча кланялся, окончательно «втюрившийся».
Возвратившись в свою крошечную комнату на Офицерской, он долго ходил из угла в угол в мечтательно-восторженном состоянии, с просветленным лицом и сияющими, точно устремленными внутрь глазами. Ночь он почти не спал и просидел у открытого окна. Душу его охватила какая-то безотчетная, тихая, приятно ласкающая нервы грусть, и образ маленькой, необыкновенно изящной адмиральши в светлом платье, с задумчивым печальным взором, с полуобнаженными красивыми руками и открытой, словно выточенной шеей, стоял перед ним в лучезарном свете, наполняя все существо молодого человека благоговейным восторгом.
XIX
После первого посещения Неглинным адмиральши, образ ее не выходил уже из головы молодого человека. Он думал об адмиральше по целым дням, грезил по ночам, пробовал даже писать стихи, но дальше второй строчки не дошел, и мечтал о том, как бы сделать адмиральшу веселой и счастливой, вознаградив ее за все пережитые ею страдания, причем, разумеется, с самоотверженным бескорыстием устранял свою особу из этих комбинаций счастия, предоставляя себе только радоваться со стороны вместе с Иваном Ивановичем, который должен же понять, что он лишний, и явить великодушие, отказавшись от своих прав в пользу другого.
Неглинного неудержимо тянуло туда, в Ораниенбаум, на эту милую дачку, утонувшую в саду, где одиноко и терпеливо страдала эта «святая» женщина; но, несмотря на ее приглашение навещать ее, он все-таки не решался ехать. Она, быть может, просто из любезности пригласила его, такого неинтересного для нее «застенчивого болвана», а он и обрадовался и явился, как какой-нибудь нахал. Нечего сказать, хорошее она составит о нем мнение.
Ему и хотелось скорей увидать свою «мадонну», услыхать ее мягкий и чарующий голос, и в то же время становилось жутко при мысли, что он вдруг так, ни с того ни с сего, явится и вдруг увидит ее вопросительный взгляд: чего, дескать, ты приехал?
Он крепился целую неделю и, наконец, не выдержал.
– Будь, что будет – еду! – решительно произнес он вслух и стал одеваться.
Одевался он сегодня с особенной тщательностью и без обычной своей рассеянности. Он тщетно старался пригладить непокорный рыжий вихор, повязал новый галстук и, окончив туалет, с грустной задумчивостью поглядел в зеркало на свое, как казалось ему, самое «безобразное» лицо на божьем свете.
– Эка, какой сапог! – обозвал он с невольным вздохом свою физиономию и, выйдя на улицу, взял извозчика и поехал на Балтийский вокзал.
С замиранием сердца, точно в чем-то виноватый и в то же время бесконечно счастливый подъехал он к даче и вместо двугривенного дал извозчику целый полтинник.
– Дома адмиральша? – робко спросил он вестового Егора, когда тот открыл двери после тихого нерешительного звонка.
– Дома, пожалуйте, ваше благородие! – весело и приветливо отвечал ему Егор, протягивая руки, чтобы снять пальто.
– Да, может быть, адмиральша занята? Я, братец, могу приехать в другой раз.
– Нисколько не заняты… Как следует, одемшись, ваше благородие.
– Или вообще не принимает… Так вы доложили бы прежде.
– Не извольте сумлеваться, ваше благородие. Очень даже принимают. Пожалуйте, ваше благородие! – с веселой ободряющей улыбкой, скаля свои белые зубы, говорил молодой чернявый матрос, взглядывая на робеющего лейтенанта не без некоторого недоумения.
И, снявши пальто, прибавил:
– Барыня на балконе… Извольте без опаски идти, ваше благородие. Вас завсегда велено принимать.
«Эка робок! Не то что лейтенант Скворцов. Тот, небось, молодчага; не робел с адмиральшей. Ну, да и этого начисто отполирует адмиральша-то!» – прошептал, усмехнувшись, молодой матрос, оставшись один.
Поздно вечером возвращался Неглинный с дачи и был бесконечно счастлив. Нина Марковна приняла его очень радушно и любезно попеняла, что он не был целую неделю. Какой чудный день провел он с этой умной женщиной, и как он был доволен, что, кажется, несколько развлек ее. По крайней мере она раза два-три улыбнулась и была оживленнее, чем в первое его посещение.
Совсем очарованный ласковым приемом и милым, настойчивым напоминанием «не забывать отшельницы» и приезжать, когда вздумается «поскучать с ней», Неглинный зачастил. Сперва он навещал адмиральшу два раза в неделю, а затем бывал почти ежедневно и даже отложил предполагаемую поездку в Смоленскую губ. к родным, чувствуя, что не в силах добровольно отказаться от счастья видеть адмиральшу.
По обычаю влюбленных, вначале он придумывал различные предлоги своих посещений. То он привозил обещанную книгу, то приезжал за книгой, то объяснял, что был у знакомых в Петергофе (хотя никаких знакомых у него там не было) и воспользовался близостью, чтобы позволить себе зайти на минутку – осведомиться о здоровье Нины Марковны и спросить, не будет ли у нее каких-нибудь поручений в Петербурге. Он с удовольствием исполнит их… Не зайти ли к портнихе… Не привезти ли новые книги?
Адмиральша с едва заметной улыбкой слушала эти порывистые, произносимые несколько взволнованным голосом, объяснения молодого человека и, делая вид, что им верит, ласково, тоном доброй знакомой, журила Василия Николаевича за то, что он словно оправдывается, что зашел к ней. Это нелюбезно с его стороны, и она может обидеться, что видит его, лишь благодаря каким-то петергофским знакомым. Ведь он знает, что она всегда рада видеть его, рада отвести душу в беседе с умным и развитым человеком.
– Нынче ведь это такая редкость между молодыми людьми… По большей части, они или пусты, или циничны и самонадеянны… А ведь вы не такой, Василий Николаич? – прибавляла любезно адмиральша с самой очаровательной улыбкой.
Сконфуженный и польщенный этим комплиментом, Неглинный порывисто благодарил, садился и вместо «минутки» оставался на долгие часы: читал вслух и после обеда гулял с адмиральшей по парку и приучился даже ходить с ней под руку, хотя, надо сказать правду, стеснялся по-прежнему и держал свою руку в напряженном положении. Нередко эта рука вздрагивала, словно от электрического тока, и когда адмиральша заботливо спрашивала: «не холодно ли ему?» – отвечал несколько растерянно, что напротив… Но у него невралгия, застарелая невралгия…
И Нина Марковна, хорошо понимавшая подобные «невралгии» у очень молодых влюбленных людей, гуляющих под руку с хорошенькими женщинами, участливо советовала ему лечиться, не запускать болезни, пока она еще вначале…
«Уже поздно!» – думал про себя молодой человек. Он, разумеется, вполне был уверен, что его восторженная любовь – тайна, о которой Нина Марковна никогда не узнает. Она, конечно, видит, что он предан ей и безгранично ее уважает, вот и все, но несомненно далека от мысли, чтобы он «осмелился» полюбить ее.
Но адмиральша была слишком опытная в любовных делах женщина, чтобы не увидать, и очень скоро, что этот «милый и смешной идеалист» влюблен в нее до безумия, верит каждому ее слову, тайно любуется ею и вернейший ее раб, готовый ради нее броситься хоть с колокольни. И сознание своего обаяния доставляло ей эгоистичное чувство удовольствия, льстило самолюбию и служило приятным развлечением в ее одиночестве и печали от разлуки с «Никой». Она, конечно, любит, страстно любит своего дорогого «Нику» и никого на него не променяет, но отчего же не пококетничать немножко с этим застенчивым рыцарем, отчего не вызвать его робкого признания и в ответ не сказать нескольких слов теплого участия, предложив ему дружбу сестры, и не поощрить его к невинному флирту? Пусть себе целует ее руки и исполняет поручения! И, наконец, интересно, как эта «красная девица» пропоет ей свою песню любви и покроет ее маленькую ручку поцелуями и оросит слезами… Таких застенчивых поклонников она еще не видала!.
И Нива Марковна с привычным искусством «обрабатывала» беднягу Неглинного, кокетничая пред ним своим положением непонятой, страдающей женщины, и полунамеками, заставляющими догадываться, что она – жертва, и умными разговорами и своим пикантным, необыкновенно подвижным, быстро меняющим выражения, лицом. Она вела длинные разговоры о чувстве любви и дружбы (она признает, что можно быть очень дружной с мужчиной, не думая о любви. Она знает такие примеры, хоть они, к сожалению, и редки). Она возмущалась положением женщины, терпеливо слушала философские рассуждения Неглинного о будущем царстве правды и добра на нашей грешной земле и о том, какую громадную роль будут играть женщины, спорила о романах Золя и Бурже, заставляла читать вслух, присаживаясь около с работой, вспоминала о Скворцове и на прощанье давала самые разнообразные поручения, начиная с покупки лент до привоза бочоночка голландских селедок от Елисеева, и «кстати уж, если Василия Николаича не затруднит, пусть он потрудится привезти картонку с платьем от портнихи», прибавляла нередко адмиральша с обыкновенной своей обворожительной улыбкой и вручала Неглинному деньги. Нечего и говорить, что он с восторгом принимал поручения, готовый возить для адмиральши хоть сотню картонок, а не то что одну.
Она, впрочем, сама была в этом уверена и ценила в молодом человеке такую, редкую в наши времена, трогательную преданность и, главное, совершенно бескорыстную. Он даже, к удивлению адмиральши, ни разу, хоть бы в награду за селедки и картонки, не просил позволения поцеловать эту маленькую, благоухающую ручку и только украдкой, когда адмиральша, казалось ему, не замечала, взглядывал на нее жадным, загоревшимся взором. И ей нравилось перехватывать эти восторженно-смущенные взгляды, останавливающиеся на ее лице, шее, руках, и видеть, как он («глупый», – усмехалась про себя адмиральша) краснел весь при этом, опуская глаза, и робко притихал, как притихают виноватые дети, наивно воображая, что маленькая адмиральша, не смущавшаяся на своем веку ни «мирными», ни «страстными» поцелуями, может возмутиться его восторженным созерцанием, которое он считал «святотатством». И он радостно светлел, когда снова слышал ласковый и приветливый голос адмиральши и видел ее улыбающиеся глаза, в которых не было и тени неудовольствия. Напротив, они словно ласкали и, казалось, ровно ни о чем эти черные, большие, прелестные не догадывались глаза.
Эта робкая и восторженная молодая любовь, тайна которой невольно выдавалась всем существом молодого человека, приятно щекотала нервы адмиральши, умаляла горечь разлуки и вообще скрашивала дачную жизнь. Ей любопытно и весело было следить за быстрым развитием этого чувства и ждать той минуты, когда оно, наконец, выльется в горячем признании. Как ни застенчив Неглинный, но не будет же он вечно только краснеть и щурить свои глаза!
И адмиральша с тонким мастерством опытной кокетки, делая вид, что не догадывается об его любви, поощряла Неглинного к признанию. Ей доставляло какое-то жестокое удовольствие чувственной женщины дразнить целомудренно-страстную натуру влюбленного и будить его инстинкты, наблюдая, как он то краснеет, то бледнеет, смущенно и сердито хмурится от слишком близкого ее соседства. Адмиральша, конечно, и не догадывалась, что после таких минут Неглинный, полный раскаяния, считал себя величайшим негодяем, оскверняющим нечистыми помыслами и свою любовь, и эту святую женщину.
«Если бы она знала, какие преступные желания охватывают его по временам! Как бы ему хотелось прильнуть к этой маленькой ручке и целовать ее без конца! Если б она знала, какие сны снятся о ней!? По счастью, она слишком чиста, чтобы догадываться об этом… Но ведь она может заметить его „скверные“ взгляды „циника“ и тогда, оскорбленная и негодующая, лишит его своей дружбы и не пустит более на порог дома. Что может быть ужаснее, и какое несчастье сильнее этого?»
Так, расстроенный и смятенный, бичуя себя за «подлость» и «нахальство», нередко думал Неглинный, гораздо более сведущий в астрономии и высшей математике, чем в психологии женщин, подобных адмиральше. Полный решимости не допускать более подобного унижения человека, не профанировать своего чувства, он давал себе слово, твердо, как и подобает философу-стоику, выдерживать всякие испытания, тая свою любовь и не давая торжествовать «зверю», сидящему в нем.
А испытания – и довольно-таки тяжелые для двадцатипятилетнего влюбленного аскета, почти не знавшего женщин – бывали на его тернистом пути и все чаще и чаще с тех пор, как между адмиральшей и молодым лейтенантом установилась прочная дружба; он стал в доме своим человеком и с восторгом возил и бочонки с сельдями, и картонки с платьями и кофтами, бегая по нескольку раз в день к портнихе с усердием поистине изумительным.
Объявление дружбы последовало в один из теплых июльских вечеров, на садовой скамейке, под липой и рябиной, после нескольких секунд задумчивого молчания, наступившего вслед за маленьким монологом адмиральши о том, как приятно иметь преданного, верного друга, на которого можно положиться…
Так как Неглинный лишь меланхолически водил сапогом по песку, не решаясь, по скромности и застенчивости, заявить, что он вернее собаки и преданнее самого верноподданного негра, то адмиральша, после небольшой паузы, с чувством проговорила, понижая, вероятно для большей убедительности, свой мягкий и нежный голос почти до шепота:
– И я имею претензию считать вас таким другом, Василий Николаич!
В первую секунду Неглинный онемел от восторга. А Нина Марковна между тем продолжала:
– Ведь мы друзья, не правда ли? И наша дружба ничем не омрачится?
И с этими словами адмиральша протянула руку, почти уверенная, что даже и такой «влюбленный олух», как Неглинный, выразит, по такому торжественному случаю, свою благодарность по крайней мере тем, что покроет ее руку, а то и обе, долгими почтительными поцелуями, тем более, что в саду стояла темнота, вечер был такой теплый, и звезды так приветливо мигали сверху.
Но ожидания адмиральши не сбылись.
Вместо того, чтобы поцеловать ручку, он как-то неловко и осторожно ее потряс и, тотчас же опустив ее, прерывающимся голосом, в котором дрожали слезы, с глубоким чувством произнес:
– О, поверьте… я… я… Именно дружба… И вы знаете… конечно, знаете, как бесконечно я вас уважаю… Нет слов…
И, подавленный великостью своего счастья, замолк, не окончив речи.
Адмиральша давно уже «верила» и «знала», но признаться, никак не ожидала, что он такой уж застенчивый «дурак», совсем не умеющий благодарить, как следует, за дружбу хорошенькой женщины. И она невольно вспомнила, как многие мичмана, при подобных же случаях, изъявляя свою благодарность и уверяя в вечной дружбе, целовали всегда ее руки с такой горячностью и так долго, что даже ей приходилось умерять их восторги…
«А этот… совсем осел!» – подумала она не без досады обманутого ожидания и насмешливо взглянула на своего поклонника, который, казалось, совсем замер на своем месте, бесконечно счастливый и радостный.
С этого вечера окончательно установились дружеские отношения, и Неглинный являлся почти каждый день. Адмиральша держала себя с очаровательной простотой и чисто дружеской интимностью. Случалось, что она, на правах друга, выходила к молодому человеку в капоте, изящном, отделанном кружевами, белоснежном капоте, плотно облегавшем роскошный бюст, в маленьком кружевном чепце, из-под которого выбивались колечки черных волос, с открытой шеей и обнаженными из-под широких рукавов, полными красивыми руками в браслетах и кольцах.
Этот костюм шел к ней и моложавил ее.
Свежая, цветущая и благоухающая, выходила она на террасу, здоровалась с ошалевающим от восхищения молодым человеком, крепко пожимая ему руку, извинялась, что с ним без церемоний, по-домашнему («сегодня так жарко!»), благодарила за привезенные покупки и, завтракая с Неглинным, расспрашивала, что нового в газетах, был ли он у портнихи, и сообщала, что получила письмо от Ванечки и что Ванечка шлет ему поклон. После завтрака адмиральша уводила его в тот самый маленький, прохладный кабинет, в котором она хотела отравиться валерьяном, и просила Неглинного читать ей вслух, указывая ему место на маленьком диване, около которого стоял столик, и сама опускалась в кресло неподалеку.
Надо сказать правду: этот костюм приводил беднягу Неглинного в некоторое смущение. Но, памятуя, что он порядочный человек, а не «презренное животное», Неглинный добросовестно отводил глаза, стараясь не смотреть на эту ослепительную, маленькую изящную женщину или по крайней мере смотреть только прямо в лицо… И еще славу богу, что она приказывала читать. По крайней мере ему легче было переносить свое испытание.
И он читал, читал усердно, но не особенно хорошо. Голос его дрожал, звуча глухими нотами. Он почти не понимал, что читал, словно одурманенный красотой этой женщины, чувствуя ее близость и вдыхая тонкий аромат ее любимых Violettes de Parme.
– Вы, голубчик, сегодня что-то тихо читаете.
И адмиральша пересаживалась на диван, рядом с чтецом. Он ощущал теплоту ее ноги и, в ужасе и смущении, осторожно отодвигал ногу, отодвигался сам подальше от этого белого капота, но чтение от того не выигрывало. Он торопился, волновался, глотал слова, пропуская целые строки. Кровь стучала ему в виски, и по спине пробегали мурашки. Ему было и жутко, и стыдно, словно он виноват был в чем-то нехорошем и нечистом. Одним словом, это было не чтение, а какая-то бесконечная пытка. И он должен был мужественно скрывать ее, чтобы не оскорбить этой благородной, доверчивой женщины. Украдкой взглянув на нее, он видел, с каким серьезным и сосредоточенным видом она слушает, быстро перебирая вязальной иглой какое-то рукоделье.
«О, чистое создание! Какая я скотина перед тобой!» – проносилось в голове у Неглинного.
– Не довольно ли читать? Вы, кажется, устали, Василий Николаич!
– Нет… отчего же… как угодно.
– Вижу – устали…
Адмиральша бросала вязанье и, подвинувшись к гостю совсем близко, закрывала книгу, оставляя на ней, перед самым носом Неглинного, свою, слегка обнаженную, руку и постукивая по переплету тонкими, розовыми пальцами.
Неглинный только щурил свои голубые глаза, морщил лоб и неистово закручивал в сосиску рыжий вихор, имея растерянный вид человека, решительно не знающего, куда ему деться и что предпринять.
– Да что с вами сегодня, Василий Николаич? Вы и читали не так прелестно, как всегда, и вообще какой-то рассеянный… точно вам не по себе…
– О, нет… я… ничего… Жарко только, – отвечал, еще более краснея, молодой человек.
И внезапно, с решимостью отчаяния, поднимался с дивана и объявлял, что ему необходимо ехать в город.
– В город? Зачем?
– Дело есть, – врал молодой человек, думавший найти спасение в немедленном бегстве.
– Какие летом дела?. Не сочиняйте, пожалуйста… Уж не влюбились ли вы и не потеряли ли в городе сердца?. То-то сегодня вы такой странный… Признавайтесь и расскажите мне, как другу, всю правду… Блондинка или брюнетка?.
Неглинный застенчиво пролепетал, что он ни в кого не влюблен.
– Это правда?. – допрашивала, улыбаясь, адмиральша. – Так-таки и ни в кого?.
– Ни в кого! – храбро отвечал Неглинный, чувствуя, что кровь заливает щеки.
– Ну, так вам нечего ехать в город… Дела завтра можете сделать… Оставайтесь!
Разумеется, Неглинный малодушно соглашался, однако на диван более не садился, а забирался куда-нибудь подальше.
– Я сегодня заказала к обеду ваши любимые битки в сметане, а вы вздумали было убегать… Видите, как я внимательна к своим друзьям… Благодарите и целуйте руку!.
Неглинный порывисто бросился с места и благоговейно, словно прикладываясь к образу, едва прикоснулся губами к протянутой руке и вернулся на свое место, не заметив, конечно, недовольной гримаски адмиральши.
Однако, в этот день он уехал тотчас же после обеда, несмотря на приглашение почитать вслух… Это было сверх его сил.
Немало было в течение лета подобных тяжких испытаний, но Неглинный – надо отдать ему справедливость – всегда оставался на высоте своего положения «влюбленной фефелы».
Наступили осенние дни. Нервы адмиральши начинали пошаливать; на нее напала хандра; письма от «Ники» принимали все более и более описательный характер и становились менее регулярными. И Неглинный совсем не оправдал ее ожиданий. Несомненно влюбленный и бывая почти ежедневно в течение двух с половиной месяцев на даче и, большею частью, наедине с адмиральшей (толстушку-кузину свою Нина Марковна так и не позвала погостить), он, несмотря на травлю его адмиральшей, не только не сделал трогательного признания со слезами и робкими поцелуями, но даже, болван, ни разу не решался сам поцеловать ее ручку, хотя это счастье, и пожалуй большое, было всегда так «близко и возможно», не будь он таким простофилей. Он, словно черт ладана, боялся тех положений, которые для других были бы счастьем, и решительно не понимал, что легкий флирт доставил бы несчастной «страдалице» большее развлечение, чем его трогательная и робкая любовь и его философские рассуждения о будущем царстве правды и добра. Хорошенькая женщина и с таким мужем, как Иван Иванович, ищет сочувствия и утешения, предлагает дружбу сестры, а он, идиот, толкует о том, что будет в неизвестном столетии!
Подобное бескорыстное поклонение, как оно ни было трогательно, несколько удивляло и очень раздражало хорошенькую адмиральшу, чары которой вдруг оказались бессильными перед этим мальчишкой.








