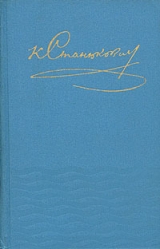
Текст книги "Том 8. Похождения одного матроса"
Автор книги: Константин Станюкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 27 страниц)
– После какого?
– А ошибкой дитю пристрелил. Целил, значит, в фургон, в человека, и рука, что ли, дрогнула, но только дитю убил. И, как увидал он этого убитого дитю, бросил это самое дело… и скрылся из этих мест… И только через несколько лет поступил в дилижанщики… И стал первым дилижанщиком… И пассажиров бережет и этих самых агентов изничтожает… Ненавидеть их стал… И те его не любят… Однако редко на его дилижанс нападают… Знают, что он стрелок отличный и винтовка у него, брат, на редкость.
Правда ли это была, или же кем-либо сочиненная сказка, обратившаяся потом в легенду, трудно было сказать, но что в те времена на большой дороге между Денвером и Сан-Франциско о Старом Билле ходила такая молва, в этом Чайкину пришлось убедиться и потом.
К восьми часам фургон поднялся на перевал. Оттуда дорога спускалась в равнину.
– Ну, садитесь, джентльмены… Теперь поедем рысью… И ружья можно положить… А на случай чего револьверы в кармане… Не так ли, Дун?
– Правильно, Билль. И нож вдобавок за кушаком! – прибавил Дунаев, указывая на пояс.
– Вы, я знаю, бывалый… А все-таки сдурили.
– Знаю, знаю… Извините, Билль…
– Теперь этим молодцам вы задали заботы! – сердито сказал Старый Билль.
Он остановил мулов, и все сели в фургон.
Канзасцы хотели было дать место Дунаеву, но он, к их удивлению, сел рядом с Чайкиным, лицом к двум молодым канзасцам.
– Вам, Дун, неудобно… Садитесь к нам. Место есть! – предложил один из них.
– Мне и здесь хорошо… благодарю вас! – ответил Дунаев.
Канзасцы опять переглянулись, и Чайкин заметил это.
Глава XVI1
Между тем фургон спустился с горы и поехал по красивой зеленой равнине, полной цветов. Дорога была отличная, и в фургоне почти не трясло.
– Ну, земляк, теперь можно и про твое житье-бытье продолжать. Очень ты любопытно все обсказываешь про Америку! – проговорил Чайкин.
– Да, братец ты мой, вольная сторона… И всякого народу здесь есть. Со всяких стран сюда приезжают – счастия искать. А главное – нет прижимки. И коли ты себя соблюдаешь, тебе все дороги открыты, даром что ты из простого звания… Да здесь звания не разбирают… Сегодня ты, скажем, дрова пилишь, а завтра тебя выберут в сенаторы, и никто не удивится… Наш один российский тоже на большую должность попал… после пяти лет, когда настоящим американцем стал, с правами, значит.
– И ты американец?
– Форменный… Хоть в губернаторы могу! – добродушно рассмеялся Дунаев. – Я ведь уже седьмой год как здесь… И если правду тебе говорить, так еду во Франциски жениться.
– На американке?
– На американке… Обученная! В школе была. Здесь, братец ты мой, все должны обучаться… Хочешь не хочешь, а учись!.. Свадьбу справлю и открою мясную… Надоело скот гонять… Ты на свадьбу-то ко мне приходи. Ужо я тебе и адрес дам…
– Приду беспременно… А ты, Дунаев, сказывай про свою жисть-то здесь…
– Да на чем я тогда остановился?
– А как ты Мошкиным компаньоном был и как он тебя вызволил… А по какой причине, ты и не объяснил…
– По какой причине?.. А из-за пьянства. Я, братец ты мой, на конверте первый пьяница был! Запоем пил до последних сил. И чуть бы я не пропал, кабы не добрые люди… Ну, так слушай, Чайкин, как все это вышло. Я расскажу тебе, как я в самом начале закурил в этой Америке. Думал, порки за поркой не будет… валяй вовсю… И вальнул…
Дунаев на минутку примолк, откашлялся и продолжал:
– Месяц это либо полтора этак жил я по-хорошему. Работал на пристани, и босс меня первым рабочим считал, и у чехов в полном, можно сказать, удовольствии находился. Добрые люди были: и чех и жена его, чешка. Он столяр был, а она шитьем занималась. Ладно. Жил я таким манером и вовсе напитками не занимался. Потому в будни некогда: придешь домой, пообедал, да и спать. А по воскресеньям, когда, значит, шабаш, я около чехов остаюсь. Они непьющие, и мне нежелательно. Так только за обедом пивка кружки две выпью с чехом, – вот и всего…
Дунаев остановился… Он увидал карты в руках у одного из канзасцев и вдруг обратился к вчерашнему партнеру:
– А хотите сыграть? Мне хочется рискнуть на одну карту.
– С большим удовольствием. На одну так на одну Какая будет ставка?
– Двести долларов.
– Ставьте карту.
– Нет, ставьте вы, а метать буду я…
– Зачем же вы? Вчера метал я.
– А сегодня хочу я! – настаивал Дунаев.
Билль обернулся и сказал:
– Так-то оно правильнее будет… Вы сообразительны, Дун…
– Я не люблю понтировать… и никогда не понтирую! – сказал канзасец.
– Так, значит, не хотите?..
– Метать могу, а понтировать нет…
– Ну, ладно, мечите. Позвольте-ка колоду!
Дунаев внимательно пересмотрел карты.
– Ставьте деньги! – сказал он.
Игрок бросил двести долларов. Вынул и положил на пустой ящик такую же сумму и Дунаев.
– Готово? – спросил он.
– Готово.
– Так позволите снять?
– Извольте.
– Опять на даму, что ли, поставить? – воскликнул Дунаев.
И, вынув из колоды пятерку, положил на нее двести долларов.
– Угодно открыть карту? – спросил банкомет.
– Нет, зачем же. Мечите втемную. Хочу попробовать счастия на темноту…
– Будь по-вашему…
Билль про себя выругал русского простофилю, который заранее объявил карту, и обернулся, чтобы посмотреть на игру.
Молодец со шрамом стал метать… Через несколько карт направо упала дама, налево – пятерка.
– Ну, Дун, вы несчастливы. Ваша дама бита! – проговорил банкомет.
– Напротив, мне повезло. Пятерка дана!
И с этими словами Дунаев перевернул свою карту. Увидевши пятерку, канзасец понял, что опростоволосился, поверив восклицанию Дунаева, и проговорил:
– Вы сегодня счастливы, Дун!
– Ну, Дун, втемную, видно, вам более везет! – проговорил Билль и засмеялся, подмигнув ему глазом: дескать, ты не такой простофиля, как я полагал!
А Чайкин, ничего не понявший, заметил по-русски:
– Брось! Не играй больше!
Между тем Дунаев опустил четыреста долларов в карман и, улыбаясь своими серыми глазами, проговорил простодушным тоном:
– Сквитались, и будет. Не хочу больше обыгрывать вас.
Канзасец убрал карты и заметил смеясь:
– И я не желаю обчищать вас, Дун…
– Так-то оно и лучше! – внушительно промолвил Билль и погнал мулов.
– Ну, теперь можно и рассказывать, Чайкин… Двести долларов я вернул. А ловкий шулер. Его и не поймать. А то свернул бы ему на сторону хайло! – сказал Дунаев не без простодушия в голосе. – Да еще, пожалуй, придется… Подозрительный народ…
И, закуривши трубку, продолжал прерванный рассказ.
2
– Так жил, говорю я, братец ты мой, по-хорошему, как в одно воскресенье вышел я погулять. Побродил по улицам и спустился к пристани… А там, знаешь, салунов видимо-невидимо. Зашел я в один салун и выпил, сперва один, потом другой, третий стаканчик, а там все больше да больше… И так, милый человек, пьянствовал я недели две, в запой, значит, вошел. Все деньги пропил, платье пропил, ночевал в ночлежных домах и был вроде последнего скота… И когда несколько пришел в себя, пошел на работу к своему старому боссу. Увидал он меня, значит, оборванного, пьяного, в одних штанах, и сердито покачал головой: нет, мол, такому пьянице работы. И прогнал… Ходил я по разным местам просить работы – везде гнали вон… И в ту пору голодал я… Корки по ночам на улицах собирал… До точки до самой дошел… Вот тут Мошка, дай бог ему здоровья, и вызволил меня… Проходил я по одной глухой улице в самой полной отчаянности, можно сказать, как слышу, меня кто-то окликает. Смотрю, Мошка с лотком. Я к нему и первым делом: «Хлеба, говорю, дай»… Он мигом сбегал в съестную и принес хлеба и кусок мяса… И смотрит на меня, удивляется, в каком я виде и как я вроде будто голодного пса набросился на пищу. И как наелся я, так он и говорит: «Я вас на квартире искал, на пристани искал, – все хотел вашу долю отдать, но нигде вас сыскать не мог. Пойдемте, говорит, ко мне». Пошли. Жил он в каморке, однако хоть и жид, а чисто. Приютил меня и первым делом принес костюм и все как следует; одним словом, в человеческий вид привел, и вечером, когда вернулся с улицы со своим лотком, сейчас мне счет подает: «На вашу, мол, долю причитается барыша пять долларов, а издержано, мол, на вас десять долларов – пять, говорит, из запасного капитала. А завтра идите на работу. В таком виде вас примут. А чехи о вас беспокоились. Тоже искали. И живет у них теперь заместо вас один тоже русский, из беглых. А бежал он оттого, что свою веру хотел исполнять, а ему не позволили. Очень, говорит, хороший человек и тоже о вас спрашивал. А работает он у того босса, где и вы работали… А наши, говорит, дела идут хорошо. И товар хороший держу и кредит имею. И не забываю, что вы мне помогли тогда, и никогда не забуду!» – говорит. И так тронул меня за душу этот Мошка, что и не объяснить. Прямо-таки спас… Отдал он мне свою койку, а сам лег на пол спать… А в пять часов утра побудил, напоил кофеем, и мы вместе вышли… Прихожу к боссу на пристань…
– Что же, взял он тебя?
– То-то, не хотел брать сперва. Он страсть не любил пьяных и сам не пил. Зарок положил никогда не пить. И вызвал он этого самого русского, что жил у чехов. И велел ему объяснить, что он такого пьяницу принять не может «Пусть, говорит, даст слово, что не будет пьянствовать, – тогда, говорит, приму». Перевел это мне все русский и спрашивает: «Даешь зарок?» – «Не могу, говорю, дать зарока, а постараюсь». Ладно. Доложил он мой ответ боссу. Тот усмехнулся в бороду и велел мне идти на работу… Ну и старался же я… Ах, как старался… Как к вечеру окончил работу и мне выдали два доллара, этот самый русский – из раскольников он был – позвал к себе ночевать… Чехи обрадовались, накормили. И остался я у них опять жить вместе с Игнатием, этим самым раскольником. И скоро сдружились мы… Очень строгого поведения был человек, а добер… Все меня больше добрым словом наставлял, чтобы я не пьянствовал… А месяца так через два сманил он меня ехать в работники на ферму… «Там, говорит, у земли, лучше, чем в городе. И воздух легкий. А жалованье дают хорошее…» Ну, мы и поехали, и перед отъездом я ушел из компаньонов Мошки. А он за это выдал мне двадцать пять долларов. Шибко он торговал и о лавочке начал думать. И славное житье было на ферме, куда лучше, чем таскать ящики на спине… Благодать одна. Хозяин попался рассудливый и толковый. Очень доволен был работой. Мы вдвоем всю работу справляли, а ферма была большая. Завтракали и обедали мы вместе. Хозяйка приветная была… И так, братец ты мой, прожили мы с Игнатием два года… И было скоплено у нас у каждого по двести долларов… И я водки не пил вовсе: не достать было на ферме, да и не тянуло… Стыдно хозяев и Игнатия…
– А скоро ты языку обучился?
– Через год говорил по малости, а понимать, почитай, все понимал… И, верно, жили бы мы и дольше, но только тут случай вышел… Игнатий женился и ушел свою ферму строить… А участки тогда дешево продавались… А женился Игнатий на одной переселенке… И чудно это вышло, я тебе скажу. Остановилась недалеко от фермы партия переселенцев… на Соляное озеро шли, где мормоны живут… Так бесстыжая секта на Соляном озере обзывается. Там они и живут… Видел небось город ихний?
– Видел. Хорош город.
– А прежде тут пустыня была. Эти самые мормоны выстроили… Народ трудящийся, да только неправильный…
– Чем?
– Многожены, вроде бытто турок… Ну, так пошли мы под вечер к этим самым переселенцам, что пристали на ночевку… Всякого народа там много – бедноты больше – и мужчин и женщин… Посмотрели мы это, как они, усталые, варят себе пищу, послушали, как они молитвы распевают, и пошли домой на ферму, как видим: у перелеска сидит одна переселенка и горько-горько плачет. Ну, подошли. Видим, молодая и бледная девушка, с лица чистая и пригожая… И спросил ее Игнатий: «Чего, говорит, вы в сокрушении находитесь?» Она и обсказала, что смутили ее из Лондона обманом и что теперь только она узнала, куда она идет… А ей идти к мормонам не хочется… И как ей быть, не знает! «А вы не идите!» – это ей Игнатий. «А как не идти? Куда я денусь? И меня не пустят!» – говорит. На это ей Игнатий и объяснил, что мы живем на ферме и можем ее там укрыть до времени. И работа там найдется. А на ферме, мол, хозяева хорошие люди… «От беззаконной жизни вас спасут… Потому, говорит, мормонская жизнь беззаконная!» И так он это убедительно ей обсказал, что она доверилась и обрадовалась. И говорит: «Ежели спасти в самом деле меня хотите… приходите к этому самому месту, но ночью, когда в нашем лагере спать будут, и укройте меня где-нибудь, пока они не уйдут дальше». На том и порешили и, вернувшись на ферму, рассказали хозяину. Он согласился, а хозяйка даже очень хвалила Игнатия, что пожалел девушку, и обещала взять ее к себе в помощницы… «Только, говорит, не попадитесь переселенцам… А то вам плохо будет. Убьют!» Как настала ночь, пошли мы к тому самому месту, у перелеска. А ночь была темная. Боялись, что не найти переселенку. А голос подать громко опасно. У лагеря мормонского часовые ходят и, слышим, молитвы свои распевают… Однако нашли ее. Сидит на пеньке и дрожит в одном платье, – а ночь была свежая. Ну, мы увели ее и спрятали в стог сена. Небось не отыщут, если б и хватились.
– А хватились? – спросил Чайкин.
– Хватились. Только что рассвело, как на ферму при ехали пять человек верхом и с револьверами и стали спрашивать: «Не здесь ли переселенка?.. Не заплутала ли, мол, она?..» Хозяин ответил, что никакой переселенки не знает и не видал. Тогда они слезли с лошадей и попросили позволения осмотреть дом… Обшарили всю ферму, звали переселенку и так и уехали… Однако извинились… Только к утру, когда переселенцы уже давно уехали, вышла переселенка из стога… И плачет и смеется… И хозяйку целует… Ну, на другой день определили ее к месту, по птичьей части, и очень была довольна эта самая Эмма. Из ирландок она была. А вскорости после этого Игнатий поехал с ней в Сакраменто венчаться, а с месяц спустя и задумал сам строиться… Звал и меня…
– А что ж ты?
– А я задумал по другой части… в возчики… Тоже, братец ты мой, случай вышел. Встретил я как-то артель возчиков, что возвращались в Канзас, – они гоняли оттуда скот, – и вдруг услыхал, что по-русски говорят… И так обрадовался, что и не сказать. Всю ночь просидел с двумя земляками. Они и уговорили меня идти с ними… И так это мне вдруг захотелось быть со своими, что я утром явился к хозяину и рассказал, что так, мол, и так. Очень пожалел, что ухожу, однако понял мое желание. Вот с тех пор я и стал возчиком… Наработал денег, а теперь вот хочу мясником быть! – заключил свой рассказ Дунаев.
– Оказывается, здесь жить можно! – заметил Чайкин.
– То-то, говорю, очень даже можно. И российские наши, что скот гоняют, даже большим пользуются доверием. Им без всякой расписки большие деньги поручают. Небось наши себя здесь не подгадили… Это разве по городам, которые русские из господ от долгов сюда бежали или от каких-либо уголовных дел, – тем плохо… Потому форсу много, а работать не умеют. Привыкли все на готовом да на звании своем. А здесь – шалишь! на форс не обращают внимания, а главное – каков ты работник и чего стоишь!..
– А есть здесь такие?
– Есть. И во Францисках есть, и одного такого беспардонного в Канзасе видал. В отрепьях ходит, даром что барин и всяким наукам обучался. И ничего не умеет делать, ни к чему не приспособится… И места ему давали – не годится… Потому лодырь… Так мы этого самого барина тоже хотели приспособить… И вышел только один смех с ним.
– А как же вы хотели приспособить?
– А счеты наши записать все, чтобы представить хозяину и объяснить, на что израсходовано… В те поры я еще писать не умел, и никто из наших не умел по-аглицки.
– Ну, и что же?
– А то же. Взял это он от нас три доллара, да ничего и не сделал… Насилу счета вернули… А барин был важнеющий… Сам в отрепьях, а нас сиволапыми в пьяном виде называет… «У меня, говорил, у самого тысяча душ крепостных было… Я, говорит, в каретах ездил, а не то чтобы вам, мужикам, служить да счеты писать». Ну мы смеемся, бывало: форси, мол, да нет-нет и накормим… Однако, братец ты мой, и есть захотелось.
– И мне хочется.
– Давай-ка у Билля спросим, скоро ли станция.
Дунаев спросил у Старого Билля.
Тот лаконически ответил:
– Через полчаса. На станции обедать будем!
Нельзя сказать, чтобы наши земляки ехали очень удобно, сидя в передней части фургона. По временам и встряхивало порядочно, и солнце нестерпимо жарило им спины. Но они терпеливо переносили эти невзгоды, слушаясь совета Старого Билля, и, по обычаю простых русских людей, умеющих терпеть, еще шутили и смеялись и, несмотря на долгую и скверную дорогу, чувствовали себя бодрыми.
Под вечер они обыкновенно, выходили из фургона и шли пешком, а на ночных остановках всегда спали у костра, дежуря по очереди, чтобы дать и Биллю возможность поспать. И держали они при себе ружья и револьверы главным образом потому, что Старый Билль боялся предательского нападения двух канзасцев.
Они уж более не заговаривали ни с Биллем, ни с русскими и держались особняком.
Только раз как-то, на ночной стоянке, один из молодцов насмешливо спросил:
– Кого это, джентльмены, все сторожите по ночам?
– Мало ли здесь мерзавцев бродит! – отрезал Билль.
– Однако никто из мерзавцев не нападал?
– Сунься только! – промолвил Дунаев.
– А что?
– А то, что я очень хорошо стреляю…
– Очень приятно слышать. Нам зато спокойно спится, зная, что нас сторожат. Спокойной ночи, джентльмены!
В ту же ночь, когда дежурил Билль, он заметил, что из фургона вылез один из молодцов, и тотчас же приготовил револьвер…
Но «молодец», постояв минуту, полез в фургон.
– Бдительны! – шепнул он товарищу.
– То-то и есть. Надо подождать еще несколько дней. За Виргинией мы их всех уложим! – проговорил канзасец со шрамом. – А пока и не пытайся. Они не так глупы, эти русские, как ты полагаешь. Тогда с дамой этот барбос ловко меня провел, очень ловко. И вообще надо быть с ними осторожными.
– А что?
– Билль шутить не любит… Знаешь, как он одному пассажиру-агенту всадил пулю в лоб.
– Слышал.
– Как бы и нам не всадил.
– За что?
– Разве ты не видишь, что он догадывается, кто мы…
– Вижу… Но догадка – не уверенность…
– Убеди-ка в том Билля! – со смехом отвечал более осторожный агент.
– А как ты думаешь, у этого белобрысого глупого русского есть деньги?
– Есть.
– Сколько?
– Пятьсот долларов есть.
– Откуда ты знаешь?
– А он сам хвастал на пароходе. Я тогда там с наклеенной бородой был.
– Значит, у Дуна три тысячи да у этого пятьсот. Итого три тысячи пятьсот. Ну, у Билля с собой ничего нет. Он не возит денег… Зато его пробитый череп порадует агентов… Чего, дурак, не идет в компанию?
Разговаривая в фургоне очень тихо, они не догадывались, конечно, что Старый Билль в эту минуту стоял рядом с фургоном и слышал все от слова до слова.
Убедившись окончательно в том, что он везет двух агентов, Билль на следующее утро не подал им никакого вида, что знает, кто они, – напротив, он даже стал любезнее и несколько раз заговаривал с ними…
Прошло еще семь дней томительной дороги, и, наконец, одним жарким утром фургон въехал во двор гостиницы маленького городка Виргинии.
Глава XVIIСтарый Билль объявил, что дилижанс уедет через три часа и потому джентльмены имеют время взять ванну и основательно позавтракать.
Обрадованные остановкой, Дунаев и Чайкин вошли немедленно в гостиницу и, заказавши завтрак, отправились брать ванну, чтобы основательно отмыться от грязи и переменить белье. После долгого переезда по жаре и в пыли они представляли собой довольно грязных джентльменов, и ванна была для них необходима.
– Эх, Чайкин, теперь бы в бане попариться. Разлюбезное было бы дело! – заметил Дунаев, когда бой повел их туда, где были ванны.
– Чего лучше! – ответил Чайкин и, вздохнувши, прибавил: – Теперь никогда не увидим, брат, русских бань. Одни ванны. А в них не то мытье!
Канзасцы, вместо того чтобы сделать то же, что сделали русские, торопливо ушли в город, даже не умывшись.
– Не теряют, черти, времени! – проворчал Старый Билль и вслед за ними вышел из гостиницы.
Он отправился в телеграфную контору. Знакомый телеграфист радостно встретил Билля и спросил:
– Куда шлете телеграмму? Что-нибудь случилось?
– Я никуда не шлю телеграммы. И пока ничего не случилось, а может случиться… Я за справкой. Были у вас сейчас два молодца?
И Билль не без художественного таланта описал их наружность и в заключение назвал кандидатами на виселицу.
– Вы вправе, конечно, не отвечать, но дело идет о безопасности почты и двух других пассажиров, не считая меня.
– Только что вышли! – отвечал телеграфист.
– Я имею основание думать, что эти мои пассажиры просто-таки агенты большой дороги.
– Сдается на то, Билль. Рожи отчаянные.
– Давали они телеграмму?
– Я знаю, Билль, что без особенной надобности вы не станете испытывать мою телеграфную совесть.
– Надеюсь.
– И потому я вам отвечу, что один молодец сейчас сдал телеграмму.
– Передана она?
– Нет. Только что хотел передавать.
– Так не передавайте ее!
Телеграфист на секунду опешил.
– Не передавайте телеграммы, прошу вас!
И Старый Билль передал про разговор канзасцев, слышанный им ночью у фургона.
– Он, наверное, телеграфировал в Сакраменто?
– Положим, что так.
– И звал несколько друзей к Скалистому ручью?
– Не несколько, а прямо шесть!
– Видите! Значит, я имею право просить вас не исполнять своей обязанности.
– Так-то так! Конечно, я не поступлю против совести, если не отправлю этой предательской телеграммы, Билль, призывающей к убийству. Ведь я знаю, Билль, вы будете защищаться и не позволите шести разбойникам…
– Восьми, телеграфист! – перебил Старый Билль. – Вы забыли еще двоих – моих пассажиров.
– Тем хуже… Но вы, говорю, не позволите даже и восьми негодяям взять вас, как цыпленка.
– Конечно, не позволю, тем более что у меня будет еще двое помощников – русских. Но трое против восьми – игра неравна.
– Ввиду этого, повторяю, совесть моя будет спокойна. Не буду я виноват и против государства, если исполню вашу просьбу, Билль, и не отправлю телеграммы. Правильно ли я рассуждаю?
– Вполне. Можете сослаться на мое заявление. Могу дать и письменно.
– Спасибо, Билль, за одобрение, но вы ведь знаете, как мстительны агенты? Через неделю, много две, я буду убит здесь, в своей конторе. Понимаете, в чем загвоздка, Билль? В том, что у меня очень милая жена, Билль, и прелестная девочка шести лет. И мне хотелось бы пожить более двух недель… Вот эти-то соображения и смущают меня…
– На этот счет будьте покойны! О неотправленной телеграмме никто, кроме нас двоих, не узнает.
– А эти молодцы? Ведь они скажут потом своим друзьям, что сдали в Виргинии телеграмму, и догадаются, что она не отправлена. И им, конечно, будет известно, что вы были в конторе…
– Эти молодцы никому больше ничего не станут говорить. Понимаете? – значительно прибавил Билль.
И его старое лицо было необыкновенно серьезно.
– Понял, Билль… В таком случае…
– Вы не отправите телеграммы?
– Не отправлю. Я будто бы ее не получал… Пожалуй, даже возьмите текст телеграммы. Ну ее к черту! – сказал телеграфист, отдавая телеграмму Биллю.
Старый Билль прочел следующие слова:
«Сакраменто. Отель Калифорния. Капитану Иглю.
Надеюсь, вы и пять друзей встретите меня у Скалистого ручья с провизией».
Билль положил телеграмму в карман и пожал руку телеграфисту.
– Возьмите уж и доллар, уплаченный за телеграмму. Мне с ним нечего делать.
– Держите пока у себя. Он получит свое назначение. Я спрошу у него, кому послать этот доллар, и на обратном пути сообщу, куда его послать. Прощайте!
– Прощайте, Билль. Счастливого пути!
– Благодаря вам он будет, надеюсь, счастлив! Спасибо, телеграфист!
Когда Билль вернулся в гостиницу и после недолгого своего туалета вошел в общую залу, то застал там Дунаева и Чайкина. Оба, вымытые и освеженные после ванны, уписывали поданный им завтрак. Яичница с ветчиной только что была окончена, и наши путешественники принялись за бараньи котлеты с картофелем.
Старый Билль присел к столу, занимаемому русскими, и заказал себе завтрак.
– Где это вы пропадали, Билль? Я вас искал, чтобы выпить с вами стаканчик рому. Чайк не пьет! – проговорил Дунаев.
– Маленькое дельце было в городе! – спокойно проговорил Билль.
– А куда девались наши спутники?
– Кто их знает! А вы ловко вернули свои двести долларов, Дун. Только советую вам никогда вперед не рассказывать, сколько у вас денег.
– Больше не буду, Билль. Не сердитесь! – с подкупающим добродушием сказал Дунаев.
В общей зале, кроме Билля и двух русских и жены хозяина у буфета, никого не было. По временам кто-нибудь заходил, выпивал стаканчик рому и уходил. Старый Билль внимательно всматривался в каждого приходящего.
Чайкин заметил это и спросил:
– Пассажиров отсюда не будет?
– В конторе никто не записался. Да и места нет. Разве сзади втиснуть…
В эту минуту в залу вошел рослый, высокий мужчина в широкополой шляпе и в высоких сапогах и, подойдя к столу, проговорил:
– Не возьмете ли меня, Билль, пассажиром до Сакраменто?
– Места нет! – резко ответил Старый Билль, оглядывая своим быстрым, проницательным взглядом рослого господина с головы до ног.
Взглянул на него и Чайкин, и он ему не понравился. Что-то неприятное было в маленьких, беспокойно бегающих глазах этого человека, и Чайкин почему-то обрадовался, что Билль ему отказал.
А тот между тем настаивал.
– У меня очень спешное дело в Сакраменто, – говорил он мягким, вкрадчивым голосом, – и я готов хоть сбоку сидеть. Вы сделаете мне большое одолжение, Билль, если возьмете.
– Места нет! – еще суровее отрезал Билль.
– Но вы берете иногда пассажиров, если и нет мест…
– Беру.
– Так отчего меня не взять, Билль?
– Боюсь, что такому рослому молодцу будет неудобно сидеть, свесивши ноги. Если вы торопитесь, советую ехать верхом…
– Я совета вашего не спрашиваю. Я спрашиваю: берете или нет?
– А я, кажется, сказал, что не беру.
– Я буду жаловаться компании! – проговорил рослый господин, отходя.
Билль не удостоил его ответом и продолжал завтракать.
И, когда этот человек вышел, проговорил, обращаясь к Дунаеву:
– Никогда не хвастайтесь, Дун, своими деньгами!
В скором времени явились и оба канзасца. Они заказали себе роскошный завтрак и спросили дорогого вина. Они были в веселом расположении духа, много болтали и много смеялись.
Старый Билль докончил свой завтрак и хотел было уйти, как один из молодцев обратился к нему:
– Не угодно ли, Билль, попробовать вина? Отличное.
– Благодарю вас, джентльмены. Я вина не пью! – отвечал Билль и вышел из залы.
– А вы, иностранцы, не выпьете ли с нами?
Но Дунаев тоже поблагодарил и отказался:
– Чайк вовсе не пьет. А я пью только спирт! – прибавил он.
Канзасцы больше не просили. А Дунаев сказал Чайкину:
– Не попьем ли чайку теперь?
– Попьем.
Дунаев попросил боя принести две чашки чая.
– А эти неспроста уходили, как ты думаешь? – спросил Чайкин.
– Подозрительный народ! – ответил Дунаев.
– И Билль неспроста отказал тому пассажиру!
– Билль, брат, башковитый человек.
– И я так полагаю, – продолжал Чайкин, прихлебывая горячий чай, – что эти самые подговорили нового пассажира. Недоброе у них на уме.
– Не бойся, Вась, справимся с ними, если что… Опять так же сидеть будем в фургоне, как и сидели. Вроде бытто сторожить их! – сказал с улыбкой Дунаев.
– А нехорошо все это! – раздумчиво проговорил Чайкин.
– Что нехорошо?
– С опаской ехать. А еще Америка!
– Да ведь это только тут опаска… в глухих местах. А в прочей Америке ничего этого нет… Здесь, сам видишь, пока пустыня! Пойми ты это, – говорил Дунаев, видимо, желавший защитить Америку перед Чайкиным.
– Народ отчаянный! – снова вымолвил Чайкин.
– По этим местам отчаянный, потому как сюда со всей Америки самые отчаянные идут… Но только ты, Чайкин, напрасно обессуживаешь. По одной паршивой овце нельзя все стадо ругать. Так ли я говорю?..
– Да я и не ругаю… Я только сказываю, что в опаске нужно жить… Однако валим, братец, в лавку. Надо еще провизии купить на дорогу!
Они расплатились и вышли из гостиницы. В одной из ближних лавок они купили сообща окорок, сухарей и лимонов.
Когда они вернулись. Старый Билль запрягал лошадей. Куча любопытных стояла на дворе.
– Садитесь по-прежнему! – шепнул Билль, когда Чайкин подошел к фургону. – Скоро вам с Дуном будет удобнее! – прибавил Билль.
Чайкин махнул головой, не понимая, впрочем, о каких удобствах говорил Билль.
В числе любопытных он заметил того самого рослого детину, который просил Старого Билля взять его пассажиром. Заметил он также, что, когда оба канзасца проходили через кучку собравшихся людей, этот высокий «джентльмен» что-то шепнул молодцу со шрамом на лице.
– Так и есть, сговорившись были! – сказал Чайкин Дунаеву.
– Небось не выгорело!
– Дошлый этот Старый Билль. Однако давай уложим хорошенько наши вещи, Дунаев.
Они переложили все вещи в переднюю часть фургона и, покрывши их сеном, устроили себе более или менее удобное сидение. Около было положено и ружье Дунаева.
Таким образом, фургон был, так сказать, разделен на две части.
Был двенадцатый час утра, и солнце жарило невыносимо.
– Опять нудно будет! – промолвил Чайкин.
– Ддда… жарко. Ну да теперь уж недолго маяться. Перевалим Скалистые горы и въедем в Калифорнию… А там и дорога лучше, и города чаще, и не будет больше пустынных мест… Там народу больше живет.
– А до Франциск далеко?
– Ден в шесть доберемся, бог даст!.. А там я тебя, Чайкин, устрою у чехов, где стоял. Хороший, безобманный народ. Ежели есть свободная комната, пустят.
– Я ненадолго. Как место получу, и поеду на ферму. У меня письма есть.
– Если откажут по письмам, ты через контору. А то знаешь, что я тебе скажу, Чайкин?
– Говори.
– Поступай ко мне в лавку приказчиком, мясом торговать. Понравился ты мне.
– Нет уж, я попробую в деревню… Спасибо тебе, Дунаев.
– Как знаешь, а только и торговать выгодно. И жалованье бы тебе положил, и ели бы вместе, и когда по-русски перекинулись бы словом.
– Лестно-то это лестно, а все-таки я прежде попытаю на ферме поработать… Там я и в силу войду! А то щуплый я… А земля здоровья даст.
– Пожалуй, оно и так. А ты на праздники ко мне приезжай, если ферма, как ты говорил, совсем близко от города.
– То-то, мой капитан сказывал, что близко… И я беспременно буду приезжать. Как земляка да не проведать…
Земляки говорили довольно громко по-русски, и этот неведомый язык обратил на себя внимание нескольких лиц из глазеющей публики.
И один из зевак, видимо сгоравший от любопытства, наконец не выдержал и, приблизившись к русским, спросил:
– На каком языке вы говорите, иностранцы?
– На русском.
– Вы, значит, русские?
– Русские.
– Очень хорошо. Позвольте пожать ваши руки, джентльмены… Билль! Не уезжайте пять минут… я хочу сказать речь.
И, не дожидаясь согласия Билля, этот господин взобрался на облучок фургона и зычным голосом крикнул:





