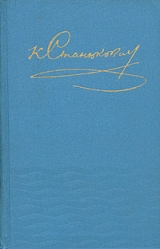
Текст книги "Том 10. Рассказы и повести"
Автор книги: Константин Станюкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 31 страниц)
– Нет, – глухо ответил отец. – И за это наказан, – прибавил он.
– Кто наказывает? И совсем не за то. Ты не лучше, не хуже других людей своего поколения. Твой «нравственный закон» не мог удержать тебя от впечатлений. Ты такой же человек. Я не судья твой, повторяю, я хочу только выяснить, что ты не прав относительно меня.
– Спасибо, спасибо. Продолжай… Я научусь уму-разуму.
– Не иронизируй, отец. Ты требовал мнения, так слушай…
– Слушаю…
И молодой человек еще более докторальным тоном продолжал:
– Ты не стоишь на той точке зрения, на какой стою я.
– Это та, что мы – улучшенный вид животного?
– Наша и его цель одна – жить. И каждый приспособляется к жизни так, как для него удобнее и лучше. Подумай, разве не то же самое проделывают люди? И ты, воображающий себя на каких-то высях, в то же время, не сердись, поступал, как самое обыкновенное животное, с низменными, как вы же говорите, инстинктами. А они, заметь, не могут быть ни высокими, ни низменными, а просто – естественными. Побороть их, конечно, случается, но ты делал это только на словах. Ты был хороший муж? Разве ты не мучил женщину, которая тебя любила, когда увлекался другими? Снова говорю, что, с моей точки зрения, твои увлечения естественны, но зачем же говорить о какой-то безнравственности, когда жена оставляет мужа и сходится с другим.
– Не о том говорят! – бешено крикнул Долинин. – Не в том дело, что жена разлюбила мужа. Любовь свободна, безнравственна ложь.
– Что такое нравственность, это еще вопрос. Муж и жена такие же животные, так что ж ты требуешь от них того, чего не исполняешь сам. Или исполнял? Ответь.
– Не исполнял, но я по крайней мере не лгал и одновременно никогда не был мужем двух женщин, – прибавил Долинин, словно бы стараясь оправдаться перед сыном.
И странное дело: чем более Долинин считал себя словно бы виноватым перед сыном, тем более молодой судья начинал смягчаться и сам в душе старался оправдать отца, с своей точки зрения, и относиться к нему уже не с прежнею строгостью.
Долинин, напротив, злился на сына еще более за то, что Николай снисходит к отцу и в то же время говорит ему, и так безжалостно, очень тяжелые для него вещи. Особенно намекает на его дружбу, которая возмущала семью.
И для отца словно бы являлось откровением, что сын проповедует уверенно и спокойно то, что отец считает возмутительным.
«Невменяем он, что ли?» – подумал старик. И лицо его стало мрачным.
– Так ты думаешь, что в любви один только чувственный пыл? – воскликнул отец.
– Почти что так. Да и ты, кажется, отец, любил женщин не только ради их прекрасных душ?
– Врешь! И о душе думал. Ты, верно, еще не любил?
– Конечно, любил. По крайней мере, когда я целую женщину, я не говорю ей о социальных проблемах, как делаете вы. Хотите тела и, чтобы добиться его, соблазняете женщину исправлением мира. Это что же, по вашему старому стилю лучше, чем по новому?
– А вы в это время смакуете тонину любовного настроения? И после разойдетесь, как две собаки?
– По крайней мере без обмана.
– Да. Ты прав! Вы без обмана, – презрительно усмехнулся старик.
И внезапно бешено крикнул:
– Нам больше разговаривать нечего. Иди, иди, оставь меня одного!
Сын пожал плечами и вышел.
Старик снова заходил по кабинету.
Безотрадные мысли проходили в его голове. Он вспомнил всю свою прошлую жизнь. И чем более вспоминал, тем тяжелее становилось на его душе. Он чувствовал себя бесконечно виноватым перед сыном и навсегда одиноким.
– Оба мы хороши! – с тоской прошептал старик.
IX
Через два дня отец с сыном расстались холодно. Оба были как будто довольны, что расстаются.
М.П. Еремин. К.М. Станюкович. Очерк литературной деятельности
Мы начинаем читать какую-нибудь книгу чаще всего вовсе не потому, что она, по нашим предположениям, обязательно должна быть лучше всех уже знакомых нам книг; но от любой из них мы всегда ожидаем чего-то нового, чего-то такого, чего мы сами выведать у жизни не сумели и чего еще не встречали в других книгах. «В сущности, когда мы читаем, или созерцаем художественное произведение нового автора, основной вопрос, возникающий в нашей душе, всегда такой: „Ну-ка, что ты за человек? И чем отличаешься от всех людей, которых я знаю, и что можешь мне сказать нового о том, как надо смотреть на нашу жизнь?..“ Если же это старый, уже знакомый писатель, то вопрос уже не в том, кто ты такой, а „ну-ка, что можешь ты сказать мне еще нового? с какой новой стороны теперь ты осветишь мне жизнь?“». [39]39
Л. Н. Толстой. Полн. собр. соч. (Юбилейное), т. 30, М., 1951, стр. 19.
[Закрыть]
Тут необходимо одно попутное замечание: только что приведенные вопросы сформулированы Львом Толстым; этим и предопределена их особая, можно сказать, безусловная категоричность: писателю естественно думать, что участь его произведений, а стало быть, и его идей в конечном счете определяется читательским судом. Но только в конечном счете! Глубоко заблуждался бы тот читатель, который в простоте душевной возомнил бы, что он способен сразу и безошибочно определить все достоинства и недостатки прочитанных им произведений, и который, рассуждая о писателях, встал бы в позу строгого и всеведущего экзаменатора. К счастью, такие читатели встречаются сравнительно редко; все остальные, то есть подавляющее большинство, читают и перечитывают художественные произведения не ради того, чтобы вершить суд над их автором, а чтобы приобщиться к запечатленному в них новому.
Но художественное произведение потому и называется произведением, что содержащееся в нем новое не просто сообщено, а создано, сотворено – почему и работу писателя-художника принято называть творчеством. Вероятно, по этой причине наш интерес к художественному произведению весьма сложен по своему составу: новое, конечно, занимает нас само по себе – именно как новое; но вместе с тем мы хотим знать, как оно добыто, как извлечено из глубин жизни; и, пожалуй, больше всего нас интересует факт сотворенности этого нового, секрет, или, лучше сказать, тайна его сотворения. Естественно, что в поисках ответов на все эти вопросы мы обращаемся к личности писателя, к обстоятельствам его жизни и его литературной деятельности, то есть задаем как раз этот вопрос: «Что ты за человек?»
1
Судьба как будто бы особо позаботилась, чтобы крупнейший русский писатель «по морской части» с самого раннего детства видел и слышал море и близко познакомился с теми, чья жизнь так или иначе связана с морем.
Константин Михайлович Станюкович родился 18 марта (ст. стиля) 1843 года в г. Севастополе; его отец – адмирал Михаил Николаевич Станюкович – был в это время командиром севастопольского порта и севастопольским военным губернатором; а его мать Любовь Федотовна была дочерью военного моряка – капитан-лейтенанта Митькова. К. М. Станюковичу довелось быть очевидцем начала героической севастопольской обороны и даже принять в ней участие – вместе со взрослыми он приготавливал корпию и носил ее на перевязочные пункты.
Впечатления детства сыграли в писательской жизни Станюковича огромную роль; позднее он и сам признавал это. Но тогда, по-видимому, никто из его близких не заметил его особой одаренности. Отец избрал для своего младшего сына военную карьеру. В 1856 году Станюкович был зачислен кандидатом в Пажеский корпус, а в ноябре 1857 года его перевели в морской кадетский корпус. О причинах этого перевода в донесении великому князю Константину Николаевичу сказано так: «Адмирал Станюкович, имевший несчастье потерять служившего во флоте капитан-лейтенанта сына своего, желая сохранить во флоте свое имя, испросил соизволения вашего императорского высочества о переводе другого сына его, Константина, из кандидатов Пажеского корпуса в Морской». [40]40
В. П. Вильчинский. Константин Михайлович Станюкович. Жизнь и творчество. М.-Л., 1963, стр. 12.
[Закрыть]
По господствовавшим в той среде обычаям так бы оно и могло пойти: из морского корпуса – на корабль, с годами повышались бы чины, звания и должности, и к концу жизни дослужился бы К. М. Станюкович, как и его отец, до полного адмирала. Но так не случилось. Что отклонило К. М. Станюковича от этой проторенной не одним поколением русских моряков дороги? Причин, конечно, было много; некоторые из них, очевидно, и нельзя определить, как, например, нельзя определить происхождение одаренности; а другие – и весьма существенные – можно характеризовать, хотя бы в самых общих чертах. И прежде всего следует принять во внимание личные склонности, которые обнаруживаются очень рано и которые предопределяются именно врожденным даром.
Как сказано, в детские годы Станюковичу довелось видеть весь цвет российского военного флота, но ни парадный блеск, ни то, что в наше время принято называть романтикой дальних морских странствий, все это, по-видимому, не привлекало тогда его воображения и не оказало сколько-нибудь заметного влияния на его умственное и душевное развитие. Из всех известных ему в те годы взрослых людей он всю жизнь с благодарностью вспоминал одного учителя – Ипполита Матвеевича Дебу. «Он как-то умел заставлять учиться, – писал К. М. Станюкович в автобиографической повести „Маленькие моряки“, – и уроки его были для меня положительно удовольствием. Довольно было сказать И. М. Дебу одно лишь слово: „стыдно“, чтобы заставить меня горько сокрушаться о неприготовленном уроке и просить его не сердиться. Я не только любил, но был, так сказать, влюблен в своего учителя».
Разумеется, такое чувство мог вызвать только человек необычайного обаяния, которое на десятилетнего мальчика производило особое впечатление, может быть, еще и потому, что этот учитель был солдат. Что И. М. Дебу за участие в кружке М. В. Петрашевского был приговорен к смертной казни, замененной – после совершения изуверской процедуры подготовки к расстрелянию – четырьмя годами военно-арестантских рот, об этом в те годы К. М. Станюкович, конечно, не мог знать, но о том, что этот образованный человек попал в солдаты не по рекрутскому набору и уж, конечно, не по доброй воле, а отбывает наказание, он мог догадываться уже и тогда. Чем мог провиниться такой прекрасный человек? И перед кем? Детская любовь цельна и последовательна, и, разумеется, в сознании влюбленного ученика были виноваты те, кто наказал его учителя, а вместе с ними и те, кого он, учитель, хоть и не открыто, осуждает. Социалист, почитатель Фурье и последователь его учения, И. М. Дебу считал дворянское общество, к которому до своего ареста принадлежал и сам, неприличным обществом и подтверждал это свое мнение или реминисценциями или прямыми ссылками на произведения Пушкина, Гоголя, Лермонтова. На своих уроках Дебу речи о Фурье, наверно, не заводил, а о Пушкине, о Гоголе, о Лермонтове и, может быть, даже о Достоевском – своем товарище по делу петрашевцев – он, по-видимому, просто не мог не говорить.
Мы не знаем, насколько подробны были эти разговоры, но в памяти ученика они оставили неизгладимый след. Когда через несколько лет юному Станюковичу приходилось слушать, как невежественный корпусной словесник доказывал, будто чтение «Мертвых душ» «только развращает молодого читателя и не дает пищи ни для ума, ни для сердца», он уже был в какой-то степени подготовлен, чтобы оценить эти жалкие потуги по достоинству. Правда, к тому времени он уже успел убедиться, что этот преподаватель занимал место в корпусе вовсе не по недосмотру начальства.
По давней традиции, еще больше укрепившейся в годы царствования Николая I, в военно-учебных заведениях гуманитарные дисциплины принято было считать не то что второстепенными, но даже почти посторонними, без чего вполне можно обойтись: хоть и не официально, но настойчиво кадетам внушалась мысль, что быть хорошим моряком можно и без Ломоносова. В годы учения Станюковича в корпусе появлялись словесники, знающие и любящие свое дело, но от них старались поскорее «освободиться»: один из них – Ф. А. Дозе – скоро был уволен и куда-то сослан по доносам коллеги – того самого, который ратовал против чтения «Мертвых душ»; а другой – профессор, будущий академик М. И. Сухомлинов, по-видимому, вынужден был отказаться от преподавания в корпусе, как говорится, по собственному желанию.
Корпусное начальство больше всего заботилось о внешнем благополучии, о строевой выправке и поэтому особенно старательно занималось шагистикой. Однако в эти годы казарменный формализм уже не давал того эффекта, на который рассчитывали его защитники и насадители: времена менялись.
2
Россия уже несколько десятилетий жила в напряженном ожидании перемен к лучшему. Когда-то необходимость таких перемен во всем ходе русской жизни – общественной и политической – осознавали лишь немногие русские люди, среди которых наиболее выдающимся был А. Н. Радищев. Позднее, в особенности после Отечественной войны 1812 года, таких людей стало больше; самые решительные и самоотверженные из них сумели объединиться и попытались взять инициативу преобразования общественно-политического строя в России в свои руки. Восстание декабристов было подавлено, но мысль о преобразовании и улучшениях жизни постепенно, но неуклонно становилась достоянием передового общественного сознания.
Правящие верхи понимали это и всеми средствами стремились подавить даже малейшие признаки недовольства существующим положением вещей. Николай I строжайше запретил своим подданным какое бы то ни было публичное обсуждение экономических, правовых или политических вопросов и оставил им лишь одно право – беспрекословно исполнять предписания и распоряжения вышестоящего начальства, не забывая при этом восхищаться – вслух и печатно – мудростью правительства и прежде всего, конечно, самого царя. А главным и наиболее внушительным плодом этой мудрости предписано было считать военное могущество России; о чем бы доброхотные и платные хвалители ни рассуждали, они никогда не забывали поговорить о дипломатическом и стратегическом гении Николая и о непобедимости его доблестной армии, его флота. В подтверждение такого рода славословий обыкновенно рассказывалось о бесчисленных парадах и смотрах как в столицах, так и в крупных провинциальных гарнизонах.
Больше двадцати пяти лет эта успокаивающая и располагающая к зазнайству убежденность не подвергалась сколько-нибудь серьезному испытанию, но в конце концов оно все-таки пришло. Таким испытанием явилась Крымская война 1853–1856 годов. В начале войны операции русских войск шли успешно, особенно выдающейся была победа черноморской эскадры под командованием П. С. Нахимова над турецким флотом в Синопской бухте. Но вскоре после того, как в войну – на стороне Турции – вступили Франция и Англия, стала обнаруживаться неподготовленность русской армии – и в технической оснащенности (стрелковое оружие было еще гладкоствольным, флот – в основном парусным), и в стратегии (достаточно сказать, что командование действующей в Крыму армией Николай I поручил своему любимцу, самодовольному и бездарному А. С. Меншикову), и в особенности в организации тыла, где царили полная неразбериха и открытое воровство.
В дни героической севастопольской обороны русские солдаты, матросы, офицеры, руководимые и вдохновляемые такими талантливыми и самоотверженными командующими, как В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, Э. И. Тотлебен, проявили чудеса храбрости и стойкости, навеки запечатленные потом одним из участников обороны – Львом Николаевичем Толстым; но предотвратить общее поражение русской армии было уже невозможно. Севастополь был оставлен.
Исход войны показал воочию внутреннюю несостоятельность всего самодержавно-крепостнического строя. Банкротство системы совпало с концом царствования: 18 февраля 1855 года Николай I умер.
Эта смерть была воспринята передовыми людьми того времени как конец кошмара. Разумеется, и тогда многие понимали, что причины военных неудач коренились не только в дипломатических и стратегических ошибках царя; но он сам был убежден и других старался убедить, что в русской армии все совершалось по его предначертаниям; и его сочли главным, если не единственным, виновником поражения. Наиболее проницательные люди тех лет догадывались, что режим жандармских провокаций и военно-полицейских расправ утвердился в стране не только по злой воле Николая; но ради торжества исповедуемых им принципов абсолютного самодержавия он считал необходимым, чтобы все перед ним трепетали. И в нем видели олицетворение этого режима, его боялись.
Когда Николая не стало, всем показалось, что теперь леденящее «не рассуждать!» рявкнуть уже некому. «Это было удивительное время, – вспоминает один из замечательных деятелей той эпохи, Н. В. Шелгунов, – время, когда всякий хотел думать, читать и учиться и когда каждый, у кого было что-нибудь за душой, хотел высказать это громко». [41]41
Н. В. Шелгунов. Воспоминания, М.-Л., 1923, стр. 82.
[Закрыть]
Наступила эпоха гласности. Правительство Александра II не могло не понять, что после крымской катастрофы управлять страной по николаевским шаблонам уже нельзя и некоторые уступки общественному мнению неизбежны. А так как общественное мнение выражалось прежде всего в печати, то власти сами пытались руководить им, позволяя, а то и прямо «советуя» казенным и официозным изданиям выступления в «либеральном» духе. Теперь даже взлелеянная Булгариным и Гречем «Северная пчела» не могла ограничиваться одними только славословиями, а должна была время от времени вдаваться в рассуждения о государственных нуждах и недугах и отваживалась «обличать» злоупотребления чиновников – хотя бы на уровне квартального надзирателя.
Конечно, для неказенных журналов и газет система цензурных ограничений, запретов и, сверх того, жандармской слежки и полицейских расправ сохранялась и действовала, но уже не с такой неотвратимой жестокостью, как при Николае I. Этим не замедлили воспользоваться прогрессивные журналы; «Современник», во главе которого стояли Н. Г. Чернышевский и Н. А. Добролюбов, «Искра», «Русское слово», направление которого полнее всего выражалось в статьях Д. И. Писарева. Под прозрачным покровом разнообразных форм эзоповской речи сотрудники этих журналов – беллетристы, критики, публицисты – возбуждали в сознании своих читателей протест против всего, что тормозило развитие жизни русского общества. В освободительном движении тех лет особое значение имел «Колокол» Герцена и Огарева. Здесь открыто, без оглядок на цензуру самодержавно-крепостнический строй характеризовался как строй бесправия и угнетения, а его защитники – от городничих и губернаторов до министров и членов царской фамилии – назывались по именам.
Но крупнейшие деятели освободительного движения тех лет не ограничивались критикой и обличением существовавшего социального зла. Они воспитывали в своих читателях, в особенности в молодых
…доверенность великую
К бескорыстному труду.
И эта их проповедь получила широчайший отклик. Тот же Н. В. Шелгунов пишет об этом так: «Внизу освобождались крестьяне от крепостного права, вверху освобождалась интеллигенция от служилого государства… Идея свободы, охватившая всех, проникала повсюду, и совершалось действительно что-то небывалое и невиданное. Офицеры выходили в отставку, чтобы завести лавочку или магазин белья, чтобы открыть книжную торговлю, заняться издательством или основать журнал». Далее мемуарист приводит характернейший диалог между петербургским генерал-губернатором А. А. Суворовым (это был внук генералиссимуса А. В. Суворова) и Н. А. Серно-Соловьевичем, пришедшим к этому либеральному сановнику по делам своего книжного магазина:
«– Кто вы? – спрашивает Суворов.
– Купец первой гильдии Серно-Соловьевич.
Суворов любил заговаривать на иностранных языках. Увидев пристойного и благовидного купца, Суворов заговорил с ним по-французски. Серно-Соловьевич ответил. Суворов заговорил по-немецки. Серно-Соловьевич ответил.
– Кто же вы такой? – повторил свой вопрос немного изумленный Суворов.
– Купец первой гильдии Серно-Соловьевич.
Суворов начал по-английски, Серно-Соловьевич ответил; Суворов делает ему вопрос по-итальянски и получает ответ итальянский.
– Фу ты! – говорит озадаченный Суворов. – Да кто же вы такой?
– Купец первой гильдии Серно-Соловьевич.
– Где вы учились?
– В лицее.
– Служили вы где-нибудь?
– Служил.
– Где?
– В государственном совете.
Суворов вышел из себя от изумления: ничего подобного он не мог себе представить». [42]42
Н. В. Шелгунов. Воспоминания, стр. 113–114.
[Закрыть]
Нам в наше время трудно понять, почему был так озадачен сановник. На самом деле, разве купец первой гильдии не мог быть столь же пристоен и благовиден, как и тогдашний дворянин? И что мешало такому купцу, то есть человеку богатому или по крайней мере состоятельному, знать основные европейские языки? Мало ли было образованнейших, культурнейших купцов? Братья Третьяковы, Савва Мамонтов, К. С. Станиславский – все они, как и многие другие деятели русской культуры, были купцы. Однако следует иметь в виду, что все эти люди жили в другое время – почти полвека спустя. А тогда, в шестидесятые годы, купцы, как бы кто из них богат ни был, и по «одежке» и по уровню образованности мало отличались от купцов А. Н. Островского или от щедринского Дерунова. Конечно, мог и в те годы встретиться европейски образованный молодой купец – хотя бы в качестве того самого исключения, которое только подтверждает правило, но «соль» ситуации заключалась в том, что перед Суворовым оказался дворянин, перешедший в купечество: ведь лицей был одним из самых привилегированных учебных заведений в России, и туда принимали только дворянских детей. С мольеровских времен европейский мещанин – а русский был нисколько не «хуже» и не «лучше» – рвался во дворяне, а вот теперь дворянин пошел в купцы, в мещане!
М. Е. Салтыков-Щедрин, сам в свое время окончивший лицей, назвал его заведением «для государственных младенцев»: лицеистов готовили к тому, чтобы они впоследствии заняли в правительственном аппарате самые высокие посты. За немногими исключениями так оно и происходило; достаточно сказать, что тогдашний министр иностранных дел князь А. М. Горчаков был лицеистом первого, пушкинского, выпуска. А. А. Суворову не трудно было догадаться, что русский дворянин Николай Александрович Серно-Соловьевич отказался от блестящей, по понятиям дворянской среды, карьеры, от традиционных привилегий и почестей и перешел в купечество вовсе не ради того, чтобы нажить капитал: в те годы и «настоящие»-то купцы на книжной торговле чаще терпели убытки, а то и разорялись, чем богатели. Но для чего же?
Примерно через год-полтора Суворов узнал, что его странный посетитель – революционер, вместе с Герценом и Огаревым создавший тайное общество «Земля и воля», и его магазин был чем-то вроде клуба, где собирались люди передовых убеждений, среди которых он и его товарищи по тайному обществу искали возможных соратников.
Конечно, это был случай особый, но вместе с тем и типичный для шестидесятых годов. Большая часть людей, отказавшихся от чиновничьей или военной карьеры и занявшихся той или иной частной, неказенной деятельностью, к числу революционеров не принадлежала и свое поведение прямо и непосредственно с политической борьбой не связывала. Они преследовали чисто просветительные цели. Между ними было распространено убеждение, что люди, принадлежащие к так называемому образованному обществу – дворяне ли они, разночинцы ли, – обязаны «вернуть долг народу», то есть нести народу знания и таким образом помочь ему преодолеть вековую бедность и нищету. Они заводили издательства, чтобы выпускать книги для народа; их усилиями во многих городах России была создана целая сеть воскресных школ, в которых профессора университетов, преподаватели гимназий, студенты, литераторы, офицеры по воскресеньям бесплатно обучали всех желающих и прежде всего, конечно, тех, кто по бедности не мог учиться в казенных учебных заведениях. Но эта просветительная по своему характеру деятельность была неотъемлемой частью всего освободительного движения шестидесятых годов: осознавая и ценя собственное человеческое достоинство, эти люди хотели донести принципы свободы и гуманности до народа.
3
К. М. Станюкович, рассказывая в повести «Беспокойный адмирал» о благородном мичмане Леонтьеве, заметил, что тот вступал в жизнь «с самыми светлыми надеждами вскормленника шестидесятых годов». С не меньшими основаниями это можно сказать и о самом писателе. В корпусе он был постоянным читателем «Современника», писал стихи в духе Некрасова и некоторые из них даже печатал. Неизвестно, какие сочинения Герцена довелось ему читать в те годы, но едва ли можно сомневаться в том, что он многое знал о его деятельности и, как большая часть молодых людей того времени, был восторженным его почитателем.
Само собой разумеется, что чем больше и непосредственнее отдавался он освободительным идеям и настроениям, тем решительнее отвергал те казарменные идеалы, которыми вдохновлялись старые – еще николаевских времен – корпусные наставники и начальники, и тем нестерпимее становились строевые премудрости, хотя давались они ему без особенного труда и среди своих однокурсников он считался одним из первых. Назревала необходимость выбора – почти по Некрасову:
В нас под кровлею отеческой
Не запало ни одно
Жизни чистой, человеческой
Плодотворное зерно.
Будь счастливей! Силу новую
Благородных юных дней
В форму старую, готовую
Необдуманно не лей!
Жизни вольным впечатлениям
Душу вольную отдай,
Человеческим стремлениям
В ней проснуться не мешай.
И выбор был сделан. За несколько месяцев до выпуска из корпуса К. М. Станюкович объявил отцу о своем решении отказаться от карьеры военного моряка и поступить в университет. Драматические подробности этого объяснения, по-видимому, весьма достоверно воспроизведены в повести «Грозный адмирал». Старый николаевский служака в глубине души, видно, не очень верил в твердость намерений своего младшего сына; он добился назначения кадета Станюковича в кругосветное плавание, по-видимому, полагая, что за годы плавания «блажь» рассеется и все встанет на свое место. Сын уступил и согласился отправиться в эту длительную экспедицию, потому что у него были свои расчеты: получить мичмана и, уже не спрашивая разрешения отца, сразу же выйти в отставку, чтобы жить так, как он сам хочет.
В конце концов действительно все, хоть и в разные сроки, встало на свое место. Только итоговые результаты складывались несколько не так, как рассчитывали участники этого спора «двух веков». Мечта отца осуществилась: имя Станюковичей навсегда запечатлелось в истории русского флота. Долго ли бы помнили русские военные моряки адмирала Михаила Николаевича Станюковича, как известно, не отличавшегося выдающимися боевыми подвигами, если бы его младший сын – вопреки своей воле! – не совершил бы этого трехлетнего кругосветного плавания, давшего ему столько впечатлении, что их «хватило» почти на все написанные им впоследствии морские рассказы и повести.
Планы юного спорщика тоже осуществились. В октябре 1860 года, когда корвет «Калевала» уходил с кронштадтского рейда, кадет Станюкович, наверно, не думал о том, что бескрайние океанские просторы, встреча с которыми ему предстояла, так сказать, ждут его слова и что сочинения о море и о моряках навеки утвердят его имя в русской литературе. Во все три года плавания он исправно нес нелегкое бремя морской службы, успешно сдал гардемаринские экзамены; матросы его считали «добрым барином», у начальников он был на хорошем счету, и скоро его заметил сам командующий тихоокеанской эскадры адмирал А. А. Попов.
Последнее обстоятельство имело в жизни Станюковича важное значение. Сподвижник В. А. Корнилова и П. С. Нахимова, Андрей Александрович Попов был богато одаренным, широко образованным человеком, в характере которого благородная прямота и доброжелательность причудливо сочетались с приступами неудержимой гневливости. Он знал будущего писателя еще ребенком, но теперь особое на него внимание обратил, конечно, не только поэтому: гардемарин Станюкович выделялся среди своих сверстников начитанностью, любознательностью и тем обостренным чувством собственного достоинства, которое было так свойственно лучшим из молодых шестидесятников. А.А.Попов относился к нему с большим доверием, поручая ответственнейшие задания, требовавшие умения самостоятельно ориентироваться в самых сложных и неожиданных обстоятельствах.
Позднее Станюкович представит отношение к себе адмирала Попова как отношение старшего друга, чуткого наставника, достойного самой искренней благодарности. А тогда он больше всего боялся оказаться в положении покровительствуемого. «…Попов советует еще с ним остаться, – писал он сестре. – Не думаю этого сделать! Он человек деятельный, добросовестный, любит меня очень, да мне-то не по нутру состоять при нем… Обидно предпочтение перед другими… Что все скажут… Правда, еще ничего дурного не говорят, потому что я держу себя с ним свободно и хорошо. Да все же адмирал… вот что!» [43]43
Литературный архив, VI, М.-Л., 1961, стр. 458.
[Закрыть].
Пребывание Станюковича на кораблях тихоокеанской эскадры закончилось досрочно: по распоряжению того же А. А. Попова двадцатилетний гардемарин должен был срочно доставить в морское министерство важные служебные документы. Отправился он 4 августа 1863 года, ехал сухим путем через Китай и Сибирь и уже 28 сентября был в Петербурге.
Обыкновенно такого рода поручения, кроме своей непосредственно деловой цели, имели и еще одну, вслух не называемую, но вполне определенную цель: обратить на исполнителя внимание высших начальников и таким образом ускорить его «движение по службе». Адмирал Попов, конечно, знал об этой традиции и вряд ли сомневался в том, что и на этот раз она не будет нарушена. Сам Станюкович о такой «счастливой» возможности не хотел и думать: чин мичмана он действительно получил очень скоро, но на этом и счел свои отношения с военным флотом поконченными, по-видимому, сразу же начав хлопоты об отставке. Однако оказалось, что и теперь нужно было обратиться к отцу. Вот что рассказывает о дальнейшем ходе дела П. В. Быков – один из первых биографов Станюковича – вероятно, с его собственных слов. «Задумав выйти в отставку, Станюкович просил разрешения у отца, так как начальство не соглашалось уволить молодого моряка. Отец оставил письмо сына без всякого ответа. Тогда Станюкович, унаследовавший от отца настойчивость, твердость и энергию, вторично написал „грозному адмиралу“, что если он не даст разрешения, то Станюкович устроит так, что его исключат из службы. И непреклонная воля сына заставила „грозного адмирала“ уступить. Он писал ему: „Позора не желаю и против ветра плыть не могу… Выходи в отставку и забудь отныне, что ты мой сын!“ И мичман 11 флотского экипажа Константин Станюкович был уволен от службы с производством в чин лейтенанта». [44]44
К. М. Станюкович. Полн. собр. соч., т. I, СПб, 1906, стр. 10.
[Закрыть]
4
Намерение стать писателем возникло у Станюковича, вероятно, еще в годы учения в морском корпусе, но окончательно укрепилось уже в кругосветном плавании. И можно с большой долей уверенности думать, что это решение предопределено не столько «морскими» впечатлениями, сколько неизменным и все возраставшим интересом к освободительному преобразовательному движению тех лет. В плавании Станюкович старался не пропустить ни малейшей возможности, чтобы узнать, что происходит на родине. В письмах к родным он просил присылать ему журналы, новые книги, сообщать подробности политической и литературной борьбы в стране; он систематически просматривал иностранные газеты, прежде всего обращая внимание на сообщения о русских делах.








