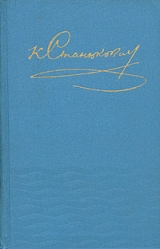
Текст книги "Том 10. Рассказы и повести"
Автор книги: Константин Станюкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 31 страниц)
– Совсем гнусно… Уж я слышал.
– И еще, слава богу, эта самая Марфа Посадница, с позволения сказать, – сапог и под пятьдесят… Даже матрос после долгого перехода не влюбится… И все подобное… А что если бы такая начальница да была молодая и обворожительная, вроде «великолепной Варвары»! Что бы вышло?..
– Какой «великолепной Варвары»? – порывисто спросил Артемьев.
– Да вы, Александр Петрович, разве не знаете… Варвару Александровну Каурову?
– Встречал! – ответил Артемьев и густо покраснел.
– То-то и есть… Я и говорю, что бы вышло… Мне нет дела до ее там конституции с мужем, когда он плавает, а она на берегу. Но знаю, что поклонников у «великолепной Варвары» всех чинов, от мичмана до вице-адмирала, много. И скотина Нельмин еще сам хвастал…
– Он лжет! И вообще лгут на нее! Она порядочная женщина! – перебил Артемьев.
– Да вы что кипятитесь, Александр Петрович. Я… И тому подобное… Вовсе и не думал что-нибудь. И очень уважаю человека, как вы, который бережет репутацию женщины… И тому подобное…
Алексей Иванович говорил растерянно и испуганно. Артемьеву стало жаль Алексея Ивановича.
И он сказал:
– Я уверен, что вы, Алексей Иванович, не станете чернить женщину без доказательств. Не такой же вы человек… Меня раздражил Нельмин… Скотина!..
– Отъявленная скотина!..
Капитан, конечно, уже не продолжал речи о «великолепной Варваре» («Быть может, еще родственница!» – подумал Алексей Иванович, тоже ухаживавший за ней, хотя и безуспешно) и счел своим долгом порекомендовать своему старшему офицеру команду.
– Старательная и исправная. Слава богу, не ссоримся. Крейсер в должном порядке, и до сих пор, ничего себе, все было благополучно. И офицеры исправно служат. В кают-компании нет ссор. Ну, разумеется, на берегу покучивают, развлекаются и все подобное… Что тут делать!? Только об одном прошу вас, Александр Петрович! – прибавил капитан.
– Чего прикажете, Алексей Иванович?
– Подтяните вы мичмана Непобедного и еще некоторых… Уж я делал им выговоры, грозил отдать под суд. И… черт их знает!.. Видно, не очень-то боятся меня! – сконфуженно проговорил капитан.
– А чем вы ими недовольны, Алексей Иванович?..
– Раздражают и оскорбляют матросов… Жестоко бьют… И выдумывают новые наказания… И все подобное… Против закона… И вообще… воображают… Особенно мичман Непобедный… Хлыщ и нахал!..
– Слушаю-с…
И Артемьев поднялся.
– Не забудьте сейчас достать мундир и явиться к адмиралу и адмиральше. Может быть, узнаете, пошлют ли нас в отдельное плавание на Север… Адмирал собирался…
– Все-таки лучше, чем стоять в здешних дырах!
– Зато спокойнее… Я ведь привык к спокойным стоянкам, – краснея, промолвил капитан. – Обедать прошу ко мне, Александр Петрович.
И вдруг побежал к письменному столу и принес Артемьеву два письма: одно толстое, другое потоньше.
Алексей Иванович извинился, что чуть было не запамятовал порадовать Александра Петровича вестями с родины.
Письма были получены две недели тому назад с английскою почтой.
Артемьев взглянул на два конверта и, обрадованный, сунул их в карман и прошел в кают-компанию.
Он представился всем бывшим там: двум лейтенантам, механику, доктору и иеромонаху, обменялся рукопожатиями и приказал вестовому прежнего старшего офицера открыть сундуки и достать мундир, трехуголку, эполеты и саблю.
И пошел в свою просторную, светлую каюту читать письма.
Он сперва жадно проглотил небольшое душистое письмо, полное коротких, размашистых фраз, таких же волнующих, чувственно-кокетливых, какими была вся она, и полное восклицательных знаков, словно бы усиливающих силу первого увлечения «великолепной Варвары».
Она писала о последнем прощании, когда пожертвовала всем ради его любви, и надеялась, что жертва ее не забудется милым, безумно любимым. Только он заставил ее понять настоящую любовь и отвращение к мужу… И она обещала при первой же возможности приехать в Нагасаки… Она «переговорит обо всем с мужем», вымолит развод, и тогда…
Следовал ряд восклицательных знаков и подпись: «Твоя».
Потом Артемьев, еще не успокоившийся от волнения, стал читать большое, сдержанно-любящее, дружеское и умное письмо Софьи Николаевны.
Ни одного восклицательного знака. Ни одного упрека. Ни одного звука об ее отчаянии, любви и влюбленности.
В письме Софья Николаевна больше писала о детях и умела схватить и передать их характерные черты. Извещала, что дети здоровы, часто вспоминают и говорят об отце, описывала их обычную жизнь и затем сообщала о новостях общественного характера, о новой интересной книге.
В пост-скриптум Софья Николаевна сообщила, что в последний ее обычный вечер в опере она видела двоюродного брата Вики, только что вернувшегося из Японии с молодой, очень милой женой англичанкой, «обещали быть у меня», – да встретила в фойе Каурову, по обыкновению, элегантную, блестящую и очаровательную, и с ней Нельмина.
Кстати об этом несимпатичном карьеристе. Вики рассказывал, будто Нельмина назначают товарищем Берендеева. Это – как бы преддверие… Неужели Берендеев не раскусил этого интригана?..
Письмо жены Артемьев прочел с интересом, со спокойною радостью за близких и с каким-то невольным чувством виноватости и в то же время некоторой враждебности, именно потому, что он не мог не сознавать, какая его жена хорошая и чудная женщина.
Но, когда он прочитал пост-скриптум, это чувство враждебности и виноватости усилилось.
Артемьев снова схватил письмо «великолепной Варвары» и стал его перечитывать.
Каждая строка, казалось, дышавшая страстью, вызывала в нем и чары ее красоты и острое, жгучее, ревнивое чувство мужчины. И он приходил теперь в бешенство при мысли о Нельмине, которого встречал у Кауровой, и напрасно гнал он от себя мысль о том, что Каурова не могла быть чьей-нибудь любовницей кроме него.
К чему тогда это письмо?.. Это признание?
– Одежда готова, вашескобродие, – доложил вестовой, входя в каюту.
– Скажи на вахте, чтобы приготовили вельбот.
– Есть!
Через четверть часа Артемьев входил в адмиральскую каюту на броненосце и, к изумлению своему, увидал только одну адмиральшу.
XI
«Однако!?» – мысленно воскликнул Артемьев при виде «начальницы» эскадры Тихого океана.
И стал мрачнее.
Он поклонился и, сделав несколько шагов, остановился у круглого стола, посредине роскошной адмиральской приемной, в почтительном отдалении от адмиральши.
Она сидела, строгая и высокомерная, в кресле у балкона, из раскрытых широких иллюминаторов которого, словно из рамок, выглядывали и сверкавший под солнцем, рябивший рейд, и голубое небо, и зеленеющий берег.
В ожидании адмирала, Артемьев нетерпеливо взглядывал на боковую дверь каюты.
Среди мертвой тишины из-за дверей вдруг донесся тихий, меланхолический храп.
«Зачем же приняли? Ведь не к адмиральше пришел являться старший офицер?» – подумал раздраженно молодой моряк.
Да он и не имеет ни малейшего желания знакомиться с этой, едва ему кивнувшей своими взбитыми кудерками, маленькой и коренастой «волшебницей Наиной» с огромными, «выкаченными», как у лягушки, глазами, неподвижно-строго устремленными на него, с крупной бородавкой на широком, слегка приплюснутом носу и с редкими черными усиками на укороченной «заячьей» губе, открывающей такие ослепительно белые, сплошь безукоризненные зубы, что, казалось, они не могли быть не вставными.
Затянутая в корсет до того, что хорошенькая блузка из небеленого полотна напоминала моряку напирающий брамсель, готовый под напором засвежевшего ветра разорваться в клочки, красная, как вареный рак, – адмиральша Елизавета Григорьевна Трилистникова, рожденная княжна Печенегова, по мнению Артемьева, носила слишком снисходительную кличку «сапога».
Прошла минута-другая.
Храп из соседней комнаты переходил в мажорный тон.
Адмиральша, казалось, строже и любопытнее «выпучила» глаза на офицера, словно бы изумленная, что он, невежа, не подходит представиться ей и скорей разрешить жадное, злостное любопытство строгой и несомненно верной всю жизнь супруги.
Пикантные слухи об Артемьеве уже опередили его приезд.
Молодой офицер между тем выругал про себя, и довольно энергично, храпевшего адмирала.
Он и «скотина» за то, что женился на адмиральше, – разумеется, она и лет тридцать тому назад была такая же «противная жаба», – хотя бы у нее было и большое состояние и все сокровища мира. Он и «осел», не сумевший избавиться от адмиральши хоть бы на время плавания. Он и «позорный трус», который только срамит и себя и службу, позволяя «бабе» командовать русской эскадрой.
«Ишь пялит на меня глаза!» – подумал старший офицер, взглянув на адмиральшу.
И, поклонившись ей, – все же дама! – повернулся и направился к выходу, чтоб ехать на «Воина».
– Попрошу вас пожаловать ко мне! – остановил Артемьева низкий и густой, слегка нетерпеливый контральто, часто бывающий у честолюбивых и очень некрасивых дам.
Молодой моряк подавил вздох и, приблизившись к адмиральше, снова наклонил голову.
С видом чуть ли не королевы адмиральша протянула надушенную руку с короткими пальцами, унизанными кольцами, поднявши ее кверху, с обычным жестом для baisemain [33]33
Поцелуя (франц.).
[Закрыть].
Артемьев еще не забыл красивых, тонких рук «великолепной Варвары», и выхоленная, пухлая и некрасивая рука адмиральши показалась ему еще противнее и словно бы «наглее» оттого, что на ней сверкали крупные брильянты, рубины и изумруды бесчисленных колец.
Он особенно деликатно пожал ее и отступил несколько шагов.
В глазах адмиральши промелькнуло изумление от такой дерзости.
Она, впрочем, не показала ни гневного чувства «начальницы эскадры» к дерзкому подчиненному, ни обычного озлобления уродливой женщины к красивому человеку и любезно попросила садиться.
– Познакомимся. Можете курить! – милостиво прибавила она.
Артемьев присел. Но не закурил.
– Кажется, имею удовольствие видеть господина Артемьева, нового старшего офицера крейсера «Воин»?
«Отлично знаешь, кто я такой, из доклада с вахты. Но, верно, допрос по порядку?» – подумал молодой человек и ответил утвердительно.
– Ваше имя и отчество?
– Александр Петрович.
– А меня зовут Елизаветой Григорьевной. Сегодня пришли на «Добровольце»?
– Час тому назад.
Прошла пауза. Адмиральша помахала веером, подровняла на обеих руках кольца и не без иронически-шутливого упрека сказала:
– А я думала, что вы, Александр Петрович, удостоите представиться жене начальника эскадры и расскажете что-нибудь интересное с родины… А вы было бежать… Это нелюбезно, молодой человек.
«Начинается разнос?» – усмехнулся про себя Артемьев и сказал:
– Я не смею беспокоить вас, Елизавета Григорьевна.
– Вот как! – не то удовлетворенно, не то недоверчиво протянула адмиральша.
– Я по службе, Елизавета Григорьевна… Явиться к его превосходительству.
– Пармен Степаныч отдыхает. Я ему скажу, что вы являлись. Передать ему что-нибудь надо?..
– Очень вам благодарен. Решительно ничего.
– Ведь вы, Александр Петрович, назначены сюда, конечно, Нельминым?
При имени Нельмина и слове «конечно» молодой моряк густо покраснел и с какой-то особенной силой уверенности, которою хотят обмануть себя не уверенные в чем-нибудь люди, ответил:
– Я назначен по распоряжению министра!
– И Василий Васильич лично приказал вам уехать из Петербурга через три дня?
«И это уж известно!»
– Нет-с. Начальник главного штаба сообщил мне приказание министра.
– Но отчего такая спешность, Александр Петрович? – казалось, с самым искренним участием спросила адмиральша.
Об этом напрасно раздумывал и Артемьев и до сих пор ни до чего не додумался.
– Воля начальства! – сказал он.
– Я решительно не понимаю Василия Васильевича. Он ведь добрый старик. Входит в семейное положение офицера… Сам женатый. Я еще поняла бы такие распоряжения Нельмина… Холостяк… Любит щеголять энергией. В три дня! По правде сказать, я – не большая поклонница нового товарища министра. Несколько предосудителен этот дон-Жуан под шестьдесят…
Артемьева уже грызло подозрение.
– А ведь вы, Александр Петрович, очень не хотели к нам?
– Очень! – горячо воскликнул Артемьев.
– Ну еще бы, это так понятно. Я слышала, какая у вас прелестная и преданная жена и – без комплиментов! – какой вы, Александр Петрович, образцовый муж и отец…
«Куда это ты гнешь, ведьма? – подумал Артемьев и взглянул на нее – совсем любезно улыбается теперь лягушечьими глазами. А все-таки скорей бы треснул брамсель, – и она бы ушла!» – неделикатно пожелал молодой человек, взволнованно ожидавший от адмиральши какой-нибудь любезной «пакости».
– Такие дружные, согласные пары ныне, к сожалению, редкость, – продолжала адмиральша, по-видимому, оживившаяся матримониальной темой. – Не правда ли, Александр Петрович?
«Правда, что ты одна из отвратительнейших особ для пары! Вот это правда!» – хотелось бы сказать гостю, но вместо этого он, подавая реплику, уклончиво промолвил:
– Говорят…
– К несчастию, в этом «говорят» много правды… Или муж увлечется чужой женой… или жена – чужим мужем. Да еще, пожалуй, и каким-нибудь холостяком второй молодости в придачу, особенно если законный муж – большой философ… Никакого чувства долга… Никаких нравственных принципов… И куда мы придем!?
Но в эту минуту, щегольски одетый во все белое и в белых парусинных башмаках, молодой матрос, благообразный, чисто выбритый, с опрятными руками, видимо, с повадкой хорошо выдрессированного адмиральского вестового, остановился в нескольких шагах от адмиральши и, глядя на нее напряженными, слегка испуганными глазами, тихим и почтительным голосом доложил:
– Капитан просит позволения видеть ваше превосходительство!
– Проси!
И, обращаясь к Артемьеву, прибавила, любезно и конфиденциально понижая голос:
– A la bonne heure [34]34
Отлично! (франц.).
[Закрыть]! Сейчас увидите большого философа-мужа.
– Да Князьков и не женат.
– Какой Князьков?.. Я говорю про милейшего Ивана Николаича… Вы знаете Каурова? Муж недавно перевел его командиром с «Верного» на «Олега», а Князькова на «Верный».
В вошедшем видном брюнете с красивыми крупными чертами моложавого, румяного и жизнерадостного лица, с пушистыми усами и окладистой черной бородой, решительно нельзя было увидать ни малейшей неловкости или затруднительности мужа «великолепной Варвары».
Он молодцевато и как-то приятно и легко нес свою крупную, полноватую фигуру в белом кителе, белых штанах и желтых башмаках, слегка почтительно наклонив коротко остриженную, крепко посаженную, круглую, черноволосую голову с жирным загорелым затылком.
Кауров крепко поцеловал руку адмиральши и с аффектацией почтительного подчиненного спросил:
– Как прикажете, ваше превосходительство… Будить адмирала?
– А что?
– Ученье… Адмирал хоть посмотрит.
– Какое в два часа?
– Минное, ваше превосходительство.
– Не беспокойте Пармена Степаныча. Делайте без него.
– Слушаю-с, ваше превосходительство!
Кауров с каким-то удовольствием и как-то «вкусно» сыпал «превосходительством».
Адмиральша указала на стоявшего Артемьева.
– Вот и новенький к нам. Знакомы?
Кауров так крепко пожал руку Артемьева и так ласково, добродушно и, казалось, чуть-чуть посмеиваясь глазами, улыбался всем лицом, что влюбленный любовник его жены невольно смутился и, казалось, готов был сейчас же извиниться перед мужем и просить, чтобы он на него не сердился. Он сам понимает, как обворожительна его жена.
– Молодой человек не хотел к нам… И на меня – ни малейшего внимания. Не удостоил подойти сам. Верно, расстроен. Хандрит… По семье, конечно, – ядовито прибавила адмиральша.
Артемьев презрительно усмехнулся.
– Привыкнет, ваше превосходительство!.. Только немножко подтянуть себя… Нервы и стихнут, Александр Петрович… И я привык на положение соломенного вдовца… Вавочка обрадовала было осенью. Телеграфировала, что приедет… А на днях: «не приеду»… Ну что Вавочка? Она писала, что вы – спасибо, голубчик! – навешали ее… Здорова? Не скучает?
– Здорова… Не скучает, кажется…
– И молодец Вавочка. Честь имею кланяться, ваше превосходительство!
И Кауров снова чмокнул руку адмиральши.
Поклонился и Артемьев, собираясь уходить.
– Так и не удостоите, молодой человек, чем-нибудь интересным из Петербурга? – с насмешливой усмешкой высокомерно спросила адмиральша.
– Ничего интересного нет, Елизавета Григорьевна… А петербургские и кронштадтские сплетни, вероятно, вам хорошо известны, гораздо лучше, чем мне.
Адмиральша едва кивнула и не протянула руки.
XII
Только что Артемьев вернулся на крейсер и стал переодеваться, как капитанский вестовой Максим, такой же добродушный, веселый и суетливый, как и капитан, уже просил старшего офицера пожаловать в капитанскую каюту.
– В большом они нетерпении, ваше вашескобродие!
Через несколько минут Артемьев был у капитана.
– Ну, садитесь и рассказывайте, Александр Петрович! Как принял адмирал и тому подобное? О чем так долго беседовали, если не секрет? Идем мы на Север и тому подобное? – полный любопытства, нетерпеливо и озабоченно спрашивал Алексей Иванович, то и дело вытирая капли пота с лысины.
– Адмирал никак не принял. Храпел.
– Любит всхрапнуть… Ха-ха-ха! От переутомления… Ха-ха-ха! Бык-быком! А Марфа Посадница?
– Форменная донна Стервоза!
Алексей Иванович захохотал, как ребенок, простодушно и заразительно. И глаза стали детскими.
– Это вы ловко окрестили, Александр Петрович… Именно донна Стервоза! Испанисто «задается»… И сама она, мол, донна и ее дядюшка… Удостоился видеть… Тоже вроде гранда Свинтусино-де-ла-Пройдоха.
Видимо довольный своим дешевым остроумием, Алексей Иванович сам же весело смеялся.
– Так что же адмиральша, Александр Петрович?
– Ну и рожа, Алексей Иваныч! Куда хуже сапога… Адмирал храпит, а она у балкона… таращит глаза… Хотел было удрать от нее… Не к ней же являться и прикладываться к ее свиным лапкам в кольцах!.. – раздраженно говорил Артемьев.
Капитан уже не хохотал. Он стал вдруг серьезен.
– Так-таки и не явились к адмиральше?.. И тому подобное?..
– Сама позвала.
– И не подошли к руке, Александр Петрович?.. – спрашивал Алексей Иванович, взглядывая на старшего офицера сконфуженными и в то же время испуганно-укоризненными глазами.
– Не подошел… Пожал руку… Да чего вы волнуетесь, Алексей Иваныч?
– А что она? Ведь все у нас обязательно целуют ее руку. И тому подобное… Нельзя… Так как же прошел этот скандал?.. Чем кончилось? По крайней мере не развели с ней? И тому подобное?.. – совсем уже подавленно спрашивал капитан.
Артемьев рассказал про свое свидание с адмиральшей и прибавил:
– Все кончилось тем, что не подала руки… И с чего вы это так волнуетесь?
– Эх, Александр Петрович!.. – вздохнул капитан. – Не все кончилось… Только началось. И тому подобное. Она злопамятная… И теперь адмирала будет нажигать.
– И черт с ней!.. Пусть ко мне придирается!
– Ко всем, и главное – ко мне… Одни неприятности пойдут… И тому подобное. А то и законопатит нас куда-нибудь в трущобное плавание. И чего вам стоило, голубчик, подойти к ней – все-таки супруга адмирала и в некотором роде, хоть и сапог, а дама! – и приложиться к ее свиным лапам? Потешили бы ее… Мало ли какие подлые руки приходится пожимать. И тому подобное. Пожал и отошел. Так к чему из-за какой-нибудь подлой бабы наживать только беспокойство… Вы не будьте в претензии, Александр Петрович, что я позволил… И тому подобное…
И, протянув руку, капитан крепко пожал руку Артемьеву, просто и искренно сказав:
– Я – пугливая ворона, Александр Петрович. Всего боюсь. Мне бы только протянуть год – и к семье… Потом опять по летам буду отстаиваться где-нибудь в Финском заливе… А семья на даче около. Приедешь – и хорошо… Жизнь – разве беспокойство, передряги да ссоры? Ну, да, верно, уйдем и донны Стервозы не увидим!.. Как-нибудь пролетит эта история с ней!
Артемьев сказал, что он не в претензии. Ему жаль было сказать Алексею Ивановичу, что так бояться всего – ужасно.
А чем лучше его жизнь? – невольно спросил он себя, когда заперся в своей каюте и вспомнил свою службу. Он всегда «умывал руки», оставаясь «чистеньким», и боялся заступиться за «правду», чтобы не рискнуть благополучием и счастьем семейной жизни.
И разве не трус он перед женой?
XIII
Артемьев написал письмо «великолепной Варваре».
Это был крик страсти, злобы, негодования и обиды влюбленного, ревнивого и самолюбивого животного, которого так неожиданно и скоро обмануло другое лживое, красивое и очаровательное животное, – строки, достаточно глупые для человека в том возрасте, когда отрава и слепота в любви так же обычны, как и в старые годы.
Как обыкновенно бывает, письмо вдруг оканчивалось требованием «всей правды» (да еще по телеграфу), приезда в Нагасаки, как она обещала, клятвами в любви и уверениями, что несчастная и оклеветанная Вава – прелестная женщина и, выйдя за него замуж, станет еще прелестнее.
Артемьев прочитал свое посланье, и ему стало стыдно.
«Разве есть доказательства, что она лжет? Разве слухи, подлые намеки адмиральши и гнусное хвастовство Нельмина непременно правдивы? И наконец какое у меня право – и где такое право? – оскорблять женщину, которая все-таки любила?»
Артемьев разорвал письмо свое на мелкие клочки. Он решил завтра написать, а сегодня ответить жене.
Но после нескольких строк продолжать письма Артемьев не мог. Не мог написать правды. Стыдно было и лгать.
Но он избежал того и другого, – совесть сговорчива, – написал телеграмму. Напишет «бедной Соне» всю правду потом.
Несколько успокоенный, Артемьев вышел наверх, велел собрать команду во фронт, представился команде и произвел на матросов хорошее впечатление, особенно тем, что очень громко и внятно сказал, что закон не разрешает бить и употреблять какие-нибудь наказания, в законе не указанные.
Еще большее впечатление произвел новый старший офицер на жадно слушавших его матросов тем, что разрешил обращаться к нему с жалобами, если кто-нибудь будет беззаконно наказан.
Распустив команду, Артемьев вместе с боцманами осмотрел крейсер и нашел, что старшему офицеру придется много поработать, чтобы крейсер был в порядке.
– Грязновато там, где не на виду! – говорил он боцманам.
– Это точно, ваше благородие! – соглашались оба.
– Так отчего же эта грязь?..
– Не требовал прежний старший офицер!
– А я буду требовать!
В тот же вечер «новый» нечаянно услыхал, что оба боцмана посмеивались над ним, уверенные, что он только сначала «хорохорится», и заметил, что в кают-компании с ним все были сдержанны и сухи.
А Непобедный рассказывал о каких-то новых порядках, которые завел на каком-то острове какой-то Дон-Кихот.
«Пробуют», – подумал Артемьев и не обратил ни малейшего внимания.
Часов в девять он съехал на берег. Отправил телеграмму и зашел в ресторан одного из лучших отелей.
Он сел за столик, лениво отхлебывал портер и, мрачный, посматривал на публику, как вдруг к нему подошел в статском платье Кауров. Он был несколько красен, но не пьян.
– Позволите на минуту подсесть, Александр Петрович?
– Пожалуйста, Иван Николаич!
И Артемьев как-то виновато и ласково улыбнулся. А Кауров, посмеиваясь, рассказывал:
– За обедом Марфа Посадница жаловалась адмиралу на вас. Еще бы! Не прикладывались к ручке… Не титуловали… За ее пакостные намеки назвали сплетницей. Хвалю… Она и насчет этого прошлась… да и обо всех ваших поступках «вообще». Гости… А, верно, уж было накаливание a part [35]35
Усиленное (франц.).
[Закрыть]…Так вы имейте в виду и завтра подтяните крейсер… Приедет адмирал и будет придираться. Ну, а вам, Александр Петрович, «пофартило». Послезавтра уйдете от адмиральши в крейсерство на Север. Это не наш адмирал придумал… Берендеев приказал из Петербурга.
– Очень вам благодарен, Иван Николаич… Не угодно ли стакан портера?
– Стакан… я уже порядочно выпил этих стаканов… а впрочем…
Кауров пригубил стакан и сказал:
– А я ведь, Александр Петрович, собственно говоря, не для этого предупреждения подсел к вам…
У Артемьева екнуло сердце.
– Моя Вавочка вас того… приоболванила? Втемяшились?
– Да, Иван Николаич!
– И шлем без козырей?
– Вроде этого…
– Вавочка умеет. Без этого скучно… Особенно если сама увлечется… А вы, слава богу… чего лучше мужчина! Разумеется, для вас первого она пожертвовала супружеским долгом и познала настоящую любовь… и, верно, развода хочет с постылым Иваном Николаичем и с вашею Софией Николаевной… одним словом, роман… Но только вы этому не верьте… Когда она вам говорила или писала – она верила. А затем… Много было этих первых жертв… знаете ли, по привычке, как боцмана прежде ругались… Ну, и интереснее каждому любовнику быть первым… Но… на кой черт ей бросать мужа?.. Содержание ничего себе… Вернется, и ему хватит. И не приедет она в Нагасаки. И вы, милый человек, не впадайте в меланхолию… Я вот давно привык… Ничего не поделаешь… Есть же такие женщины… большого сердца… Верьте, не приедет сюда… И знаете ли почему?
– Почему?
– Вавочка теперь подковывает Нельмина… Того и гляди, еще женит на себе… Ну, будьте здоровы, Александр Петрович.
С этими словами Кауров ушел.
XIV
– Здорово, молодцы!
Адмирал крикнул свое приветствие громко, отрывисто и щеголевато весело, видимо уверенный, что одно появление его обрадует команду крейсера «Воин», выстроенную во фронт, в это погожее солнечное утро на рейде Нагасаки. Даже и немногие немолодцы немедленно станут молодцами после этого подбадривающего оклика во всю силу густого, зычного голоса.
Он обходил фронт решительной походкой и взглядывал на матросов орлом, приподняв голову в белой фуражке с большим козырьком, к которому по временам прикладывал три пальца своей громадной белой руки.
Огромного роста, атлетического сложения, с крупными чертами моложавого и еще очень красивого, свежего и румяного лица, с большой окладистой русой бородой, Пармен Степанович Трилистников имел необыкновенно мужественный, молодецкий вид энергичного, властного адмирала.
При виде его никто и не подумал бы, что он находится в позорном повиновении адмиральше, трусит ее и с большим апломбом повторяет ее слова, считая их собственными.
Матросы рявкнули, словно оглашенные, как один: «Здравия желаем, ваше превосходительство», но в энергическом и отрывистом вскрике ста шестидесяти человек только слышалось: «рааар, двааа, ство!»
И напряженно выпученные глаза их так впились в адмиральское лицо, точно действительно хотели съесть его от радости – до того хорошо были выучены матросы «Воина» встречать и провожать начальника эскадры.
Адмирал был доволен от произведенного им впечатления. Недаром же, здороваясь с матросами, он называет их молодцами. Но не на всех судах его эскадры так восторженно вскрикивают.
Адмирал даже забыл в эту минуту, о чем наказывала ему адмиральша; он не хмурил бровей и не делал глубокомысленно-глупых глаз. И, словно бы желая осчастливить и капитана, который как шарик катался за величественной фигурой его превосходительства, адмирал, полуотвернувшись, сказал капитану на ходу:
– Молодцы у вас, Алексей Иваныч…
– Точно так, ваше превосходительство. Молодцы!
– Главное: дух, Алексей Иваныч!.. Дух-с!
Сопровождаемый капитаном, старшим офицером и молодым мичманом, адмиральским флаг-офицером, адмирал спустился вниз осматривать крейсер.
Матросам скомандовали разойтись.
Все молодые, приодетые в чистые рубахи и штаны, с новыми фуражками на головах и более тщательно вымытые, подстриженные и побритые по случаю «внезапного» посещения адмирала, обыкновенно узнаваемого на судах эскадры накануне, матросы разбились по кучкам на баке.
По обыкновению, разговоры начали с адмирала, которого уже давно не видали на крейсере и которого матросы на эскадре прозвали фамильярной и, казалось, совсем несоответственной здоровенному и мужественному виду адмирала, кличкой «Пармешеньки».
Придумал эту кличку рулевой Векшин.
Пустивши ее, он объяснил на баке, что услыхал кличку на берегу от ребят с «Олега». И никто, конечно, не сомневался.
Это был смирный, тихий и усердный чернявый матросик, худощавый и невзрачный, с едва уловимым лукавством в блеске его сторожких карих глаз и необыкновенно боязливый перед начальством. Вел он себя, как сам говорил: «очень аккуратно, чтобы не вышло каких-нибудь неприятностей».
И в то же время Векшин любил пофилософствовать, и предпочтительно насчет порядков на службе и начальства. Трусил, как заяц, всяких «неприятностей», даже малодушно лебезил – и все-таки предавался мечтаниям и на начальстве изощрял свою выдумку на клички, предоставляя славу авторства кому-то неизвестному. Но зато про себя радовался, что прозвища господ нравятся на баке и разносятся по судам эскадры. И он удовлетвореннее мурлыкал какую-то песенку, вдумчиво поглядывая на бездонное небо.
Только с своим закадычным другом, марсовым Бабушкиным, делился Векшин своими, как он выражался, «загвоздками», которые лезли в его беспокойную душу. Но даже и другу не признавался в выдумке.
И теперь, когда начальство было внизу, Векшин подошел к Бабушкину и, оглядевшись, где боцман, спросил, понижая голос:
– Видел?
– А что?
– Слепые вы все разве?.. Ведь вовсе полагает о себе, быдто и взаправду «орел»… И форц-то какой…
– И диковина, братец ты мой! Обмозгуй-ка.
– Про что, Нил?
– Такой ахтительный бык и позволяет помыкать собой бабе… Хучь бы молодой… А то… «пучеглазая ведьма»!.. Как это понять?
– И очень даже пойми… «Пучеглазая» недаром у нас за адмирала. Она мужчинского характера и с умом и с амбицией… В строгости держит своего «Бык-Быкыча», даром что с лица не лестней акул-рыбы… Чуть что – и по загривку… Не смей бунтовать. Я, мол, княжеского рода и богатеющая шла за тебя… А окромя бычьего твоего вида никакой, мол, у тебя амуниции. Адмиральский вестовой обсказывал, как «Пучеглазая» его учит. Я, мол, с большим понятием, а тебе, говорит, милуше, богом отпущено в обрез только, говорит, едва хватит для лейтенантского звания. Ты, говорит, из-за меня и в адмиралы вышел… Показывай себя, какой ты у меня «тамбурмажористый» человек, а говорить не говори… Только похвали или поругай. И кушай, говорит, до отвала, какую хочешь скусную пищу, дуй, говорит, самые дорогие вина, играй в карты, одно слово… Денег, говорит, у меня много, и дом у меня в Петербурге – вроде быдто дворца… Знай пользуйся – и только чтобы находился в постоянном моем повиновении и состоял, говорит, при своей верной супруге в самом полном законе. Чтобы никаких подлостей… И что бы, говорит, вышло без меня из такого статуя?
– Что ж он?
– Что ж ему? Знает, мол, «Пучеглазую», молчит. И какая ему жизнь без нее?.. И какой ему ход?.. И опять: уж зазнался в богатстве, что вошь в коросте… Как-никак, а все-таки – надо правду сказать, – «добер», если бы не «пучеглазая». То-то и пойми, братец ты мой! – закончил Векшин, завидя подходившего боцмана.
Нечего и говорить, что Векшин, передавая слова адмиральского вестового, пользовался ими как канвой, на которой рисовал узоры своей фантазии. Но как бы то ни было, хотя бы адмиральша в действительности и не «учила» адмирала так, как рассказывал Векшин, но его выдумка не лишена была художественной правды и отвечала потребности возмущенного и трусливого сердца.








