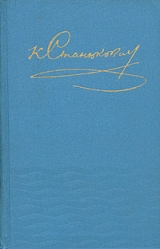
Текст книги "Том 10. Рассказы и повести"
Автор книги: Константин Станюкович
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 31 страниц)
«Сердцем добер, так и верит другому сердцу. Брешет, верно, его матроска», – подумал боцман.
Но ему не хотелось нарушить веры матроса, и он, не решаясь перед серьезно больным высказать свои взгляды на силу бабьей привязанности, осторожно спросил:
– Небось, зовет тебя в Кронштадт?
– Звала, даже очень звала. Приезжай, мол, я за тобой как нянька буду смотреть. Да потом спохватилась. Тебе, мол, тепло нужно. Вот если бы перевестись в черноморский флот, так она бы обязательно приехала в Севастополь.
«Ладно, приедет к тебе», – подумал боцман и спросил:
– Насчет этого отписывал ей?
– Отписывал.
– Что же она? – возбужденно и жадно спросил боцман.
– Рада, очень рада, да сомневается, как бы уж вышел перевод. Ну и опасается бросить Кронштадт. А ведь она там торговкой на рынке.
В эту минуту боцман вспомнил, что и его звали в Кронштадт, и точно так, как и Пояркову, советовали скоро не возвращаться.
«Брешет», – озлобленно подумал боцман и с особенным участием стал подбадривать рулевого. Он говорил, что больной скоро пойдет на поправку, его переведут в Севастополь, и жена тотчас же приедет к нему.
– Всего ведь восемь рублей переехать. Небось, найдет.
Больной любовно смотрел на боцмана и предложил ему, коли нужно, написать весточку в Кронштадт.
– Некому, – резко ответил боцман.
– Разве, Арсентий Иваныч, ты одинокий?
– Одинокий.
– Трудно, должно быть, одинокому, Арсентий Иваныч. То-то ты и не подаешь претензии на доктора. А то должны отправить. Нынче ведь права.
– Там видно будет. И давно ты женатый?
– Шесть лет, Арсентий Иваныч.
– Давно. По нынешним временам и вовсе много. А ты ишь какой благополучный.
И в голосе боцмана звучала завистливая нотка.
– Пофартило, Арсентий Иваныч. Да и чего, ежели по правде говорить, меня обманывать? Не привержена, так прямо и скажи. Больно, да зато сразу. По крайней мере совесть есть.
– Тут, братец ты мой, совесть совестью, а есть и другая загвоздка. Есть и такая баба, которая по совести виляет хвостом, и привержена, мол, а затем: простите, мол, ошиблась, очень, мол, душе больно. И духу в ей не хватит, что так, мол, и так – кум есть. А понять не может, как обидно, что она заметает хвосты. Да еще и тебя обвиноватит; ты, мол, зря обнадежен, не понимаешь, мол, какая я распронесчастная баба. И взаправду беда ей.
IX
Прошло три дня.
Боцману стало лучше. По ночам он тосковал по-прежнему, но галлюцинаций не было. Доктор «Нырка» раз посетил боцмана и сказал ему, что он глядит совсем молодцом. Скоро будет здоров вполне.
«Так и ври, зуда. От себя не убежишь».
И, обратившись к доктору, сказал:
– Дозвольте явиться на «Нырок».
– Как, что, почему? – засуетился доктор. – Ведь я тебе говорил, что здесь лучше. Разве здесь нехорошо?
– Дозвольте явиться на «Нырок», – снова и уже настойчиво проговорил боцман.
– Нельзя, хуже будет.
– Дозвольте, вашескобродие.
– Никак не могу.
– Я тоже, вашескобродие, не могу. По моему малому рассудку без вашего дозволения уйду. Явлюсь к старшему офицеру и отлепортую.
Доктор внимательно взглянул в глаза боцмана, и, казалось, в глазах больного не было ничего такого, что могло бы грозить больному еще сильнейшим расстройством нервов. И доктор наконец сказал:
– Ну и черт с тобой. Но помни, если кому-нибудь сдерзничаешь, с тебя строго взыщут. Это – не берег.
– Очень хорошо понимаю, вашескобродие.
– И в Кронштадт тебя не отправят. Буду лечить тебя на клипере.
Часа через два за больным приехал мичман Коврайский.
Боцман обрадовался.
А Коврайский тоже радостно сказал:
– А я, Антонов, уже говорил и старшему офицеру и капитану насчет отправки тебя в Кронштадт. «Грозящий» уходит через два дня в Россию.
Но, к удивлению мичмана, боцман не только не обрадовался, но стал угрюмее и мрачнее.
– Много вам благодарен, ваше благородие, но только, может, я в Кронштадт и не желаю.
– Не желаешь? – изумился мичман, уже кое-что прослышавший от фельдшера, почему именно так тянет боцмана в Кронштадт. – Да ведь ты просился?
– А теперь не желаю, ваше благородие.
– Ну, как знаешь. Только смотри, голубчик, не надрывайся на клипере; все-таки отдохни, в лазарете отлежись.
– Нет уж, ваше благородие, лучше при деле буду, а то доктор заговорит, ваше благородие.
– Ну, как знаешь, а если хочешь, тебя флагманский доктор посмотрит. На днях адмирал будет в Неаполе.
– Что смотреть, никакой доктор не поможет от тоски, – проговорил боцман, и голос его звучал такой тоской, что мичман не смел больше ни о чем его расспрашивать.
X
Матросы боцмана встретили приветливо.
Старший офицер приказал ему все-таки отдохнуть и лечь в лазарет. Но боцман решительно просил править свою должность.
– А то, вашескобродие, без дела опять заболеешь.
– А что, доктор позволил?
– Никак нет, вашескобродие, обсказал: ложись в лазарет.
– Так как же я отменю распоряжение доктора?
– Дозвольте, вашескобродие.
– Ну, подожди. Я прежде переговорю с доктором, а в госпитале тебе, конечно, было скверно.
– Еще бы, вашескобродие.
– Я постараюсь отправить тебя на родину.
– Нет, вашескобродие. Пока что до отправки останусь.
– Не тянет?
– Везде одна тоска, вашескобродие.
Старший офицер участливо взглянул на боцмана и спросил:
– Ты ведь, кажется, не женат?
– Точно так, вашескобродие.
– Оно и лучше, братец ты мой.
И как-то грустно прибавил:
– Тоже не всегда и женатому хорошо.
– Точно так, вашескобродие. Видел в Кронштадте, как живут семейные люди. Одна пакость. Обманывают друг друга в самом лучшем виде. По-собачьи живут.
– А ты думаешь, почему?
– Облыжности много, вашескобродие. Больше по своей мужчинской подлости и почитают бабу. Оттого между ими ничего кроме этой самой подлости и нет.
И боцман, словно бы решая какой-то занимающий его больной вопрос, спросил:
– Осмелюсь спросить, вашескобродие, верно, у господ семейные люди живут не по-собачьи?
– Ишь ты какой любопытный. А ты как думаешь?
– Полагаю, что всякие и между господ, вашескобродие.
– Правильно. Часто люди зря женятся… – задумчиво промолвил старший офицер, семейная жизнь которого была далеко не из сладких.
– И нет друг о друге настоящего понятия. А главное – ни за что друг друга обижают!.. Так дозвольте не идти в лазарет?
– Ну ладно. Знаешь, что я тебе скажу, Антонов, лучше и ты не сделай глупости, – полушутя, полусерьезно сказал старший офицер.
– Какой, вашескобродие?
– Не женись. Очень уж у тебя обидчивый и подозрительный характер.
Боцман вспыхнул.
– Какая дура польстится на старого человека, вашескобродие?
– Зато старые сами льстятся.
– Дураки и есть, вашескобродие. Зато их и обчекрыживают. И поделом, а главная причина – понимай, кто ты такой есть, и ушей не развешивай.
Старший офицер, который сам очень развешивал уши, когда его молодая, пригожая жена, провожая в дальнее плавание, особенно горячо уверяла в своей любви и вскоре по уходе мужа написала ему письмо, в котором в довольно туманных выражениях намекала, что она, к сожалению, не так сильно любит его, и уверяла в своей безграничной дружбе, – старший офицер, словно бы понимавший, что и боцман находится в том же положении, как и он, проговорил, напуская на себя решительный вид:
– Вот и молодчага, так с бабами и надо действовать. Если она тебя «обчекрыжила», ты и наплюй.
«Ты-то плюнул… Вовсе вроде как бы подвахтенный у своей женки; она ему пишет-пишет, а он верит и ей отписывает письма; из каждого порта депешу да депешу, и супруга депешу, и оба не по-настоящему. И отчего это люди так врут?» – подумал боцман и доложил старшему офицеру, принимая официальный вид:
– Прикажете, вашескобродие, ванты тянуть? Дали ослабку.
– Да уж ты пока оставь, я прикажу Иванову. Ну, ступай; чуть станет тебе хуже, скажи мне.
– Есть, вашескобродие.
И боцман вышел из каюты старшего офицера.
А Иван Иванович присел у письменного стола, любовно взглянул на большую фотографию, висевшую над койкой, потом прочитал несколько писем жены и произнес:
– Вот почему теперь о дружбе. Верно, новое увлечение. В этом вся и разгадка.
И Иван Иванович задумался.
XI
Должно быть, боцман сильно понадеялся на свои силы, распоряжаясь работами, потому что к вечеру почувствовал себя усталым, и главное – в уме его мысли как будто путались и зрение мутилось.
Приехавший с адмиралом флагманский врач вместе с Приселковым осмотрел боцмана.
К вечеру к боцману зашел старший офицер и сказал:
– Ну, братец ты мой, они решили, что тебе на клипере оставаться нельзя. Лучше тебе снова на берег, в госпиталь.
Боцман опешил. Несколько секунд он молчал и только подозрительно пристально смотрел на старшего офицера.
И, внезапно охваченный бешенством, он, стараясь сдержаться, воскликнул:
– Это по каким же правам, вашескобродие? Бабьи штуки, что ли? Так я на это не согласен, вашескобродие! Вы с ими заодно? Думаете, я – нижний чин, так можете тиранствовать человека. Я права найду! – и почти бешено крикнул: – Вон!
И прибавил непечатное слово.
На кубрике и на палубе ахнули.
В ту же минуту сверху прибежал унтер-офицер и сказал старшему офицеру:
– Адмирал требует.
А на мостике низенький, худощавый и строгий адмирал раздраженно и резко говорил капитану:
– Это у вас что за безобразие? Вот до чего распущена команда! Такая неслыханная дерзость. Немедленно его в карцер и отдать под суд. Вы на что тут старший офицер? – крикнул адмирал подошедшему Ивану Ивановичу.
– Он – сумасшедший, ваше превосходительство, – почтительно ответил старший офицер.
И в ту же минуту вспомнил письмо жены и подумал, что он сам, как и боцман, может сойти с ума.
– Пусть доктора осмотрят. Если он сумасшедший, то почему вы его держали на клипере? – обратился адмирал к подошедшему доктору.
– Он – не сумасшедший.
– Так, значит, бунт?
Старший офицер взглянул на доктора, и презрение стояло в глазах моряка. «Ученая скотина», – подумал он и доложил адмиралу:
– Разрешите, ваше превосходительство, до нового осмотра докторов не садить боцмана в карцер. Я его хорошо знаю. Он не позволил бы себе такой выходки, если бы был здоров.
– Это черт знает что такое! На военном судне – и такое вопиющее нарушение дисциплины.
И, после секунды раздумья, адмирал прибавил:
– Конечно, я был бы очень рад, если бы вы, доктор, ошиблись, и боцман оказался бы сумасшедшим. Пусть его сейчас осмотрят. – И с этими словами адмирал спустился.
– Ведь иначе бедняге пришлось бы подвергнуться жестокому наказанию. По закону – смертная казнь, – проговорил капитан.
Мичман Коврайский восторженно взглянул на уходящего адмирала и, взволнованный, умоляюще прошептал доктору:
– Что вы хотите делать? Ведь адмирал вам подсказывает: найдите больного сумасшедшим.
– Это уж не мое дело. Я высказал мое мнение, как велит мне наука.
– А совести у вас нет? – чуть слышно, возбужденно прибавил мичман и бросился к старшему офицеру.
– Иван Иванович, спасите человека.
Старший офицер ласково взглянул на мичмана и строго сказал ему:
– Скажите боцману, что его сейчас осмотрят. – И тихо прибавил: – Успокойте беднягу, он ведь к вам, кажется, расположен.
XII
Через час в лазарете собрался консилиум. При освидетельствовании боцмана были адмирал, капитан, старший офицер и мичман Коврайский.
На все вопросы флагманского врача о здоровье боцмана, тот отвечал вполне здраво, только несколько возбужденно.
– Я уже докладывал вам, Александр Александрович, – не без апломба проговорил Приселков, обращаясь к капитану.
Все молчали.
Только адмирал недовольно пожал плечами и сказал:
– Во всяком случае пока не сажайте его в карцер.
И, обратившись к флагманскому доктору, по-французски сказал:
– По-моему, он сумасшедший.
– И я так думаю, ваше превосходительство, – поспешил поддакнуть старший флагманский врач.
XIII
В тот же день боцмана допрашивала следственная комиссия. Большинство членов ее признало, что преступление было совершено в припадке умопомешательства.
– Вы видите, милый мичман, спасли человека, – сказал потом в кают-компании старший офицер.
– Спасли ли только? Ведь от тоски он все-таки не избавится.
– Да и в Кронштадте ему не радостная жизнь. Бедняга! – угрюмо прибавил старший офицер.
Оба хороши *
Посвящается Н.Н. Фирсову (Л. Рускину)
I
Шторм ревел целую неделю.
Обледеневшие пароходы и парусные суда прятались от бури в закрытых рейдах и бухтах Черноморского побережья или отстаивались в море, стремительно раскачиваясь на вытравленных канатах своих якорей.
Моряки, напряженно-серьезные, зябли на ледяном норд-осте и чаще вспоминали бога, берег и близких.
II
В этот ледяной шторм в большой, холодной комнате дома, у самого моря, близ Алупки, ходил взад и вперед высокий, крепкий, слегка сутуловатый старик с длинной седой бородой. Он то и дело выходил на террасу и взглядывал своими острыми, небольшими, загоравшимися злым блеском глазами на бушующее море.
Прибойные волны как бешеные вздымались на высоту, и их седые верхушки заливали берег и обкатывали окна нижнего этажа.
Водяная пыль обдавала худое морщинистое лицо старика, но он, казалось, не обращал на это никакого внимания.
Он снова прислушивался к гулу бури, снова взглядывал в седые беснующиеся волны, возвращался в залу и снова шагал взад и вперед, опустив свою седую голову. Из груди по временам вырывались тяжелые вздохи. По временам старик встряхивал свою голову, словно бы отгоняя тяжелые мысли, приникал к окну и задумывался.
Вот уж три года как живет в этом небольшом доме у моря Алексей Иванович Долинин.
Он живет одиноко, почти никто его не навещает.
Нелюдимый, и он никуда не ходит. Днями он шагает по комнате и с террасы любуется морем, а по долгим бесконечным вечерам, когда нередко завывает ветер в трубах и раздается визг ставней и дверей, он сидит в кресле за книгой. Но часто он отрывается от нее и думает какую-то долгую думу.
Все в этой местности знают, что Алексей Иванович Долинин – из Петербурга.
Благодаря нелюдимости Алексея Ивановича его прозвали хмурым барином. Про хмурого барина сложились целые легенды.
Одни говорили, что он – бывший сановник; другие, что он – просто профессор-чудак, имевший какие-то семейные неприятности и потому живший одиноко в Крыму; третьи наконец считали Долинина тронутым. Но все решили, что он беспокойный и неприятный человек, избегавший знакомств с соседями и друживший только с татарами.
III
Сегодня хмурый барин был особенно мрачен и раздражителен. Он то и дело дотрагивался до электрического звонка.
Когда входил, ловко и мягко ступая по комнате, старый, низенький, сухощавый, поджарый татарин Абдул, живший у Долинина несколько лет, старик резко спрашивал:
– Почтальона не было?
– Не было, бачка, – неизменно отвечал татарин.
– А почта не проезжала?
– Сейчас проехала.
И, заметив, что Долинин омрачился, татарин ласково прибавил:
– Еще, может, тяжелая почта подойдет, тебе и будет письмо, а ты дурные мысли брось. Аллах все переменит. Твой аллах такой же, как и наш. Захочет накажет, захочет простит. А хочешь, Абдулка отнесет на станцию телеграмму, и ответ получишь. Только напрасно монеты бросаешь.
– Не надо, – ответил Долинин.
– И хорошо. Монеты даром не уйдут. А пора тебе, бачка, есть, уже первый час, а ты не евши.
– Не хочу.
– Так хочешь я сбегаю в Байдары. Твоего знакомого барина позову?
– Спасибо. Не надо.
– «Не надо, не надо»… так один и останешься. Вовсе заскучаешь. Ты послушай Абдулку: как человек один, всякая дурная мысль и пойдет в башку. Даже и коза и баран не любят одни.
Алексей Иванович улыбнулся и почти нежно проговорил:
– И чего ты со мной, Абдул, остаешься? Жалованье получаешь маленькое, подарков не делаю, а ты вот ходишь за мной как нянька… Уходи, и я, брат, не буду сердиться… Я знаю тебя. В Симеизе тебе предлагают место садовника, там и больше карбованцев… и жить там на большой даче лучше… И народ… А здесь, с хмурым барином, эко веселье… Оставляй меня лучше.
– Тебе хорошо и мне хорошо. Даром что Алла строгий к чужой вере. Помню, что ты коня мне купил и дочку вылечил. Добро-то я помню.
– И дурак ты, Абдулка, что помнишь, – резко сказал Долинин. – Лучше не помнить. И тебе веселее будет. И карбованцев больше.
– И худо ты Абдулку понимаешь. А еще ученый человек и говорил, что ваш аллах добрый… Так сбегать?
– По этакому-то холоду?
– Оделся в тулуп и айда!
– Не нужно, не ходи.
Хмурое лицо Долинина осветилось мягкой улыбкой. Он порывисто пожал руку татарина и отвернул от него взволнованное лицо.
Раздался сильный стук за дверями. Татарин выбежал.
IV
Через минуту в комнату вошел молодой человек в полушубке, с закрасневшимся от холода лицом, и быстрыми шагами направился к Долинину.
Перед ним был его сын Николай.
Словно бы нарочно, старик стал еще хмурее.
– Пожаловал? – сдержанно и, казалось, недовольно спросил старик.
А у самого сердце билось от радости.
Он протянул свою маленькую, белую барскую руку, отстраняясь от поцелуев сына, и спросил:
– Верно, едешь в Севастополь?
– Нарочно приехал проведать, слышал, что ты болен.
– Что ж, спасибо. Очень рад. Абдул, поскорей самовар! Да скажи Марфе, чтобы живо закусить. Я, братец, обедаю в три, а ты, может быть, проголодался… Преуспеваешь, конечно? – с иронической ноткой произнес старик.
– Ничего себе. По-прежнему доцентом.
– А я, как видишь, не преуспеваю. Кури, брат. Что ж, Абдулка, не дают! Да скорей!
И нетерпеливый старик выбежал из комнаты распорядиться.
V
Курчавый и красивый брюнет, лет под тридцать, снял с себя полушубок и остался в щеголеватой дорожной австрийской куртке на меху.
Он внимательно оглядел плохо прибранную комнату с большим письменным столом посредине, на котором стояла большая фотография какой-то красивой молодой женщины и в беспорядке лежали книги и журналы. Везде валялись окурки папирос, везде был пепел и много пыли. Все в этой комнате напоминало о заброшенности старика.
В голове молодого человека невольно пробегали мысли о прошлом времени, когда еще он мальчиком-гимназистом был другом отца и любил его безгранично. Отец тогда, казалось, любил без памяти сына, не раз разговаривал с ним и советовался, как с равным. Нередко он вместе с ним готовил уроки, ездил с ним на шлюпке под парусами, рассказывая сказки и интересные истории. Тогда они были неразлучны…
А потом…
У молодого человека уже не было той любовной жалости, которая прежде по временам загоралась в сердце мальчика, когда отец, бывало, тосковал и прихварывал. Но зато теперь молодой человек стал серьезнее и гораздо проще и трезвее смотреть на отца. Он видит его не в прежнем идеальном свете. Ореол уже исчез.
«А все еще хорохорится и считает себя умнее других!»
Так подумал сын, и ему было и досадно и обидно, что отец принял его так сухо.
«Эгоистом он стал!» – решил Николай.
То же самое думал о сыне и отец, когда, вернувшись в комнату, глядел в жизнерадостное, покойное лицо сына.
«Самодоволен… конечно, считает себя безупречным… И благополучен… А я!?»
И старик напустил на себя еще большую бесстрастность, когда спросил:
– По-прежнему у вас нынче каждый за себя, а бог за всех?
– Вроде того, отец. А ты все еще не угомонился?
– Как видишь, Коля, – ответил старик и прибавил: – Пей лучше чай и закусывай… Я нарочно заказал для тебя битки в сметане. Ты любишь, кушай, а то поругаемся.
– Действительно я голоден.
После закуски Николай осведомился о делах отца.
Отец поморщился, точно от зубной боли, и ничего не ответил.
– Может быть, тебе нужны деньги? Так я могу.
У старика закипела злость. Он вспомнил, что ради этого сына, когда тот был мальчиком и заболел, он закладывал последние вещи и потом для него готов был снять рубашку, а Николай теперь вместо того, чтобы прислать отцу денег, спрашивает, нужны ли они ему.
– Спасибо! Мне денег не нужно… – промолвил Долинин. – Бывали плохие дни, так у меня банкир есть.
– Банкир? Где ты и здесь отыскал банкира? – не без улыбки спросил Николай.
– А вот этот самый Абдулка где-то достает. И смотри, какой дурак этот татарин, – иронически усмехнулся старик, – не спрашивает, нужны ли деньги, а приносит до пенсии. Ну, а твои как дела, Николай?
– Я, отец, по одежке протягиваю ножки, – ответил Николай.
– Молодец! Рад, что ты не в меня. Надеюсь, долгов у тебя нет?
– Ни гроша! – не без горделивости ответил Николай.
– Ну, а я, – произнес старик, – бываю легкомыслен. Долги есть и порядочные.
Прошло несколько мгновений в молчании.
Но старик, по обыкновению, не удержался, чтобы не сказать насмешливым тоном:
– Ты, конечно, в восторге от новейших гениев?
– Еще бы! Они открыли новые пути. Они описывают те ощущения и ту правду, до которой не осмеливались дойти ваши старые корифеи, те только показывали частицу правды, а не всю… А у наших писателей и смелость и сила. Они ни перед чем не испугаются.
– Действительно они ничего не боятся и показывают себя во всем самодовольном блеске невежества, – презрительно перебил старик. – Вместе с твоими любимцами ты, верно, беззаботен относительно старой литературы?.. Идей в художестве не нужно? Одни настроения? Разумеется, и модная певичка для вас предмет поклонения?
– Отчего ж, если талант.
– Вот от таких-то талантов во всех видах вы и приходите в телячий восторг. Они для вас и учители жизни. От каждого невежественного и необразованного гения, незнакомого даже ни с каким учебником истории, вы ждете ответа на те жгучие вопросы, над которыми работали гениальные люди во все века… Впрочем, что же мудреного? Ведь всегда найдутся десять болванов, которые произведут одиннадцатого в гении… Да, у вас позорное понижение литературного вкуса. Толстой для вас уже устарел. Вы даже не понимаете всей силы гениального писателя. Ну, скажи по правде, ты читал Шекспира? Читал Гоголя? Слышал о Добролюбове и Чернышевском? Читал ли когда-нибудь о том, как устроилась жизнь людская и почему она для большинства невозможна? Заговорила ли когда-нибудь в тебе потребность искания правды? Возмущала ли тебя несправедливость? Нет! Я видел только трезвенное отношение… трусливость животного, боящегося за свою шкуру, – трусливость, которую вы прикрываете рассуждениями, основанными, разумеется, на настроениях и якобы на науке… И еще мало унижает тебя твой патрон. С вами все можно! – раздраженно воскликнул Долинин. – Конечно, он другим, по-твоему, быть не может, такой темперамент и такова неумолимая сила инстинктов домашнего прирученного животного. Подобные объяснения вдобавок крайне удобны и могут все объяснить… Даже предательство Иуды…
– Отец, ты опять ругаешься… Верно, печень? Или ты получил какое-нибудь интересное письмо? – ядовито прибавил Николай. – Лучше не будем говорить.
– Ты прав. Не будем.
И старик почувствовал, что сын – почти чужой ему. Прежней беззаветной любви, которая была у отца раньше, когда Коля был мальчиком, теперь не было. Между ними была какая-то пропасть, и она не могла заполниться привязанностью отца.
Николай, казалось, не оскорбился и начал рассказывать о своих работах, о знакомых, о музыке, но о литературе как будто боялся говорить, чтобы не раздражать отца. Обходил и другие вопросы, на которых они могли разойтись.
Виноватый и болезненный вид старика, казалось, тронул сына. Он видимо жалел, хотя внутренно и слегка презирал его.
VI
А чуткий старик еще более раздражался и тоже, как и сын, старался сдерживаться.
Но все-таки не мог не искривить своих губ, когда спросил:
– Ну, а что поделывает твой двоюродный братец и друг Вася?
– Он в Италии.
– Болен?
– Нет, здоров.
– Поехал туда как художник? Работать?
– Нет, не работает.
– Что же он там делает?
– Нюхает розы и лилии… Смотрит на море. Любуется облаками.
– В том и все его занятие?
– Вася любит природу.
– А люди его не интересуют?
– Разве он виноват, что интересует его одно, а не другое.
– И болван! – внезапно закипая гневом, воскликнул Долинин. И, окидывая сына презрительным холодным взглядом, прибавил:
– Конечно, и ты одобряешь занятия двоюродного братца?
– Я не одобряю и не порицаю.
– Безразличие? Да разве ты не отличаешь черного от белого?
– Кажется, умею, как и ты. Но мы можем иметь разные фокусы зрения.
– А когда бьют человека? У тебя тоже разные фокусы зрения?
– Все зависит от нашего настроения и обстоятельств.
– Конечно, ты будешь, Николай, счастливее. А если еще со временем поглупеешь, то окончательно будешь счастлив, как Иванушка-дурачок… Сказка справедлива… Особенно по нынешним временам… Ум не в авантаже, если вдобавок при нем есть совесть. Впрочем, это слово упразднено. Только настроения и физиология. Молодцы вы стали! Главное, ума у вас мало. Впрочем, «это от бога».
– Значит, ты и неудачник оттого, что слишком умен? – спросил, раздражаясь, Николай.
– А ты как думаешь?
– Думаю, что каждый человек пожинает то, что посеял. Иначе говоря, поступки являются результатом темперамента и натуры.
– Шопенгауэра начитался? А принципов и внешних обстоятельств не признаешь?
– Кажется, ум и заключается в том, чтобы человек мог бороться с обстоятельствами именно в то время, когда эта борьба возможна. Если не умеешь плавать и бросишься в воду, неминуемо погибнешь. Кажется, это ясно, как дважды-два – четыре… А ты хочешь от нас…
– От кого от вас? – нетерпеливо и озлобленно перебил Долинин.
– Хотя бы от меня, – ответил Николай. – И, прости, отец, меня удивляет твое высокомерие. Теперь точно в моде говорить о молодежи с презрением.
– Неправда! Не о всякой молодежи. Есть славная молодежь. Она доказала и на голоде и на холере. Я говорю о новейших настроениях у некоторой части молодежи и особенно у молодых «сверхчеловеков».
Николай не слушал отца и, оскорбленный, продолжал:
– Мы, мол, в героев, а вы пошляки. Право, отец, это неубедительно и даже старо. Положим, что мы в герои не лезем, не принимаем на веру никаких красивых фраз… Мы поняли, что они ни к черту… Мы верим только науке и настроениям своей души. Жизнь – равнодействующая всевозможных естественных сочетаний во времени и пространстве. Все должно иметь причины. Я чувствую в своей душе своего бога, и мое мировоззрение не похоже на твое.
– Ну, еще бы!
– Ты, конечно, уверен, что вы нашли истину. А мы знаем, что только ее ищем. И если наши искания тебе не нравятся, то почему ваши должны нравиться нам?.. И почему они лучше? А главное, чего вы достигли? Ни людям, ни себе. А уменье заботиться о себе, в то же время заботясь о других? Скажи, на каком основании со своей истиной ты так озлоблен и один? Даже тот, которого ты считаешь единственным другом, как кажется, только пишет ласковые письма.
Старика передернуло, особенно от напоминания сына об «единственном друге». Скулы на его лице задергались, глаза блеснули злым блеском, и он сдавленным голосом, полным злости, проговорил:
– Я вижу, что в твоей переоценке я заслуживаю приговора.
– Мы не приговариваем, отец. Мы только констатируем. Приговариваете вы, и как жестоко. Мы живем, как велит жизнь. Кто силен, здоров и умеет бороться, тот и достигает намеченной цели. Довольно нам возвышенных стремлений, когда нужно жить! Мы – не ангелы, но стремимся к божеству, живущему в нас, как и во всяком существе и растении. И что же ты сделал, чтобы мы были иными? – спросил Николай.
Старик призадумался.
«В самом деле, что же я сделал?» – подумал отец.
А между тем сын продолжал:
– Ты правды не любишь. Любишь говорить свою правду только другим, а мы или восторгайся вами, или не смей говорить то, что думаешь. Всю жизнь говорите о свободе мнений, а только что откроешь рот – дурак. И ведь многих уверили, что соль земли – вы, оттого только, что прогулялись в отдаленные места или бросили профессуру по независящим обстоятельствам. Вы думаете, что решаете социальную проблему, хвалитесь тем, что можете питаться медом и акридами, и в то же время в душе мечтаете о богатстве, о прелестях роскошной жизни, о женщинах… ты…
– Ну что ж, ты, слава богу, умник – говори. Правды не побоюсь. Даже прошу, – остановил сына отец.
– К чему же? Тебя не убедишь.
– Попробуй. Очень рад буду наконец понять, что ты хочешь от жизни, и, главное, узнать, чем мы виноваты перед вами? Разве только тем, что мы не готовили вас к разумной жизни. Ты прав. Виноваты мы. Мы думали, что вы поймете наше несчастное поколение, при котором все-таки было освобождение крестьян. Начало сделано. Вам теперь докончить его, чтобы крестьяне были действительно освобождены. А вы разве о народе думаете? Вы думаете только о собственном благополучии. Мы хоть надеялись… сомневались. А вы? Даже нет ни надежд, ни сомнений… Лучше видоизмененный вид современного, влюбленного в себя животного… Только непонятное лепетание об изгибах души, о праве свободы впечатлений и совершенное отрицание нравственного закона. Никакой задержки нет… Ну, приговаривай меня! Что ж ты молчишь? Говори же! – вдруг бешено крикнул старик.
– Ты, конечно, сам знаешь, отчего ты одинок и отчего в последнее время особенно волнуешься и злишься, и негодуешь, что семья тебе мешает, к чему же мне говорить.
– Говори! – бешено крикнул отец.
– Изволь, только прошу постараться не браниться.
– Постараюсь, – иронически ответил отец, – кстати и закурю сигару. По крайней мере подсудимому будет легче перенести судебный приговор.
VII
Молодой человек прихлебнул кофе, закурил сигару и начал:
– Ты сам заставил меня не быть идеалистом. И слава богу, по крайней мере не гоняюсь за призраками. Я признаю то, что чувствую, и из внешнего мира то, что отражается в моей душе… А ты живешь не в действительности, а в мечтах, ласкающих только твое гигантское самолюбие. Скажи по правде, разве ты мною много интересовался? Хотел проникнуть в мою душу? Понял ее искания? Ты баловал, ласкал меня, заботился, чтобы мне было материально хорошо, и все-таки я был любимый, но совсем чужой для тебя мальчик… Да ты, вероятно, и думал: «Ребенок, что он может понимать и чувствовать». А я все более и более замыкался в себе и был заброшенным, и понимал и думал про себя. Подавал ли ты сам пример того, о чем ты так горячо говорил?.. Особенно дамам, да еще красивым и которые тебя слушали, с тобою кокетничали, и ты за ними ухаживал, забывая, что вторая молодость смешна, как запоздалая страсть, и ставит тебя в глупое положение, – ядовито прибавил Николай.
– Ну, дальше, – сказал отец, когда сын примолк, прищурил свои красивые глаза и наморщил лоб, словно бы обдумывая свою дальнейшую речь.
– Так я продолжаю. Ты любишь говорить о нравственном законе и смеешься над правом человека отдаваться своим настроениям и впечатлениям. А у тебя какой же этот нравственный закон, или так называемая совесть?
Отец невольно опустил голову.
VIII
А сын, словно бы не замечая страдальческого и озлобленного лица отца, сознающего правоту обвинения, говорил:
– Тебя в семье сперва любили, потом тебя боялись. Ты всегда бывал раздражен. Не могли же дети знать о твоих всяких, – подчеркнул сын, – неудачах, но ведь ты свои личные раздражения переносил на близких. А ведь ты думаешь, что ты любишь близких, что ты добр. Положим, твой характер и темперамент от тебя не зависят, но детям-то какое дело, что у тебя такой характер и такой темперамент? От этого сознания нам было не легче. Эти резкие переходы от грубости к ласке заставляли нас сторониться, и я рано уже понял, что слова – одно, а жизнь другое. В гимназии, разумеется, я еще яснее видел разницу между тем, что говорили некоторые учителя и что делали… Мало-помалу во мне явилось то равнодушие к великим старикам, о которых ты любишь говорить, и к тебе. Везде говорили и хвалили исполнение долга, самоотвержение, любовь к ближнему, верность слову. Короче, все то, на что ловится каждое молодое сердце… А между тем ты сам был такой?








