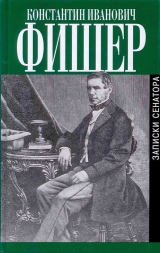
Текст книги "Записки сенатора"
Автор книги: Константин Фишер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Так вошли мы к Галямину; в передней стоял солдат и офицер; пока мы снимали шубы, вышел Галямин и отдал офицеру шпагу, а нам сказал второпях: «Не говорите маменьке». Только от старушки Галяминой узнали мы, что было. Она рассказывала с трепетом за обожаемого сына, что он получил ночью повестку явиться во дворец для принесения присяги государю Николаю, что сын не поехал, отзываясь, что в толпе ничего не значит один полковник, – но когда начался бунт, то заперли ворота, и, вероятно, станут считать, кого во дворце нет. Так это и было. Галямина недосчитывались, и потому он был арестован.
Между тем через Ростовцева знали уже накануне имена некоторых заговорщиков, в числе которых был и полковник Генерального штаба Искрицкий. Его арестовали, лакеев взяли к допросу, и один из них показал, что в минуту ареста или несколько ранее барин посылал его с запиской к Галямину. Галямин показал, что записку сжег; о содержании записки его показания не сошлись с показанием Искрицкого, и дело приняло оборот серьезный. Следственная комиссия не изобличила Галямина, но на нем осталось подозрение, и он был переведен в Нейшлотский полк, стоявший на Аланде.
Когда прошли первые впечатления, о Галямине стали намекать государю его доброжелатели, но он и слышать не хотел о нем. Через многие годы граф Нессельроде поручил Галямину разграничение Финляндии с Норвегией, – и по окончании им (очень дурном) этого поручения снова просили о прощении его; однако все эти просьбы окончились бриллиантовым перстнем; между тем Галямин, отличный офицер, замечательный пейзажист, стал пить от скуки.
Прошли еще годы. Раз государь жаловался на недостаток в русских патриотизма; повсюду видел он выставки заграничных пейзажей, а русского – ни одного! Князь Волконский заметил, что это происходило не от недостатка патриотизма, а от недостатка поощрения. Тотчас отправили к Галямину курьера за его знаменитым акварельным альбомом. Князь Волконский представил альбом государю, который был от него в восхищении. «Кто это рисовал?» – «Галямин». Но все-таки государь не согласился перевести его в Генеральный штаб. Из альбома государь выбрал некоторые пейзажи и заказал для императрицы фарфор с их изображениями, а Галямина назначили директором фарфорового завода. Странная судьба: сторож, квартальный, математик, геодез, придворный кавалер и – начальник фарфорового завода. Точно видоизменения насекомого: жук, червяк, стрекоза, бабочка, куколка!
Вступив в службу, я налег на чтение, чтобы восполнить те пробелы, на которые указало мне преподавание моих почтенных профессоров. Читал Плутарха, Гиббона, Герена, Боссюэта, Монтескье, Адама Смита, Сисмонди и пр., потом Вольтера, Кондильяка, т. е. философов, потом Скотта, Коцебу и, наконец, съехал на Редклиф и Августа Лафонтена. Романы Лафонтена, оказавшиеся впоследствии глупыми, действовали сильно на мою нервическую натуру. Плаксивые герои ненадолго пленили мое воображение, но зато рыцари оставили во мне какую-то драпировку, от которой я во всю жизнь мою не мог отделаться; беспрестанно я совался защищать угнетаемого без его просьб, или унижать, или изобличать интригу; с людьми неуважительными вел себя с намерением обнаружить им свои чувства неуважения, – и всегда портил этим себе карьеру. Впрочем, об этом я не сожалею. Духовная работа моей натуры довершилась встречей моей на 21 году с женщиной, очаровательная наружность которой изображала небесную чистоту ее сердца; хотя холодная по чувствам, она обладала воспламенительным воображением, проникавшим во всю ее женственность. Эта особа, принадлежавшая уже другому, слушала меня охотно, любила мой разговор – о любви не было ни слова – и возбудила во мне восторги выше прочих моих ощущений, вместе взятых. Неудовлетворенное чувство отняло у меня всю прелесть жизни; впоследствии оно изгладилось, но вместе с ним я потерял способность быть счастливым; все новые впечатления были вялы и бесцветны в сравнении с тем, которое впервые пробежало, как электрическая искра, по всей моей нервной системе.
В 1826 году совершился новый переворот в моей жизни. Князь Гагарин, шталмейстер и член театральной дирекции, искал секретаря. Дирекция состояла из трех членов: князя В. В. Долгорукова, графа Кутайсова и князя А. П. Гагарина. Общие дела решались этой коллегией, которая имела свою канцелярию, но, сверх того, каждому члену поручено было ближайшее наблюдение за каждою специальною сценою. Долгоруков заведовал драмою; Кутайсов – оперою; Гагарин – балетом, и для этой-то переписки нужен был Гагарину секретарь партикулярный. Я принял это место, чтобы выйти из семейной скорлупы в другую среду; для занятий моих определены были часы, от 8–10 утра, и за это мне предложили 600 рублей и жизнь в семействе князя.
Прошло месяца три; занятий не было никаких. Иногда приходилось писать по-французски: «Князь Гагарин просит г-на Дидло пожаловать к нему в таком-то часу», и чаще: «Князь Гагарин имеет честь вручить при сем господину N.N. столько-то рублей, которые он ему остался должен» – то есть вчерашний проигрыш.
Гагарина, родная сестра князя Меншикова, просила меня, когда я не занят у мужа, потрудиться давать уроки русского языка и арифметики княжнам. Этому я очень обрадовался, потому что со мной обращались необыкновенно приветливо, и мне хотелось чем-нибудь вознаградить за ласки. Притом княжны были миленькие, старшая – 16 лет, вторая – 13, младшая – 11, а мне – неполных 21 год. Я чувствовал себя здесь на месте, гораздо более, чем при матушке, которая трактовала меня, как маленького Костю, не замечая, что во мне было уже 2 аршина 7 1/2 вершков и что меня везде звали Константином Ивановичем.
Жизнь в доме князя изгладила то огромное различие, которое я предполагал между нашим семейством и семействами высоких лиц, окруженных роскошью; те же мелочные заботы, те же мелочные досады, только масштаб другой да приемы иные. Что бы ни говорили демократы, а любовь к изящному присуща человеку. Господин Заблоцкий хвастал тем, что он сохранил мужицкие манеры; зачем же он садится у себя на золоченый стул, а не на сосновый чурбан. Лжет он, г-н Заблоцкий, – он не сохранял мужицких манер, а только не умел от них освободиться. Он мог на казенные деньги заказать себе золоченую мебель, но не нашел лавки, где продаются мягкость движений, приличие тона и небрежное щегольство – предметы, которыми владел, например, князь Меншиков, с которым я познакомился в доме Гагарина.
Глава III
Князь А. С. Меншиков – Его личность – Первоначальная служба князя Меншикова – Его рассказы о шведском кронпринце Бернадоте и генерале Озерове – Подвиг полковника Монахтина – Дальнейшая карьера князя Меншикова – Его отставка – Мнение о нем императора Александра – Жизнь в ставке – Поступление вновь на службу при императоре Николае – Посольство в Персию – Князь Гагарин – Его трагическая смерть – Отъезд князя Меншикова в действующую армию – Порядки и злоупотребления в Адмиралтейств-коллегии – Мои сношения с князем Меншиковым – Полученная им под Варной рана – Доктор Калинский – Недовольство Меншикова мною – Назначение мое в должность секретаря канцелярии Главного морского штаба
Князь Александр Сергеевич Меншиков, только что воротившийся из Персии, был прекрасный, стройный, с умными и добрыми темно-синими глазами и саркастической улыбкой, кавалер Александровского двора, который отличался тонкостью и изяществом приемов. Вся его личность представляла любопытное явление; он был очень внимателен к сестре своей, любезен со своими племянницами, необыкновенно вежлив со мной, но видно было, что он не жаловал своего шурина и что князь Гагарин боялся его. Говоря иронически с вельможами, которых встречал у Гагарина, он кидал на меня украдкою взгляды, как будто желая мне сказать: посмотрите, что за болваны!
Помню, как он трунил над толстым князем Д.: «Недавно был спор о вопросе, можно сказать, народном; N.N. утверждал, что кучер кареты, в которой ехал император Александр на коронацию, был в белых чулках, а я уверял, что он был в красных, так как все были против меня, то я объявил, что уступлю только решению Д. Как вы решите?..» – «Дорогой князь, вы хорошо сделали, что обратились ко мне; я подробно изучал эту эпоху, и могу вам сказать, что кучер был в белых чулках!»
Меншиков обращался обыкновенно с насмешкой к тем, которые на мой поклон отвечали с высокомерием, – и, разумеется, обворожил меня. Сестра его смотрела на него как на божество.
Удивительно, как в Меншикове тесно соединялся повеса с глубокомысленным мужем, и это было всегда так. Он родился и воспитывался в Дрездене, был такой шалун, такой лентяй и невежда, что отец его, потеряв всякую надежду на сына, отправил его семнадцати лет в Петербург с письмом к фельдмаршалу Прозоровскому, сказав сыну, что дает ему на расходы только три тысячи рублей. В Петербурге сделали князя камер-юнкером 5-го класса и определили в Коллегию иностранных дел в 1805 году. 17-летний статский советник нанял в Малой Морской, в доме Манычарова, в три этажа, две маленькие комнаты, накупил себе книг, взял нескольких учителей и принялся учиться неутомимо, – тот самый мальчик, которого в Дрездене не могли ничем заставить взять книгу в руки.
Вскоре послали его с депешами в Лондон; узнав в Гамбурге, что Голландия вооружает канонерскую флотилию против Англии, этот юный дипломат отдал депеши на почту, а сам определился волонтером на голландскую флотилию! Не знаю, как наше посольство выловило этого волонтера и отправило его в распоряжение миссии нашей в Стокгольм. Там князь Меншиков скоро прославился своими шалостями, и миссия сочла за лучшее выслать его в Петербург. Здесь приняли его, разумеется, неласково, и Меншиков решился перейти в военную службу: его приняли подпоручиком в артиллерию и отправили в Молдавию, – если не ошибаюсь, к Прозоровскому, от которого он после достался графу Каменскому, который взял его к себе в адъютанты. При сдаче своей артиллерийской команды Меншикову пришлось дать 1000 рублей взятки Безаку, заведовавшему хозяйственною частью, отцу нынешнего генерал-адъютанта Безака: это было первым шагом молодого князя на практическом пути нашей государственной службы. По смерти Каменского князь не захотел остаться у Кутузова, преемника Каменского, служил здесь в гвардии и в 1813 году был капитаном Преображенского полка.
Любопытны рассказы его об эпизодах этого времени. Надобно было дать знать шведскому кронпринцу Бернадоту, что баварцы соединились и что можно начать действовать (под Дрезденом). Послали фельдъегеря, Влодека и Меншикова: фельдъегерь был застрелен французским пикетом; Влодека взяли в плен; князь Меншиков с двумя казаками избег плена только тем, что лошади их перескочили через забор, через который отряд французских драгун не мог переброситься. Меншиков приехал ночью и лег у палатки Бернадота; здесь он услышал, как Бернадот говорил кому-то: «Не знаю, что я могу сделать с таким говеным войском». До наступления утра Меншиков успел уже составить себе кружок друзей своими остроумными выходками; друзья предупредили его, что Бернадот будет потчевать его яичницей, но чтобы он никак не принимал приглашения, потому что это расстроило бы Бернадота, привыкшего съедать целую сковороду яичницы, до которой он был страстный охотник. Поутру Бернадот принял князя, лежа в постели, в колпаке и в синей бархатной, отороченной соболями куртке; в то же время внесли дымящуюся сковороду с яичницей и поставили перед постелью. Принц приказал подать другой прибор и сказал князю: «Вот, дорогой князь, покушаем вместе эту яичницу». – «Благодарю вас, ваше высочество, я ее никогда не ем». – «Как, не едите яичницы? Вы не правы, мой друг, это очень хорошая вещь», – заметил с видимым удовольствием Бернадот, придвинув к себе сковороду. Принц полюбил молодого князя; уверяли, что отказ от яичницы играл тут не ничтожную роль.
Меншиков деятельно участвовал во всех военных действиях наполеоновских войн с Россией после Аустерлица. В 1812 году, при нашествии на Москву, он был в кавалергардах; генерал Депрерадович оставался версты за четыре и, по словам князя, не знал, что происходила Бородинская битва. Князь, будучи послан к нему, удивился, что генерал не слыхал грома двух тысяч орудий. «Да, брраттец, у меня голловва болела!»
Вообще забавны его рассказы о некоторых героях того времени. Некто Озеров, отставной генерал, поступивший в ополчение, будучи необыкновенно храбр в деле, боялся домовых и леших так, что ему было гораздо труднее решиться провести отряд ночью через лес, чем стоять спокойно перед неприятельской батареей. Этого Озерова взяли в плен и привели к Наполеону. «Видели вы недавно русскую армию, генерал?» – «Да, ваше величество». – «Что она, тверда?» – «Как скала, ваше величество». – «Сколько штыков насчитывает она?» – «Три миллиона, ваше величество!» – «Идите спать, дурак». Вот весь их разговор.
Когда вышла в свет история Отечественной войны Михайловского-Данилевского, князь Меншиков сердился, что походы Чернышева расписаны были как походы Юлия Цезаря, а о многих героях времени, скромного имени, ничего не говорится – например, о полковнике Монахтине. В Бородинском деле Евгений Богарне загнал всю нашу тяжелую кавалерию в болото; князь Меншиков стоял с полком в болоте по пояс. «Евгений бил нас, – говорил князь, – как уток, и нам оставалось только креститься и падать в воду; вдруг слышим русский барабан и видим батальон пехоты, идущий бегом к нам на выручку. Евгений был сам так утомлен, что свежий батальон стоил корпуса. Евгений отступил, и мы спасены. Спасителем нашим был армейский полковник Монахтин».
После войны князь Меншиков был директором канцелярии начальника Главного штаба (князя Волконского), но положение его было гораздо выше его звания. Он сопровождал государя во всех его поездках на конгрессы и внутри России и пользовался полным его доверием и уважением. Государь сказал один раз княгине Гагариной: «Если ваш брат будет продолжать действовать так, как он действовал до сих пор, то будет скоро в империи первым после меня». Это погубило его карьеру. Княгиня, в радости, пересказывала эти интимные слова государя всем и каждому, и все соединили свои усилия, чтобы воспрепятствовать осуществлению видов государя. В 1821 году или 1822 году граф Воронцов, граф Потоцкий и князь Меншиков подали государю проект об освобождении крестьян; государь принял это за происки карбонарства, приписал инициативу князю Меншикову и не хотел более его видеть. Ему предложили место посланника в Дрездене. 33-летний князь был, однако, так избалован счастьем, что счел такое предложение оскорбительным и подал в отставку, которую ему и дали.
Впоследствии открылось, что подозрение в карбонарстве было только предлогом. Чего не умели сделать происки партии Аракчеева и Дибича, соединившихся для уничтожения Меншикова, то сделала одна ловкая барыня. Она притворилась взволнованною и на настоятельные просьбы государя сказать ему, какое у нее горе, отвечала, что взволнована известием о самой черной неблагодарности князя Меншикова, разглашающего, будто государь носит накладные икры. Такая версия совпадает с отзывом, слышанным княгиней Гагариной от государя. Он ей сказал, дав отставку ее брату: «Я питал братскую дружбу к вашему брату, но он клеветник».
Получив отставку, князь поселился в подмосковном своем имении, но обжорливая Москва не могла накормить душу князя, алчущую деятельности. При свидании с Ермоловым он спросил его, какие средства употребил он, будучи в опале, чтобы не сойти с ума от праздности и скуки? «Любезный князь! – отвечал Ермолов, – я нанял пьяного попа, купил себе Тацита, стал учиться по-латыни и переводил Тацита». Князь нанял тоже пьяного попа и тоже стал учиться по-латыни, но один визит соседа дал его занятиям другое направление.
Одним из его соседей был Глотов, отставной моряк, известный своим сочинением «Морская практика», которое, кажется, и до сих пор служит учебником в морском кадетском корпусе. Когда маркиз Траверсе просился в отставку и на его место государь полагал назначить Грейга морским министром, то место главного командира Черноморского флота предложено было Меншикову (в 1819-м или 1820 г.), но Меншиков сказал тогда государю шутя, что лучше желал бы быть митрополитом. Вспомня, что есть в России место, которого он занять не в силах, Меншиков прогнал пьяного попа, пригласил к себе трезвого моряка и стал учиться морскому делу.
По неожиданной кончине Александра I князь написал к новому государю письмо, прося о принятии его в службу. Он был принят генерал-адъютантом по-прежнему и вслед за тем отправлен в Тегеран с чрезвычайным посольством. Персидский кабинет замышлял уже вероломство: сначала князь принят был хорошо, но потом его арестовали, и он, едва ли не более года, лишен был свободы. Наконец разрешено ему выехать, и тут прислан был к нему какой-то сановник с предостережением: советовали князю ехать каким-то необычным путем, потому что на главной дороге ему грозит опасность от раздраженного народа. Между тем князь узнал под рукой, что на тот необычный путь, на который ему указывали, подосланы были убийцы. Князь совершенно неожиданно направился на главную дорогу и проехал благополучно. Весной 1827 года воротился он в Петербург и тут увидел я его в первый раз.
Кровавая катастрофа вывела меня из дома Гагарина. Князь Андрей Павлович был добрый, обязательный и мягкий человек, в отличие от всех Гагариных, но ветрен и сибарит. Знаменитый своею смуглою красотою, присвоившею ему название Малек-Аделя (героя романа г-жи Cottin), избалованный женщинами, он достиг того переходного возраста, когда страсти еще не замолкли, но свежесть юности миновала. Красавицы, ему благосклонные, устарели вместе с ним, новое женское поколение предпочитало новых, далеко не столь изящных кавалеров, как современники Александра 1, и Гагарин, не находя уже ласкового приема у дам воплощенных, обратился к благосклонности дам четырех мастей, но и они к нему не благоволили: князь постоянно проигрывал. Часто жаловался он мне на судьбу свою: «Я не знаю, что сделать с моей жизнью! Я не могу более ухаживать, у меня нет привычки ни к семейной жизни, ни к чтению, моя служба ничтожна; чтобы заполнить пустоту, я играю и только проигрываю».
У него было довольно хорошее имение, в Нижегородской губернии 1700 душ, да у жены 600 душ; оброк положен был в 25 рублей ассигнациями, но крестьяне, зная кротость князя, платили очень дурно. Когда я с ним познакомился, князь не получал целые полгода ни копейки оброка, да недоимок за прежние годы было до 35 тысяч рублей.
В это время напал он на оскорбление. На выходе 25 декабря церемониймейстер Потоцкий стал выше его, шталмейстера. Князь хотел занять свое место, но Потоцкий воспротивился этому, и спор дошел до министра императорского двора. Волконский не любил князя Гагарина; не знаю, как он доложил дело государю, но высочайшее разрешение изъяснило, что хотя звание шталмейстера и имело бы шаг перед церемониймейстером, но как Потоцкий старше в чине тайного советника, то и идти ему выше Гагарина.
В то же время предупредили князя из ломбарда, что если к половине января не будет внесен платеж по займу, то имение будет назначено в продажу. «Боже мой! Какой скандал! Мое имя в газетах», – говорил мне князь с отчаянием. Между тем с каждою почтою посылались бургомистрам подтверждения, чтобы немедленно выслали оброки. 2 января 1828 года явилась депутация крестьян; принесла десяток яблоков и 200 рублей ассигнациями оброка. Князь потерялся; с ним сделалась бессонница; чтобы заснуть, стал он принимать опиум, но еще более волновал тем нервы, и 7 января зарезался.
Князь Меншиков поручил мне найти дом, где он мог бы поместиться с сестрой, но тут приехал из Москвы князь П. П. Гагарин, брат покойного; князю А. С. Меншикову поручена экспедиция против крепости Анапы, и он уехал на войну, оставя меня на своей квартире, а княгиня Гагарина с детьми переехала в Москву.
Еще до смерти князя Гагарина государь поручил князю Меншикову преобразовать Адмиралтейств-коллегию в управление, подобное тому, каким было военно-сухопутное. Князю дан был из министерства один старый чиновник, Андреев, чистый тип чиновников того времени, да из военного министерства взял он полковника Генерального штаба Вилламова, который состоял при нем, когда он служил в Главном штабе; я работал у него мимоходом. После того Абакумов, бывший генерал-провиантмейстер, рекомендовал ему Бахтина. С этими сотрудниками князь преобразовывал морское управление, в котором оказались колоссальные злоупотребления.
По доносу, что в Кронштадте разворовано все – и экипажеские магазины, и госпитали, и пожарная команда, – послали генерала Перовского на следствие; в это время госпиталь заключил договор о покупке белья, между тем как там хранился целый комплект. Его выводили на свет как новый, по уплате подрядчику денег вновь запирали в цейхгауз, и на следующий год опять представляли в качестве новой поставки. Когда узнали, что едет Перовский, стали жечь это белье, жгли, жгли несколько дней с утра до вечера, и все-таки Перовский застал еще corpus delicti, объект преступления.
Внимание, обращенное государем на это дело и на некоторые порубки казенных лесов, внушило флигель-адъютанту А. П. Лазареву спекуляцию. Он нашел или купил казенный лес, нанял извозчиков везти его в Петербург, и когда они выехали на лед, подъехал к ним с людьми, остановил, осмотрел лес, нашел клейма и арестовал караван. Так он открыл похищение; но эту проделку раскрыли, и Лазарев, пошедший было в гору, скомпрометирован и заброшен.
В коллегии представление к Владимирскому ордену стоило 25 рублей. При этом было изобретено обоюдное обеспечение очень остроумно. Проситель отдавал за представление половину 25-рублевой бумажки, а когда получал орден, тогда отдавал и другую половинку.
И при всем том эти господа были необыкновенно дерзки. Когда князь Меншиков проходил через зал присутствия Адмиралтейств-коллегии, председатель ее обратился к князю:
– Мы слышали, что вашей светлости поручено преобразование морского управления. Мы уверены, что рука ваша не подымется на любимую дщерь Петра Великого, благодетеля вашего прадеда и всего его рода.
Князь на это отвечал, смеясь:
– Это правда, что Адмиралтейств-коллегия была любимица Петра Великого, но если бы он увидел, как его дочка на старости лет стала пошаливать, то ей было бы, вероятно, еще хуже.
Без моего ведома Гагарин, которого князь терпеть не мог, вздумал просить его поместить меня к себе на службу, на что князь отвечал очень неблагосклонно. К счастью, княгиня пересказала это мне. По отъезде уже княгини князь Меншиков заметил мне, зачем я служу по счетной части с моим образованием, и на мой ответ, что я служу там, где мне удалось поместиться, он выразился, что если я не буду сам просить другого места, то никто и знать не может, что я желаю другого. Этим случаем я воспользовался. Я заметил ему, что люди, раздающие места, так бесцеремонно отзываются о людях, их ищущих и даже не ищущих, а о которых другие просят без их ведома, что я, конечно, не стану пред ними кланяться. Князь немного покраснел и спросил меня шутя:
– А вы хотите, чтобы вас просили?
– Я не хочу этого, ваша светлость, но, пожалуй, буду этого ждать, прежде чем решусь сам просить.
Князь протянул мне руку и сказал:
– Так я вас прошу, будем служить вместе, когда мне дадут управление.
Так обрисовались мы оба друг пред другом.
По отъезде князя я забрался в его книги, читал, работал и, вместо посещения своего департамента, взял английского учителя, почтенного мистера Хеарда, прочитал с ним Гольдсмита, Робертсона, Мура и Байрона.
Князь переписывался со мною. Страшно раненный под Варной, он лежал в Николаеве в изнурительной лихорадке, однако же собирался в Москву, «пока силы дозволяют». Здесь ходили слухи, что он безнадежен, и сам государь был очень им озабочен. Он приказал военному министру, графу Чернышеву, узнать, кто был медиком князя, и послать его к нему, стараясь, чтобы доктор не разъехался с больным. Интриган Калинский, бывший врачом при персидской нашей миссии, успел уверить Чернышева, что он пользуется полным доверием князя; решено было послать его. Калинский проведал как-то, что князь со мной одним в переписке, приехал ко мне и просил моих указаний. Я прочитал ему письмо князя. На другой день приехал ко мне адъютант Чернышева с просьбою дать ему письмо князя для доклада государю, в чем я, конечно, не мог отказать ему, но дело кончилось нехорошо. Князь был очень недоволен присылкою Калинского и прогнал его, а ко мне перестал писать. Испытывая на себе издавна ложь и сплетни, сброшенный с высоты своей карьеры ложью и интригами, князь, по природе уже недоверчивый, сделался до чрезмерности подозрителен; ничего не рассказывал, «чтобы не переврали», избегал людей, «чтобы не могли сказать, что он им говорил то или другое». Но это уединение было ему в тягость. Во мне думал он найти надежного поверенного; молод, следовательно не лицемер; самолюбив без расчету, следовательно честен, да и не принадлежит к большому свету, следовательно, хотя бы проговорился, слово его не будет слышно. Так объяснял я себе сближение мое с князем. Вдруг письмо, адресованное к этому скромному непридворному молодому человеку, доходит до государя! Какой урок! Какая опасность!
Между тем Перовский, тоже раненый, приехал в Петербург уже генерал-адъютантом и назначен был директором канцелярии начальника Главного морского штаба (князя Меншикова). По поручению князя он предложил мне место в канцелярии, и я перешел туда секретарем, других покуда не было. Потом приехал Бахтин, которому дали место начальника отделения; другого отделения начальником сделали статского советника Жандра, рекомендованного Бахтиным, – но канцелярия не собиралась.
В турецкую кампанию Меншиков нажил себе двух опасных врагов, – по моему убеждению, совершенно невинно. Перед отъездом к Анапе он был назначен начальником Главного морского штаба и, кажется, произведен в вице-адмиралы, а, может быть, только еще переименован в контр-адмиралы, – не помню; знаю только, что Грейг был чином выше. В Николаеве вышел спор: Грейг хотел действовать флотом самостоятельно или быть в распоряжении главнокомандующего войсками, Меншиков же требовал, чтобы флот состоял в его распоряжении для действий против восточных черноморских турецких крепостей. Последний опирался на то, что он начальник Главного штаба, а Грейг утверждал, что флагман, старший чином, не может подчиняться начальнику штаба, администратору, младшему. Тогда князь объявил ему официальное высочайшее повеление, и гордый Грейг не мог не уступить, но не мог и простить ему своего унижения, тем более что его разжигали окружающие его интриганы, в особенности Мелихов, выведенный из штурманов, человек низкий, служивший и нашим и вашим.
Взяв со славою Анапу, между тем как действия наши в европейской Турции были очень неблестящи, Меншиков переплыл море и получил в командование корпус, назначенный для взятия крепости Варны. Меншиков действовал с необыкновенной энергией и быстротой, но когда все было готово к штурму, – последнее ядро, пущенное с крепостной стены вечером, пролетело между ног князя Меншикова в ту минуту, когда он, сходя с лошади, упер одну ногу в землю, а другую вынимал из стремени. Ядро вырвало ему все мясо с обеих ляжек, но не повредило ни кости, ни главных мускулов. Покуда это дошло до сведения главной квартиры, где был и государь, командование принял Перовский, на другой день раненный пулею в грудь навылет. На место Меншикова назначен был граф Воронцов, который и довершил взятие Варны. Государь же написал Меншикову рескрипт, в котором говорил, что хотя тяжкая рана и остановила его на доблестном пути, но покорение Варны есть плод его приготовлений и его мысли, и потому жалуется ему пушка со стен Варны, для украшения родового имения его, как памятник, возвещающий потомству о подвигах его, Меншикова. Это была кровная обида для Воронцова. Разумеется, не князь сочинял рескрипт, но человек так создан, что на орудие боли сердится больше, чем на действие, ее причинившее, и чем выше поставлены люди, тем нелогичнее они в этом отношении.
Не знаю, в каком отношении был Меншиков к Воронцову до этой эпохи, но мне известно положительно, что князь горячо защищал Грейга у государя, когда он хотел даже удалить его, получив сведения, что он связался с простою, алчною женщиной. Я сам читал записку князя, писанную еще до отъезда к Анапе, в которой он ручался государю, что благородный Грейг не изменит своих действий вследствие несчастной связи с жидовкою. Государь просил князя постараться разлучить его с этой женщиной, и князь, изъявляя сомнение, что успеет в этом, повторял, что это несчастное для частной жизни Грейга обстоятельство не может ни в каком случае иметь влияние на дела службы, для которых считал Грейга незаменимым.








