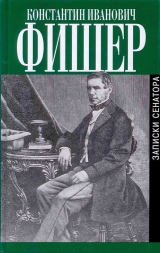
Текст книги "Записки сенатора"
Автор книги: Константин Фишер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Со времени Тильзитского мира ассигнации банка стоили ровно четверть своей нарицательной цены. За десятирублевую бумажку давали два целковых и полтинник. Этот курс установился так твердо, что публика забыла уже падение ассигнаций и считала 25 копеек серебром за рубль, а рубль серебряный – за 4 рубля, то есть в народе стал монетной единицей рубль бумажный, а не серебряный. При Канкрине, когда оживленная промышленность потребовала большого числа оборотных знаков, ассигнации стали предпочитать серебряной монете; десятирублевая бумажка менялась на 2 целковых с полтинником не даром, а получала гривенник премии, – она стала дороже.
Чем бы радоваться восстановляющемуся доверию к долговым обязательствам правительства, министерство внутренних дел нашло в этом действии обман и силой хотело заставить народ верить правительству менее, чем он верил. Это уродливое воззрение облеклось в другую мантию: «берут произвольный лаж». Государь хотел издать указ, строго запрещающий лаж, а Канкрин представлял, что по подписании такого указа лаж непосредственно удвоится.
Государь обиделся. «Посмотрим, – сказал он, – я покажу, что в России есть еще самодержавие». Однако же указа не было. Ограничились административным запрещением лажа выше 1 %; меняльные лавки тотчас исчезли, как мухи на холоду, и лаж в три дня достиг до 6, 7, 9 и 10 %. Что делать, беда! Беда, что векселя стали выше, и об этом плакал векселедатель, которому еще нужны были деньги!
Как мне кажется, Канкрин надул тут своих мудрых товарищей. Он видел средство наполнить сундуки казначейства серебром и предложил изменение монетной системы; остановились на вопросе, в каком курсе принимать ассигнации. Канкрин давал 1 рубль серебром за 3 рубля 50 копеек ассигнациями, оттого что в то время ассигнации столько стоили на бирже. Любецкий предлагал курс 3,60 – оттого, что это число имеет наибольшее число делителей. Канкрин одержал верх, и на эту тему Любецкий критиковал и питейный сбор.
Тут, действительно, Канкрин был неправ, ибо при монетной системе, приноровленной к десяткам и половинам, плата тою монетою на серебро становилась невозможною. Даже на сцене театра появились на это пасквили: мещанин, приехавший на извозчике за 10 копеек, рылся долго в кошельке, прибирал и перебирал монеты, и, наконец, отдав с досадою монету извозчику, прибавил: «2/7 на водку!» Весь партер захлопал, равно как и сам государь, Григорьеву, этому русскому Бомарше. Любецкий порицал также меру и пробу вина.
– Ведро, – говорил он, – что такое ведро? Ежели ведро вина, то 80 чарок; ежели водка, то 100 чарок! Вы меня спросите, что такое рубль, а я вам скажу: назовите мне прежде, что вы покупаете; ежели книгу, то 80 копеек, а ежели бумагу, то 100 копеек. Что бы вы сказали про такой рубль?
– Проба-отжигательница Траллеса, – говорил Любецкий. – Надобно сжечь спирит, чтобы узнать, хорош ли он: хороша проба! Я купил спирит и пробую: он весь выгорел! Жаль, говорю я, что сжег спирит! Хорош был!
В этом тоне он критиковал Канкрина. Случалось, что Любецкий смешил и в другом смысле. Канкрин, разумеется, не смущался такими и даже более серьезными обвинениями. В одном совете, при государе, после длинной обвинительной речи Любецкого на вопрос государя, что он на это скажет, Канкрин преспокойно возразил: «Это все пустяки!» – и тем кончился диспут.
Комитет положил: 1) установить постоянную чарку в 1/300 ведра; 2) вместо отжигательницы ввести аэрометрический спиртомер; 3) медную монету переименовать: грош – в полкопейки серебра, пятак – в полторы копейки, гривну – в 3 копейки; 4) узаконить те злоупотребления в продаже питей, за которыми невозможно усмотреть. Меня произвели при этом случае в статские советники, 34 лет, что было в то время довольно редким случаем.
Затем был комитет о финансах неизвестного. Нетрудно было отгадать имя этого неизвестного. Записка начиналась следующими словами: «Страсть к золоту есть сильнейшая из всех страстей человеческих; для удовлетворения этой страсти человек не щадит ничего, даже своей жизни, etc.» Такой афоризм указывал прямо на автора-еврея, следовательно, на Позена. Позен предлагал отдать Россию большим компаниям, считая каждого компаньона чиновником вроде генерального сборщика: он хотел соединить полезное с приятным. Любецкий сильно поддерживал проект, имея в виду, что при таком устройстве можно невозбранно или разорять Россию, или взволновать ее. Князь Меншиков так прозрачно выразил возможность задней мысли этого рода, что Любецкий онемел, – и проект похоронили.
Было много других комитетов, но самый замечательный из них – о способах поощрения торговли и промышленности; это было уже при Вронченко. Как только биржа узнала об этом комитете – все бросилось к Орлову, а Орлов отсылал всех ко мне, отзываясь, что «Фишеру известны все его мысли и что он дал Фишеру подробную программу».
Между нами будь сказано, программа графа Орлова была следующая. Я приезжал к нему накануне собрания комитета с подготовленным журналом и рассказывал, какие заключения я вывел из сведений и какое мнение полагаю правильным. Орлов говорил мне: «Итак, завтра, когда комитет примется за работу, я скажу этим господам…» – и старался повторить все, что я говорил. Когда он зарапортовывался, я останавливал его: «Извините, граф! Здесь есть маленький оттенок, так как это надо понимать совершенно противоположно…» – и снова объяснял ему. Тогда он снова говорил, а на другой день, перед заседанием, он еще раз делал себе репетицию. Комитету он объяснял в предисловии: «Я с правителем дел занимался рассмотрением… и мы нашли…»
Пожалуй, пусть так, но случилось, что среди пересказа Орловым урока, который я в него задалбливал, доложили о князе А. М. Голицыне. Когда Голицын вошел, Орлов протянул мне руку и, отпуская, сказал: «Ну, мой дорогой друг, дайте всем этим мыслям надлежащую форму; надеюсь, что вы меня поняли».
Какой цинизм! В комитете обращались с Вронченко, как с шутом или лакеем. Мы, то есть Орлов, Меншиков и Киселев, по моему соображению, настаивали на том, чтобы отпускная пошлина с сала и пеньки была уменьшена на половину, а Вронченко, опровергая, приводил в опору Листа! Князь Меншиков заметил наивно: «Знаю! Известный пианист!» – «Нет, ваша светлость, не тот!» – заревел Вронченко, подняв руки и приложив их к обеим сторонам головы. «Это его двоюродный брат!» – прибавил Меншиков тем же наивным тоном.
Потом, разбитый со всех сторон, Вронченко рассудил, что тарифные вопросы нельзя решать в многочисленных комитетах (у нас были только министры), что это вопрос то бе или не бе! («То be or not to be»), что в Англии министры не знали даже, что будет говорить Пиль, когда он провозгласил торговую реформу. Орлов сказал ему на это грубо: «Так ты думаешь, что ты Пиль? Давай нам Пиля; мы сейчас разойдемся!» Вронченко струсил. «Извините, ваше сиятельство, ради Бога, если я сказал что-нибудь неловко; право, без намерения».
Что было мне с ним возни! Я его упрашивал согласиться на 1 рубль пошлины с берковца пеньки вместо 2 рублей. «А откуда я возьму 200 тысяч рублей? – отвечал он. – Теперь пенька дает мне 400 тысяч, а тогда будет давать 200 тысяч рублей». Я возражал: вывезут, по крайней мере, на 40 % больше; вы получите не 200, а 280 тысяч рублей, на цену избытка вывоза привезут иностранного товара, с которого вы берете 20 %; вы будете в барышах. «Извините, ваше превосходительство, меня учили, что дважды два четыре и половина четырех – два!..» – «Так потрудитесь подписать журнал». – «Не могу». – «Отчего же?» – «Вы меня очень критикуете». – «Но ведь я написал и ваше возражение». – «Да вы так положительно меня обвиняете!» – «Я ничего не делаю, я записал то, что происходило, разве вы находите, что я что-нибудь пропустил или прибавил?» – «Я этого не говорю». – «А если журнал написан точно, то потрудитесь подписать». – «Не могу!» Наконец уломал я его.
Между тем Орлов, восхищенный «своими идеями», сказал государю, что он получит журнал прелюбопытный и что «мы» разбили в пух министра финансов. «Ну, однако, вы мне не обижайте моего доброго старика», – сказал государь. Орлов пишет мне: «Надо изменить протокол; приходите ко мне». Я как громом пораженный бегу к нему. Он пересказывает мне разговор с государем и заключает решительным тоном: «Надо будет смягчить». Смягчать подписанный уже журнал?! Мы смягчали, смягчали и составили наконец нечто вроде сахарной воды.
Комитет кончился ничем, а сколько он стоил мне работы. Самый результат ее казался мне, и доселе кажется, заслуживающим внимания. Это значит: толочь воду. Спрашиваю себя: кто виноват? Орлов или государь?
Не так действовал Паскевич. В 1848 году, в венгерскую кампанию, на настойчивые приказания государя спешить вперед во что бы ни стало фельдмаршал отвечал: «Не пойду, пока не обеспечу армию продовольствием и госпиталями», – и не пошел, а все-таки остался фельдмаршалом.
Пока перо мое писало имя фельдмаршала, память выдвинула анекдот того времени.
Известно, что Берг интриговал против него и восстановил на него даже австрийского императора. После кампании в Варшаве был выход у наместника; в многочисленной толпе генералов был и Берг. Фельдмаршал, подойдя к нему, произнес знак удивления: «А!..», потом повертел пальцем перед лбом своим и тоном сожаления прибавил: «Слышал, слышал!» – и пошел далее.
Это рассказал мне Одинцов. Старик Корсаков рассказывал мне другой случай в этом роде. Какой-то ничтожный генерал, весь покрытый крестами и медалями, был на выходе наместника. Он перед ним остановился, сосчитал вполголоса кресты, указывая на каждый пальцем, и, не сказав генералу ни слова, пошел далее.
Глава XI
Моя служба в комитетах – Отношение ко мне Киселева и Клейнмихеля – Сметы по постройке Николаевской железной дороги – Возобновление Клейнмихелем Зимнего дворца – Выходка актера Григорьева – Назначение мое директором канцелярии комитета и комиссии по постройке Николаевской дороги – Интриги Чевкина – Мое объяснение с ним – Раскол во мне – Состав комитета под председательством цесаревича – Положение цесаревича – Речь графа Бенкендорфа подрядчикам – Клейнмихель и Бенкендорф – Объяснение с Бенкендорфом – Заседание комитета – Граф Канкрин – Моя просьба об увольнении – Объяснение с Клейнмихелем – Оригинальный способ скорой переписки бумаг – Фрейлина Нелидова – Рассказ об Аракчееве – Семейные отношения Клейнмихеля – Князь Белосельский-Белозерский – Характеристика графа Клейнмихеля – Еще рассказ об Аракчееве
Комитеты, в которых я работал, познакомили меня и с министрами, и с крупными торговыми лицами. Многие на моем месте не упустили бы такого случая утвердить свои отношения; но я, вследствие мизантропизма, отголоска влияний, действовавших на меня в первую молодость, вышел из этих комитетов столько же неизвестным, каким был и до их открытия; я никому не делал визитов, ни с кем не объяснялся по делам: садился за стол, читал и рассылал к подписанию журналы. Только Киселев иногда говорил со мной вполголоса в комитетах, потому что я сидел подле него.
Вспоминаю одно наивное его откровение. Спор шел об уменьшении отпускных пошлин с наших сырых произведений ввиду возникающих новых соперников; я представил комитету поразительные сведения. В Австралии сделан опыт скотоводства: в 1839 году привезено оттуда сала в Англию 200 бочек; в 1840-м – 600 бочек, в 1841-м – 1600 бочек, в 1842-м – 4000 бочек. Если мы продолжать будем дорожиться нашим салом, его бросят. Министр финансов соглашался на спуск пошлин, но с тем, чтобы и Англия спустила пошлины с предметов, которые нам нужны. Все нашли это совершенно рациональным законом взаимности. Тогда я шепнул Киселеву, что здесь нет вопроса о взаимности: не Англии нужно наше сало, а мы просим ее, чтобы она брала его у нас. Киселев с живостью обратился к сочленам: «Это правда. Господа! Какой вздор мы говорим!»
Подобные эпизоды не были редкостью в наших высших коллегиях. Перовский, генерал, один раз не согласился в Государственном совете (шутя) на выпуск новой серии билетов государственного казначейства, на что все прочие были согласны. Его спросили, на каком основании он протестует? «Для того, чтобы Россия не сказала про нас, что мы все за – серии».
Итак, один Киселев узнал меня ближе. Я пользовался его благоволением. Кроме него, Клейнмихель считал меня за человека способного, потому что сознавал ум князя Меншикова и знал, что у него я имел кредит. При всем том про меня говорили в высших кругах то, чего я, однако, вовсе не знал. Только два случая открыли мне это: один раз при открытии какой-то важной вакансии, – если не ошибаюсь, управляющего делами комитета министров, – князь Меншиков мне сказал:
– Вакансия замещена и – не вами!
Я удивился этому выражению и объявил князю, что и не думал об этом месте, и не ожидал его.
– Знаю, – ответил он, – но о вас была речь.
Около этого же времени на вечере у Княжевича (впоследствии министра финансов) сенатор Челищев просил его, чтобы его со мною познакомили. Княжевич повторил мне при этом слова его: «Познакомьте меня с этою восходящею звездою!» – 1841 год был эпохою моего служебного апогея.
В 1841 году Абаза и граф А. А. Бобринский составили проект железной дороги от Рыбинска до Тверды, где она пересекает московское шоссе, – дороги самой простой и дешевой – из деревянных рельсов, обитых листовым железом, по которым предполагалось возить хлеб на тройках. Они просили разрешения составить компанию и рассчитывали, что дорога будет стоить 6 или 7 миллионов рублей. Государь предложил им строить железную дорогу до Москвы с паровыми двигателями. Тут втерся Чевкин и с Мельниковым (теперь министр путей сообщения) составил смету в 37 миллионов рублей. Государь обрадовался, составил комитет под своим председательством, и Чевкин, начальник штаба горных инженеров, сделан членом комитета. Смета была составлена самым наглым образом фальшиво; вагон, например, ценился в 350 рублей, но государю было это приятно, потому что ограниченность расхода служила к его оправданию; к займам тогда еще не привыкли, и потому важным считалось начать с займа незначительного.
Князь Меншиков стал доказывать неверность сметы, подкрепляя свои доводы отчетами иностранных железных дорог, привезенными с собой. На 4 или 5 статье сметы государь прервал его, сказав, что он сам проверит смету, и тем кончились прения. Канкрин и, если не ошибаюсь, Толь говорили, что Россия нуждается прежде всего в шоссе, что железная дорога не может иметь должного влияния на народное богатство, когда к ней нельзя подъехать; Чернышев путался, Левашов говорил общие места из политической экономии.
Проект утвержден в начале 1841 года; затем учреждены: комитет С.-Петербургско-Московской железной дороги под председательством цесаревича и комиссия построений С.-Петербургско-Московской железной дороги под председательством Бенкендорфа. Первый должен был решать главные вопросы, вторая – исполнять. Исполнение было изъято из ведомства путей сообщения на том основании, что если начальник не сочувствует мысли, то нельзя ожидать, чтобы подчиненные исполнили ее с усердием. Это служило внешним поводом к изъятию. Истинный повод заключался в том, что Чевкин надеялся проложить себе дорогу этим путем, а Клейнмихель, только что окончивший возобновление Зимнего дворца, считал себя специалистом по части великих сооружений и надеялся захватить дело в свои руки. Таким образом, оба действовали здесь заодно, чтобы не оставить дела при Толе.
Специализм Клейнмихеля был очень подозрительного свойства. Кажется, в 1839 году сгорел Зимний дворец. Государь собрал лучших архитекторов и просил их «починить ему дом скорее». Они единогласно объявили, что скорее двух лет никак нельзя кончить эту работу, – и не уступали никаким настояниям государя. Тогда Клейнмихель, заведовавший казарменною строительною частью, вызвался возобновить дворец в один год, – и ему дан карт-бланш.
Клейнмихель не тужил о деньгах, дал строительным средствам насильственное развитие; наставил сотни железных и чугунных печей, чтобы сушить кирпичную кладку и штукатурку; 10 тысяч человек работали во дворце зимою при 10–20 градусах мороза снаружи и 20–25 градусах тепла внутри, штукатурили, полировали, золотили! Дворец был готов через год, но готов только для смотра, а не для обитания.
Усиленная нелепо, невежественно топка высушила наружные оболочки, заперев ими исход внутренней сырости. Как только эта топка заменилась нормальною, сырость стала выступать, позолота и штукатурка стали отваливаться, и, наконец, обрушился весь потолок Георгиевской залы, через два часа после окончания бывшего в ней какого-то собрания.
Тогда возобновилась работа с новою яростью; несколько тысяч рабочих перемерло от горячки вследствие перехода из жары в стужу. Сметные суммы были далеко передержаны, а чтобы в этом не сознаться, Клейнмихель не платил подрядчикам; весь город кричал о злоупотреблениях, а между тем еще до обвала потолка Клейнмихель возведен в графское достоинство: в гербе, ему данном при этом случае, изображен дворец, а надпись гласит: «Усердие все превозмогает!»
Такой девиз и медали, данные рабочим, обнаружили, что государь смотрел на починку дворца как на государственный подвиг.
Актер Григорьев едва ли не первый открыл смешную сторону этого дела; пуская остроты каждый раз, когда играл роль щукинодворца в пьесе «Ложа 1-го яруса», и получая за них даже подарки от государя, он позволил себе явиться на сцену с медалью; сцена представляла кассу Большого театра. Сторож этой кассы, увидя медаль, спросил: «Под Турком ли он получил медаль или под Варшавой?» Григорьев отвечал: «Никак нет-с, в Зимний (дворец) песок возили!» Весь партер захлопал, но Григорьева посадили на гауптвахту.
В это же время началась связь государя с В. А. Нелидовой, родственницей графини Клейнмихель, и Клейнмихель играл здесь значительную роль посредника: это усиливало его кредит. Зато все его возненавидели: одни – из зависти, другие – из страха пред будущим его влиянием, но почти все скрывали свои чувства или умеряли их, кроме Бенкендорфа, который выходил из себя, принимал жалобы от обиженных подрядчиков, доводил до высочайшего сведения все несправедливости Клейнмихеля, – и чем бесплоднее оказывались его усилия опрокинуть Клейнмихеля, тем более ожесточался Бенкендорф, – и вдруг узнали, что Клейнмихель назначен членом и комитета, и комиссии железной дороги!
Чевкин стал эксплуатировать страсти. Он вызвался быть управляющим канцелярией комитета и комиссии, на что согласились и оба председателя. Расчет его был верен. Ни цесаревич, ни Бенкендорф не были специалисты; ни цесаревич, ни Бенкендорф не решились бы докладывать государю технические вопросы. Очевидно, что они брали бы с собою к государю Чевкина для докладов или посылали бы его одного, – а ему только того и хотелось.
Но и Клейнмихель не дремал: он уже нашептал государю, что при рассеянном Бенкендорфе нельзя ожидать скорого исполнения, если канцелярия не будет поручена деятельному лицу. Было условлено, что главным начальником канцелярии будет Клейнмихель. Первый пример отстранения председателя от начальства над канцелярией. Клейнмихель обратился к князю Меншикову, чтобы он «уступил» ему Фишера; я отозвался, что не хочу этого места, но князь уговорил меня.
Он говорил: «Вы проработаете недолго; через год не хватит денег – и вы освободитесь, но между тем успеете сблизиться с цесаревичем». Поднесли государю указ о моем назначении, и я стал директором канцелярии комитета и строительной комиссии С.-Петербургско-Московской железной дороги.
Этот указ изменил вид всей комедии. До этого акта велась против графа Толя одинокая интрига; под него рыл Чевкин, в надежде, что будет докладывать государю дела железной дороги и понемногу столкнет Толя, на которого государь дулся за то, что он не аплодировал проекту; ту же участь разделяли князь Меншиков и Канкрин, но последний уступил молча, принявшись за совершение займа, а первые двое сохранили за собою славу людей несочувствующих. Чевкин сладил, что в комитет и комиссию посажены были Дестрем и Готман, генералы путей сообщения. Назначение в главный комитет директоров департаментов при главноуправляющем было такою же ненормальностью, как потом подчинение канцелярии не председателю. После того представили государю, что полковники Крафт и Мельников, проектировавшие дорогу, будут в фальшивом положении под начальством Толя, – и вследствие этого высочайше повелено состоять им при особе его величества; всю эту интригу вел Чевкин через Бенкендорфа, между тем как Клейнмихель вел свою мину против них: мое назначение было для Чевкина камуфлетом, покуда ему одному, потому что Бенкендорф не понял важности этого факта.
Клейнмихель послал меня тотчас к Чевкину «за бумагами», потому что Чевкин управлял уже недели три канцелярией. Когда я к нему явился, очень скромно, он спросил меня, где я воспитывался, и я имел глупость отвечать ему на это; но едва глупость эта была совершена, я понял ее размеры, и мне стало досадно. На следующий его вопрос: знаю ли я по-английски? – я умышленно отвечал отрицательно. Чевкин заметил: «Любезный! Без английского языка тут быть нельзя! Мы выписываем совещательного инженера, который говорит только по-английски!» Меня взорвало, и я объявил его превосходительству, что приехал к нему не для экзамена, а за бумагами. Чевкин отозвался, что не получил еще указа, и потому бумаги мне отдать не может.
Я поехал к Клейнмихелю, рассказал ему, что было, и объявил, что если каждый член комитета будет считать себя моим начальником и трактовать меня, как Чевкин, то я не останусь ни одной минуты, хотя бы мне предложили весь капитал, ассигнованный на сооружение дороги. Клейнмихель потирал себе руки, приговаривая: «Я его, каналью, заставлю просить у вас прощенья».
На другое утро поехал он к Чевкину, объяснил ему с участием, что я считаю себя им обиженным и прошусь прочь; что он не знает, как доложить государю, и проч. Решили, что Клейнмихель даст Чевкину случай со мной объясниться. Вечером я был приглашен к Клейнмихелю для совещания о штатах. Там нашел я и Чевкина. Через четверть часа вызвали Клейнмихеля, и когда я остался один с Чевкиным, он протянул мне руку и сказал:
– Константин Иванович, не сердитесь на меня! Я поступил неблагоразумно, но я был под влиянием гнусной интриги, веденной против меня; когда вы ближе узнаете лиц, с которыми будете иметь дело, – вы увидите сами, что я не худший…
Мы поцеловались.
Так я попал в новую колею, но, вступив в нее, не согласился оставить князя Меншикова: это было непременным условием. Так навалил я на себя дела финляндские все, морские образовательные, морскую кодификацию и дела по сооружению железной дороги, – не считая комитетов, где я был правителем дел. Финляндия меня наиболее интересовала, но экстренность дел по железной дороге меня более поглощала материально; во мне произошел раскол.
Укрепившись в своем новом положении, Клейнмихель начал и сам интриговать против Толя. Он уверял государя, что офицеры, нужные на постройку железной дороги, не могли оставаться в ведении главноуправляющего, у которого особенная часть, шоссе и каналы: человек 30 офицеров были отчислены от ведомства корпуса путей сообщения и введены в ведение Клейнмихеля, оставаясь в списочном отношении по тому корпусу, – третья аномалия. Но едва Толь помер, что последовало в то же лето 1842 года, а за ним и Бенкендорф, едва Клейнмихель заступил на место Толя, как он же доказал государю несообразность отделения железных дорог от заведования главноуправляющего путями сообщения; строительная комиссия упразднена, а ее канцелярия обращена в департамент железных дорог, которого я назначен директором – без моего ведома. Так попал я в ряд чиновников, в первый раз по оставлении министерства финансов, однако же и тут я настоял на том, чтобы вместе с тем оставался по особым поручениям при начальнике Главного морского штаба и финляндском генерал-губернаторе.
С этих пор в памяти моей роятся воспоминания о событиях моей тройственной службы. Начну с железной дороги.
Главный комитет железной дороги, под председательством цесаревича, состоял из Канкрина, Левашова, Бенкендорфа, Орлова, князя Меншикова, Киселева, графа Толя, Клейнмихеля, Дестрема, Гетмана, Чевкина и графа Бобринского. Толь вскоре помер, как и Бенкендорф, а через год Вронченко заменил Канкрина, то есть не заменил, а только заместил. Перед кабинетом цесаревича, в первой комнате за приемною, ставили ряд столов, если не ошибаюсь, ломберных, покрытых сукном. Цесаревич садился посредине длинной стороны, подле него справа – Канкрин, слева – Левашов, первый – насупленный, неподвижный, с зеленою ширмою на глазах, второй – чопорный, накрахмаленный, или, как выражался князь Меншиков, заимствуясь из «Энеиды» Котляревского: «як на аркане жеребец». Прямо против цесаревича было мое место как правителя дел, подле меня, справа, садился, ниже своего чина, Киселев, мой тогдашний приятель, слева – Клейнмихель.
Из всего этого состава только четверо исполнены были любви к делу: сам председатель, видимо, польщенный своим званием (это было едва ли не первое важное дело, ему вверенное), но молодой, неопытный, он, видимо, затруднялся останавливаться на решении ввиду заявлений разногласящих; потом Канкрин, Киселев и Бобринский – полны желания помочь делу. Орлов был величайший невежда, искавший преимущественно случая позабавить цесаревича. Левашов подбирал звучные фразы из политической экономии и их плотностью старался возместить жидкость идей, вроде того, как китайцы вывешивают перед своими батареями изображения огнедышащих чудовищ, чтобы сделать страшнее свою артиллерию.
Бенкендорф являлся в комитет, как кавалер на раут – со всеми вежливый и обязательный, всегда рассеянный, но с четверти второго часа приходивший в тревожное состояние; тревожность доходила до лихорадочного состояния после половины второго, а в три четверти второго он просил позволения ехать по важным делам службы; едва он затворял за собою дверь, следовал общий смех, потому что все знали, что в два часа каждый день он являлся к мадам Крюденер.
Меншиков казался мало заинтересованным, или, вернее, имел вид, как будто пригласили его принять участие в комнатных играх, и если говорил, то шутя или иронически. Вронченко разыгрывал роль шута. Когда он приехал в первый раз, то обратился к Дестрему, такому же волоките, как и он сам: «Мусью Дестрем, кесь ке се? Что это? Вы толстеете, а я худею». – «Это показывает, господин министр, что, отчего вы худеете, я оттого полнею». (Общий смех.) Вронченко сделал на это очень мастерски такую мину, что показался еще глупее, чем был. (Гомерический смех.)
Когда я прочитывал статьи новой сметы, то после каждой произнесенной цифры Вронченко делал на стуле комические прыжки, и чем более смеялись, тем более он кривлялся. Клейнмихель и Чевкин имели вид сосредоточенный, оба равно под влиянием преобладающей мысли, как бы друг друга укусить; в свободные от этой мысли минуты Чевкин вторил Левашову в теориях политической экономии, но с некоторою приправою металлургии.
А. А. Бобринский вообще говорил редко; он вставал почти исключительно ради своевременных вопросов, – и тогда говорил с жаром. Кто знал его ближе, тому он известен был за человека кроткого и в высокой степени приличного, но в голосе его была какая-то жесткость, которая незнакомым могла выказывать его за человека, что называется, резкого. Клейнмихель выходил из себя каждый раз, когда Чевкин и Бобринский начинали говорить. Злобу его на Чевкина я понимаю, но что вооружало его против Бобринского – это осталось для меня загадкою.
Дестрем, гасконец в полном смысле слова, издавал звуки, как Мемнонова статуя пред солнечным лучом. Добрый и честный, но апатичный Готман был невинным эхом Дестрема. Председатель цесаревич смотрел на дело с любовью, но и с неопытностью юноши. Вся его личность производила на меня глубокое впечатление; я проникался чувством живейшего участия пред его взором, исполненным кротости и доброты, и одушевлялся глубокою признательностью к его необыкновенно приветливому обращению со мною (к живейшей досаде графа Клейнмихеля, которого он трактовал, видимо, не так дружески, как меня).
Как все переменилось! Государем он принял на себя вид суровый, неподходящий к его натуре. В отношении ко мне он не только перестал быть приветливым, но, казалось, был ко мне недоброжелателен, – а за что? – не знаю и не постигаю. Трудна была его задача! Понимать дело в существе он не мог, потому что никто не показывал ему России, – а научиться делу в этой пестрой сходке надутых ораторов, остряков, шутов, интриганов и невежд было еще менее возможно. Лучше бы оставили его наедине с Канкриным, Киселевым и Бобринским, между критикою глубокого ума, хотением ума впечатлительного и практическим знанием промышленных сил России. Живость Киселева и Бобринского возбуждала бы его духовные силы, а холодность Канкрина служила бы конденсатором мечтаний, иногда парообразных, первых двух. Это было бы сочетание классицизма с романтизмом; скептицизма, сангвинизма и гуманности, а прочих бы – кроме Толя и Меншикова – в балаган. Этих двух скоро спустили.
Собрался Главный комитет; прочитали указ о моем назначении. Я, по свойственной мне нелюдимости, не сделал ни одного визита; представился только цесаревичу, который принял меня очень благосклонно и объявил, что если мне нужно будет его видеть, то я могу являться в 10 часов утра; если же желаю говорить с ним без свидетелей, то в 6 часов, после обеда. Я не поехал даже к Бенкендорфу до того времени, пока нужно было собрать комиссию.
Бенкендорф понял уже, что против него сделано. Когда Главный комитет положил заготовить от казны землекопные инструменты, Бенкендорф назначил присутствие у себя, а не в комнате, которую Клейнмихель приготовил для этой цели в здании экзерциргауза, у Зимнего дворца, где помещалась тогда канцелярия, а теперь гвардейский штаб. В комиссии заседали граф Клейнмихель, Чевкин, граф Бобринский, Дестрем, Готман, Крафт и Мельников. Когда собрались подрядчики, Бенкендорф сказал им речь:
– Господа! Прежде всего я обязан предупредить вас, что вас здесь не будут обсчитывать; вы будете иметь дело с людьми честными, и мы надеемся, что будем иметь дело с такими же. Я для того именно и посажен сюда государем, чтобы наблюдать за справедливостью расчетов с вами.
Это было не в бровь, а в глаз. Клейнмихель побледнел, однако же не сказал ни слова Бенкендорфу после заседания. Я было забыл, что в то время, когда я поехал к Бенкендорфу с просьбою собрать комиссию, он не знал еще, что канцелярия официально поручена ведению графа Клейнмихеля. На доклад мой, что граф Клейнмихель поручил мне просить и т. д., он взволнованным голосом отозвался, что не граф, а он – председатель, что это его дело, что я обязан был спрашивать его приказания, а не графа, – говорил это с большою живостью жеста, то устремляя указательный палец на меня, то ударяя им себя в грудь. Когда он кончил, я доложил ему, что канцелярии объявлено высочайшее повеление на днях быть в ведении графа Клейнмихеля, что я считал обстоятельство это уже известным его сиятельству и являюсь сегодня к нему как посланный от своего прямого начальника. Бенкендорф смягчился и отпустил меня довольно милостиво.








