Признание. Стихи
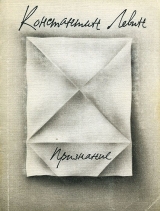
Текст книги "Признание. Стихи"
Автор книги: Константин Левин
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
«Кто, как Лидия Степановна…»
Кто, как Лидия Степановна,
Непутевого поймет?
Оступившегося, пьяного
Мягкой ручкой обоймет.
Отведет соседа хворого
К знаменитому врачу,
Где не надо, врежет здорово
Безыдейную речу.
Тихо сбычится, такая ведь,
На удар – двойной удар.
Ни армян не даст обхаивать,
Ни евреев, ни татар.
А когда блеснут на улице
Синих глаз ее огни,
При народе расцелуется,
Но чтоб что-нибудь – ни-ни.
А когда, хвала всевышнему,
Сабантуй к ней входит в дом,
Пироги какие с вишнями,
С яблоками, с творогом!
Нет стола на свете лучшего!
Ресторациям – хана!
Выручать, учить, приючивать
Кто сумеет, как она?
Но кого же станет жечь она,
Иссушать, сводить с ума?
Добродетельная женщина
Как бесснежная зима.
70-е
СТАРИК
Хороший был старик Саид Умэр,
Дубленый и серебряный татарин.
Все знал про лошадей и все умел
И был за то аллаху благодарен.
Весьма приметен, хоть и невысок,
Был скор и прям для старого мужчины,
И белый шрам бежал через висок,
Перерубая жесткие морщины.
Бывало, за день не раскроет рта,
Толчется меж коней, широкогрудый,
Батыя забубенная орда
В нем с турками перемешалась круто, —
И вышел ничего себе замес.
А в девяностые примерно годы,
Наехавши сюда из разных мест,
Томились барыньки – каков самец! —
На лоне расточительной природы.
Но тех забав сошел кизячный дым.
Запомнилось другое в полной мере:
Как раза два беседовал с Толстым
О лошадях, о жизни и о вере.
Мне было девять, шестьдесят ему.
И я за ним ходил, как верный сеттер,
В той, довоенной Гаспре, в том Крыму.
Годок стоял на свете тридцать третий.
Когда меня, плохого ездока, —
Не помогли ни грива, ни лука —
Конь сбросил, изловчившись втихомолку,
Тяжелая татарская рука
Мне на плечо сперва легла, легка,
Потом коню на трепетную холку.
Он примирял нас, как велел аллах,
И оделял домашней вкусной булкой,
Старик в потертых мягких постолах.
Ах, как же бредил я такой обувкой!
Но вышло расставаться. Ухожу.
Прощаемся в рукопожатье твердом…
Как было в сорок первом – не скажу,
Но вот что деялось в сорок четвертом.
В тех, главных, что-то дрогнуло усах.
Судов не затевали и для вида.
На «студебекерах» и на «зисах»
Та акция вершилась деловито.
В одном рывке откинуты борта.
В растерянности и с тоской немою
Стоял старик, не разжимая рта,
Глядел на горы, а потом на море.
С убогим скарбом на горбу в мешке
Сгрузился он с родней полубосою.
Нет, не укладывается в башке,
Что мог он к немцам выйти с хлебом-солью.
Быть может, кто и вышел. Этот – нет!
Не тот был норов, и закал, и сердце.
В степи казахской спи, татарский дед,
Средь земляков и средь единоверцев.
70-е
НА ОДНОЙ СОЛДАТСКОЙ СВАДЬБЕ
Я был на свадьбу приглашен
Товарищем старинным.
Меня намного старше он
Годами был и чином.
Он в душу мне вошел навек
С той ночи госпитальной,
Военный, крепкий человек,
С его судьбой печальной.
Но не хочу на чей-то суд
Или на чью-то совесть
Нести, как многие несут,
Его глухую повесть.
Скажу одно: в чужой стране
Никто цветов постылых
Его парнишке и жене
Не носит на могилу…
Был приглашен на свадьбу я,
Хоть свадеб не любитель.
(Надеюсь, никого, друзья,
Я этим не обидел.)
И я на свадьбе той сидел
До самой белой зорьки,
Со всеми пил, со всеми ел,
Кричал со всеми: «Горько!»
Артиллерийского полка
Там офицеры были,
Да три-четыре земляка
Приехать не забыли.
Со всеми пил, про долю пел
Ямщицкую степную…
Но, может быть, один глядел
На карточку стенную.
Немало карточек таких,
В багетах небогатых,
В домах встречал я городских
И наших сельских хатах.
И были многие с каймой,
И без каймы случалось…
И эта, о которой речь,
От всех – не отличалась.
С нее смотрел, смотрел на пир,
На свадебные лица
Пехотный властный командир
Со шпалою в петлице.
Ни с кем он не был тут знаком
И как бы удивлялся,
Что за его родным столом
Чужой народ собрался.
Наверно, кончилась война,
Решил он по-солдатски.
Недаром пьет вино жена,
Недаром столько штатских.
Но ничего он не сказал…
А мы все глуше пели.
И лишь одни, одни глаза
На тот портрет глядели.
Такой нездешнею тоской
Глаза светились эти,
За все года мои какой
Я не встречал на свете.
И столько просьбы было в них,
И веры, и печали,
Что громкий пир наш вдруг затих
И многие привстали.
И старой песни той слова
Вдруг стали неуместны.
Молчит солдатская вдова,
Солдатская невеста…
И встал тогда мой старый друг,
Взяв женщину за руку,
Как будто вновь ее из рук
Уводят на разлуку.
Он встал, солдат. Один он был
За них двоих в ответе,
А эту женщину любил
В последний раз на свете.
Так что ж судьба ее ведет,
Силком влечет – не лаской —
В тот первый, в сорок первый год,
Назад, к Волоколамску?
И от дороги прочь, и там,
Отнюдь не под ракитой,
Лежит пехотный капитан,
Ее супруг убитый.
Был тих наш пир. И тишина
Была себе не рада…
Отечественная война
Стояла с нами рядом.
И каждый в рот воды набрал,
А надо, надо знать бы —
Нас друг не на поминки звал,
А все-таки на свадьбу…
И молвил старый мой солдат: —
Бывают свадьбы краше…
А мне дороже всех наград
Молчанье это ваше.
Затем, что, как там ни сласти —
Горька навеки память… —
О, как хотелось мне найти
Слова между словами!
Сказать ему их не красно,
Но только по-солдатски.
И раз не допито вино —
Допить его по-братски.
Но не придумал я тех слов,
Единственных и верных,
И был все так же круг суров
Друзей нелицемерных.
1950
«Я прошел по стране…»
Я прошел по стране
Той же самой дорогой прямою,
Как ходил по войне
С нашей армией 27-ю.
Тут я был, тут служил
Неотступно от воинских правил,
Головы – не сложил,
Но души половину – оставил.
Я прошел не по всей —
Лишь по части великой державы.
По могилам друзей
Я узнал вас, места нашей славы!
Я нашел тот окоп,
Тот из многих окопов окопчик,
Где на веки веков
Командир мой дорогу окончил.
Тут он голову мне
Бинтовал по окопной науке…
Час спустя в тишине
На груди я сложил ему руки…
Октябрь 1950
«Ночью на Киевский еду вокзал…»
Ночью на Киевский еду вокзал,
С полупустым прохожу чемоданом.
Кто бы маршрут мне ни подсказал,
Не заплутаю в пути безобманном.
Еду, однако, под ту же звезду,
Где в сорок третьем году проходил я,
Где в сорок третьем далеком году
Первого друга похоронил я.
Юноша едет со мною в купе.
Лет восемнадцати – больше не будет.
Все, что мне надо, – чтоб к этой судьбе
Не обращались жерла орудий.
Кто бы он ни был и кем бы ни стал,
Сколько б ему ни предстало скитаний,
Я бы хотел, чтоб на этот вокзал
Шел он без горьких воспоминаний.
Нас разделяет каких-нибудь семь
Очень существенных лет для обоих.
Нас окружает дорожная темь —
Небо тут завтра блеснет голубое.
Это не столько слова и стихи,
Сколько, поросши лиловым бурьяном,
В старых кюветах гниют костяки
Танковых армий Гудериана.
Если б одни они там полегли —
Стал бы я время терять в разговорах!
Но узнаю средь родимой земли
Прах наших собственных «тридцатьчетверок»…
Едет со мной молодой человек,
Строгими смотрит на землю глазами.
Знаю, солдаты: этот – навек
Будет душою высокою с нами.
1949
«Мы брали этот город над Днестром…»
Мы брали этот город над Днестром,
Тут старая граница проходила.
Тут восемь чудищ – восемь дотов было.
Один теперь. Как память о былом.
Двуглазый, строенный в году тридцатом,
Он абсолютно мертв. Но и сейчас,
Хоть из него и вынута матчасть,
Он уважение внушит солдатам.
Он им напомнит сорок первый год…
И скажет: не всегда я ржавел немо,
Моя артиллерийская система
Немало вражьих разменяла рот.
Карающее детище войны,
Он правому служил, однако, делу,
И вы, что были там окружены,
Не выбросили, братья, тряпки белой!
И ваш огонь на этом берегу
В последние, в прощальные минуты
По-прежнему огнем был по врагу,
Но, может, был и по себе салютом.
Октябрь 1950
«Среди тостов всех велеречивых…»
Среди тостов всех велеречивых,
Что поднять той ночью нам дано,
Я хотел бы выпить молчаливо
Новогоднее свое вино
За здоровье тех далеких женщин,
С кем пришлось мне в жизни быть на «ты»,
Чтоб у них печалей было меньше,
Чтоб сбылись их скромные мечты.
Чтобы их другие полюбили
Проще и верней, чем я умел.
Чтобы серые и голубые
Их глаза светили мне во тьме.
Чтоб я шел дорогою земною
К общей неминуемой черте,
А они б кружились надо мною
В той, в первоначальной красоте.
1950
«С черною немецкою овчаркой…»
С черною немецкою овчаркой
Мы вдвоем проводим вечера
За хорошей книгой и за чаркой
И добра не ищем от добра.
Не читает и не пьет собака —
Умная звериная душа.
Понимает, что к чему, однако, —
Это сразу видно по ушам.
Ничего забавней нет и строже
Этих настороженных ушей.
И замечено: чем пес моложе,
Тем собачий взор его грустней.
Что собаке надобно для счастья?
А не так уж мало надо ей:
Человечье доброе участье,
Тихое присутствие людей.
Я делюсь душою как умею
С каждым, кто в обиде и тоске,
Разговаривать учусь прямее
С каждым на его же языке.
Пес не хуже прочих это ценит,
Только не клянется без нужды.
Он и так по гроб нам не изменит
И не отречется в час беды.
1950
«Был я хмур и зашел в ресторан „Кама“…»
Был я хмур и зашел в ресторан «Кама».
А зашел почему – проходил мимо.
Там оркестрик играл и одна дама
Все жрала, все жрала посреди дыма.
Я зашел, поглядел, заказал, выпил,
Посидел, погулял, покурил, вышел.
Я давно из игры из большой выбыл
И такою ценой на хрена выжил…
1969
«Вино мне, в общем, помогало мало…»
Вино мне, в общем, помогало мало,
И потому я алкашом не стал.
Иначе вышло: скучноват и стар,
Хожу, томлюсь, не написал романа.
Все написали, я – не написал.
Я не представил краткого отчета.
И до сих пор не выяснено что-то,
И никого не спас, хотя спасал.
Так ты еще кого-то и спасал?
Да, помышлял, надеялся, пытался.
По всем статьям пропал и спасовал,
Расклеился, рассохся и распался.
Выходит – все? А между тем живу,
Блины люблю, топчу в лугах траву.
Но начал я, однако же, с вина.
Так вот, хочу сказать: не налегаю.
Мне должно видеть трезво и сполна
Блины – блинами и луга – лугами.
И женщину, которая ушла,
Не называй разлюбленной тобою,
А говори: «Такие, брат, дела».
И – дальше, словно кони к водопою.
О трезвость, нет надежнее опор,
Твой чуткий щуп держу я как сапер.
Нет, я тебя не предал и не выдал,
Но логикой кое-какой подпер,
Которая, увы, мой главный идол.
70-е
«Полуувядшие кокетки…»
Полуувядшие кокетки:
Бороздки острые у губ,
Не расчехляются ракетки,
За шкаф упрятан хула-хуп.
Сбрехали, стало быть, цыганки,
Сошел туман с туристских троп,
И о театре на Таганке
Иссяк великосветский треп.
Как вы хулили и хвалили!
В глазах безуминки огни.
Но что Пикассо, где Феллини?
Предательски не помогли.
Жить, вспоминая и итожа,
Жестокий, в сущности, закон.
А он, опора и надежа,
Друг, утешитель, что же он?
Он вдруг смекнул, что скоро в ящик,
И сумрачен, как троглодит,
Он на дразнящих, на летящих,
На тонких девочек глядит.
Еще он хватит с ними горя,
Зато сегодня – горячо!
Ходи земля, раздайся море,
Он потягается еще!
А вы? Возвысьтесь и простите,
Руками в тишине хрустите,
Ведите дом, детей растите,
Скажите тихие слова:
«Ну да, конечно». Черта с два!
Сорокасильные моторы
Запели в боевых грудях:
И вертихвостки и матроны —
Ораторы на площадях.
Разбудоражены все дали,
Все родственные очаги,
И до отказа все педали,
Рубильники и рычаги.
Расседлан и неосторожен,
Разнузданный, пасется он.
Но – заарканен и стреножен,
И посрамлен, и возвращен.
Он в рюмку узкую глядится,
Беседует полумертво,
И солнце красное садится,
Как и встает, не для него.
О, как потерянно и тихо
Вы шепчете, отбросив спесь:
«Ну, хорошо, но где же выход?»
А кто сказал, что выход есть?
70-е
«Обмылок, обсевок, огарок…»
Обмылок, обсевок, огарок,
А все-таки в чем-то силен,
И твердые губы дикарок
Умеет расплавливать он.
Однажды добравшись до сути,
Вполне оценив эту суть,
Он женщиной вертит и крутит,
Уж ты ее не обессудь.
Ей плохо. И надо забыться
И освободиться от схим
С чинушею ли, с борзописцем
Иль с тем шоферюгой лихим.
Иль с этим, что, толком не глянув,
Рванулся за нею вослед.
Он худший из донжуанов,
Да, видимо, лучшего нет.
И вот уже дрогнули звенья:
Холодный азарт игрока,
И скука, и жажда забвенья,
И темное чудо греха.
60-е
«Когда я стану плохим старикашкой…»
Когда я стану плохим старикашкой,
Жадно питающимся кашкой,
Больше овсяной, но также иной,
То и тогда позабуду едва ли
Там, на последнем своем перевале,
Нашу любовь в Москве ледяной.
Преувеличиваю? – Малость.
А что еще мне в жизни осталось?
А вот что в жизни осталось мне:
Без тени преувеличенья
Изобразить любви теченье —
Коряги, тина, мусор на дне.
60-е,70-е
«Чему и выучит Толстой…»
Чему и выучит Толстой,
Уж как-нибудь отучит Сталин.
И этой практикой простой
Кто развращен, а кто раздавлен.
Но все-таки, на чем и как
Мы с вами оплошали, люди?
В чьих только ни были руках,
Все толковали о врагах
И смаковали впопыхах
Прописанные нам пилюли…
Ползет с гранатою на дот
Малец, обструганный, ушастый.
Но он же с бодрецой пройдет
На загородный свой участок.
Не злопыхая, не ворча,
Яишенку сжевав под стопку,
Мудрует возле «Москвича»,
Живет вольготно и неробко.
Когда-то, на исходе дня,
Он, кровь смешав с холодным потом,
Меня волок из-под огня…
Теперь не вытащит, не тот он.
И я давно уже не тот:
Живу нестрого, спорю тускло,
И на пути стоящий дот
Я огибаю по-пластунски.
70-е
«Остается одно – привыкнуть…»
Остается одно – привыкнуть,
Ибо все еще не привык.
Выю, стало быть, круче выгнуть,
За зубами держать язык.
Остается – не прекословить,
Трудно сглатывать горький ком,
Философствовать, да и то ведь,
Главным образом, шепотком.
А иначе – услышат стены,
Подберут на тебя статьи,
И сойдешь ты, пророк, со сцены,
Не успев на нее взойти.
70-е
«Премудрости в строку я не утисну…»
Премудрости в строку я не утисну,
Одною с вами связан бечевой,
Все знаю: от фрейдизма до буддизма,
Но, в общем, я не знаю ничего.
Не острою, но стойкою тоскою
Полна душа уже который год.
О, если б знать мне что-нибудь такое!
Но вера в бога тут не подойдет.
По собственной программе обучаюсь
И, суетою душу не дробя,
К кому-то с тихим словом обращаюсь,
Но не к тебе, не верю я в тебя.
80-е
«Разочаровавшись в идеалах…»
Разочаровавшись в идеалах
И полусогнувшись от борьбы,
Легионы сирых и усталых
Поступают к господу в рабы.
Знаю, худо – разочароваться,
В том изрядно преуспел и сам.
Но идти к начальникам гривастым,
Верить залежалым чудесам?
До такого тихого позора
Все-таки, надеюсь, не дойду.
Помогите мне, моря и горы,
Жить и сгинуть не в полубреду.
Подсобите, мученики века,
Поудобней не искать оков
И, не слишком веря в человека,
Все же не выдумывать богов.
И, прощально вглядываясь в лица,
Перышком раздумчивым скребя,
Не озлобиться и не смириться —
Только две задачи у тебя.
80-е
ПАМЯТИ МАНДЕЛЬШТАМА
Перечитываю Мандельштама,
А глаза отведу, не солгу —
Вижу: черная мерзлая яма
С двумя зэками на снегу.
Кто такие? Да им поручили
Совершить тот нехитрый обряд.
Далеко ж ты улегся в могиле
От собратьев, несчастный собрат,
От огней и камней петроградских,
От Москвы, где не скучно отнюдь:
Можно с Блюмкиным было задраться,
Маяковскому сухо кивнуть.
Можно было… Да только на свете
Нет уже ни того, ни того.
Стала пуля, наперсница смерти,
Штукой чуть ли не бытовой.
Можно было, с твоей-то сноровкой,
Переводы тачать и тачать.
И рукой, поначалу лишь робкой,
Их толкать, наводняя печать.
Черепной поработать коробкой
И возвышенных прав не качать.
Можно было и славить легонько,
Кто ж дознается, что там в груди?
Но поэзия – не велогонка,
Где одно лишь: держись и крути.
Ты не принял ведущий наш метод,
Впалой грудью рванулся на дот,
Не свихнулся со страху, как этот,
И не скурвился сдуру, как тот.
Заметался горящею тенью,
Но спокойно сработало зло.
И шепчу я в смятенном прозренье:
– Как же горько тебе повезло —
На тоску, и на боль, и на силу,
На таежную тишину,
И, хоть страшно сказать, на Россию,
А еще повезло – на жену.
80-е
«У старого восточного поэта…»
У старого восточного поэта
Я встретил непонятный нам призыв:
Тиранить, невзлюбить себя. И это
Сработало, до пят меня пронзив.
Нет у Христа подобного завета,
И не ищите. Тут видна рука
Раскосого и сильного аскета,
Что брюхо вспарывает в час рассвета
И собственные держит потроха.
Он сам с собой вчистую расквитался,
Когда, взойдя на этот эшафот,
Одной рукой за воздух он хватался,
Другою – за распоротый живот.
О харакири варварская сущность,
Гордыня, злоба, мужество и спесь.
Но с чем я против них, убогий, сунусь,
Нестрогий весь, перегоревший весь?
80-е
НАБРОСОК ПОРТРЕТА
Выпил водки и губы вытер,
Был он гладок, дюж и фартов,
Был на нем темно-бурый свитер,
На швартов налезал швартов.
– Надо рот отверзать нечасто,
Чтобы сила была в словах,
Молодыми зубами счастье
Надо рвать, если не слабак.
Скажем, Север и, скажем, лагерь,
Загибаюсь, как этот дрозд,
Стал я серым, как этот ягель,
Что один тут прибито рос.
Скоротечная, как чахотка,
Вниз пошла житуха моя,
Ярославщина и Чукотка,
Вот и все дела и края.
Значит, сдрейфил я? Я не сдрейфил.
Я сказал себе даже тут,
Что тропические деревья
Надо мной еще зацветут.
Больше нету ко мне вопросов? —
– Их и не было. – Тут он смолк.
Полуурка, полуфилософ,
Молодой, но матерый волк,
На меня поглядевший косо
В ресторанчике «Поплавок».
– Так-то, Витя, и так-то, Вася,
Север, Север, каленый край,
Ну, а если слабак, сдавайся,
Не уверен – не обгоняй.
70-е
«Проходит пять, и семь, и девять…»
Проходит пять, и семь, и девять
Вполне ничтожных лет.
И все тускней в душе – что делать?
Серебряный твой след.
Я рюмку медленно наполню,
Я весел, стар и глуп.
И ничего-то я не помню,
Ни рук твоих, ни губ.
На сердце ясно, пусто, чисто,
Покойно и мертво.
Неужто ничего?
Почти что,
Почти что ничего.
1978
«Почитывают снобы…»
Почитывают снобы
Бердяева и Шестова.
А для чего? А чтобы
При случае вставить слово.
При случае вставить слово
И выглядеть толково,
Загадочно, элитарно,
Не слишком элементарно.
Что было чужою болью,
Изгнаньем и пораженьем,
То стало само собою
Снобистским снаряженьем.
О бедные мои снобы,
Утлые ваши души,
Хлипкие ваши основы, —
Лишь в струнку вздернуты уши.
Прослышали, сообразили,
Схватили, пока не ушло.
Вас много сейчас в России,
Но вы – не главное зло.
70-е
ПАМЯТИ ФАДЕЕВА
Я не любил писателя Фадеева,
Статей его, идей его, людей его,
И твердо знал, за что их не любил.
Но вот он взял наган, но вот он выстрелил —
Тем к святости тропу себе не выстелил,
Лишь стал отныне не таким, как был.
Он всяким был: сверхтрезвым, полупьяненьким,
Был выученным на кнуте и прянике,
Знакомым с мужеством, не чуждым панике,
Зубами скрежетавшим по ночам.
А по утрам крамолушку выискивал,
Кого-то миловал, с кого-то взыскивал.
Но много-много выстрелом тем высказал,
О чем в своих обзорах умолчал.
Он думал: «Снова дело начинается».
Ошибся он, но, как в галлюцинации,
Вставал пред ним весь путь его наверх.
А выход есть. Увы, к нему касательство
Давно имеет русское писательство:
Решишься – и отмаешься навек.
О, если бы рвануть ту сталь гремящую
Из рук его, чтоб с белою гримасою
Не встал он тяжело из-за стола.
Ведь был он лучше многих остающихся,
Невыдающихся и выдающихся,
Равно далеких от высокой участи
Взглянуть в канал короткого ствола.
«Хорошо сидел солдатский ватник…»
Хорошо сидел солдатский ватник
На некрепких молодых плечах.
Много лучше, чем венгерский батник.
Ну да не о том твоя печаль.
По тому, как ты орал и верил,
Что поднимешь взвод, развеешь страх,
Было ясно, это – офицерик,
Но, конечно, не в больших чинах.
Ватничек был туго подпоясан
Выданным в училище ремнем.
Завтра все-таки пройдем по Яссам,
Ежели сегодня не умрем.
Не прошли солдатики. Над ними
Только звезды, звезды без числа.
Никого ты больше не поднимешь
Против наступающего зла.
А твоя чадит еще лампада,
Не засыпала тебя лопата,
Вышло – доползти и одолеть
Марево санроты и санбата,
Санлетучек и госпиталей.
Жизнь прошелестела, прошумела,
Протекла, процокала, прошла.
И придурковато-очумело
Шепчешь ты: «Хреновые дела».
Доедай остынувшую кашу
И учти, пустая голова,
Женщины тебе уже не скажут
Сладкие и стыдные слова.
Так что горделиво и спесиво
Не глядись в грядущие года.
Говорили? И на том спасибо,
Но – уже не скажут никогда.
1981
ПАМЯТИ МАЯКОВСКОГО
Выпив утренний свой кофе,
Шли Москвой, как через луг,
Маяковский в желтой кофте
И с лорнеткою Бурлюк.
Лица тверды, как медали,
И надменно весел взгляд.
Эпатируют? Едва ли,
Просто мальчики шалят.
Обойдем чванливый Запад
На полкорпуса хотя
И Толстого сбросим за борт
Вместе с Пушкиным шутя.
Пошумели, заскучали.
Там война. А там она,
Чьи жестокие скрижали
Примут многих имена.
Там и ты расправишь плечи,
Там и ты получишь слово,
Не заленится рука.
И далеко ей, далече
До того, до спускового,
До злосчастного крючка.
На эстрадах, на собраньях
Живу душу жжешь дотла.
Только что там – кольт иль браунинг
В нижнем ящике стола?
Хоть примериваясь к бездне,
И не лез ты на рожон,
Но не стать на горло песне
Тоже было не резон.
И легла в патронник пуля,
Как лежит в стихе строфа,
Где Азорские мелькнули
И пропали острова.
И огромного мужчину
Положили люди в гроб.
И ведет Кольцов машину,
И в холодных каплях лоб.
Не твоих ли дней начало
Было городу к лицу?
Не твоя ли трость стучала
По Садовому кольцу?
Не такою ли весною
Ты шатался с Бурлюком,
Звонкой силой и тоскою
Непонятною влеком?
Но свинцом рванула сила,
Кровью хлынула тоска.
И сожгла, и схоронила
Маяковского Москва.
А весна идет с окраин,
А народ молчит, глазаст,
А в Кремле сидит хозяин,
Он тебе оценку даст.
Красят скамьи и киоски
В белый цвет и голубой…
Маяковский, Маяковский,
Первая моя любовь.
70-е







