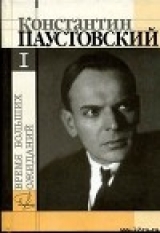
Текст книги "Бросок на юг"
Автор книги: Константин Паустовский
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Константин Паустовский
Бросок на юг
ВОЙНОЙ ВЗВОЛНОВАННЫЙ КАВКАЗ. Предисловие Вадима Паустовского
Первая публикация повести – в № 10 журнала «Октябрь» за 1960 год. Отдельной книгой вышла в издательстве «Советский писатель» в 1961 году. С тех пор, на протяжении уже почти сорока лет, книга отдельно не переиздавалась ни разу. Оформителем книги был художник Кирилл Зданевич. И не случайно. О нем читатель узнает из текста самой книги, и, я думаю, у нас будет еще повод поговорить о его судьбе и взаимоотношениях с отцом в разные периоды их жизни.
В «Броске на юг» – пятой части автобиографического цикла «Повесть о жизни» – отражен короткий, но насыщенный событиями и встречами отрезок жизни автора, охватывающий 1922 – 1923 годы. Действие в основном протекает на черноморских берегах Кавказа: Сухуми, Батуми, Тбилиси, переезды и поездки по Закавказью. Тогда эти города назывались по-иному – Сухум-Кале, Батум, Тифлис.
Повесть написана зрелым автором, на пике его творчества. Черновые рукописи занимают четыре общие тетради. Написана за десять месяцев напряженной работы, преимущественно она происходила в Ялте, в доме творчества. На обложке рукописи проставлена дата написания: «сентябрь 1959, Ялта – июнь 1960, Таруса». Само название книги менялось Паустовским несколько раз – можно привести такие, как «Войной взволнованный Кавказ», «Трехпогибельный Кавказ», «Бросок в страну» и даже «Дорога народов», пока автор не остановился на наиболее правильном с точки зрения канвы «Повести о жизни»: «Бросок на юг».
Если говорить вообще о названиях частей автобиографической повести К. Паустовского и их вариантах, нельзя не отметить их неувядаемой сущности. До сих пор мы как бы живем во «времени больших ожиданий», Кавказ все так же взволнован войной, как и прежде, и «На медленном огне» – первое название «Книги странствий» заключительной повести, части цикла, – сегодня не теряет своей актуальности в нашей жизни.
Заголовки отдельных глав повести тоже менялись многократно, и это говорит о взыскательности писателя. Грузинская исследовательница Ия Адеишвили из Кутаиси несколько месяцев провела в Центральном государственном архиве литературы и искусства за работой над рукописями «Броска на юг». Приведу несколько ее наблюдений.
«В первой тетради – черновики от главы «Несколько авторских замечаний» до «Берегового приюта»… Во второй – главы от «Военнопленного Ульянского» до «Над слоем льда» (в печати – «Намек на зиму»). Эти тетради содержат 188 листов…
Третья тетрадь начинается с описания квартиры Зданевичей и включает главы «Человек из народа» (получившую в конце концов название «Клеенки Пиросмани»), «Каждому свое», «Еще одна весна» и «Библейская пыль»; последнее заглавие перечеркнуто, и рукой автора вписано новое название – «Мгла тысячелетий». В конце тетради, на обложке, имелись некоторые замечания писателя о том, что следовало заменить имена героев Заремба, Лобия и т. д.
Последняя тетрадь открывается главой «Все это выдумки»… В поисках заглавий отдельных глав-рассказов К. Паустовский, как правило, пробовал несколько вариантов и лишь после тщательных раздумий оставлял наиболее удачное… 13-я глава имела два заглавия – «Собеседник сердца, жизни» и «Веселый попутчик». Первое заглавие писатель перечеркнул, 19-я и 21-я главы-рассказы имели по три заглавия. Например, «Новый 1923-й год», «С Новым годом!» и «Находчивый гражданин Лобия». Все эти заглавия оказались неудачными, и К. Паустовский заменил их иным – «Новогодняя ночь». Из трех заглавий 21-й главы – «Под слоем льда», «Тончайший лед», «Намек на зиму» – осталось последнее».
«Кавказский» период жизни К Паустовского постоянно был насыщен литературным трудом. Распрощавшись с Одессой, К Паустовский, ответственный секретарь «Моряка», не порвал с редакцией профессиональных, деловых связей. Он получил мандат собственного корреспондента газеты, и его очерки, зарисовки, репортажи регулярно появлялись на страницах этого издания вплоть до 1927 года, даже когда он работал в московских газетах и журналах. Кроме того, Паустовский имел от редакции «Моряка» ряд дополнительных поручений, в частности ему предлагалось наладить выход морских газет в портовых городах Черноморского побережья.
Эту задачу К. Паустовский реализовал. В Батуми стала выходить газета «Маяк», к участию в которой он привлек местные литературные силы, да и сам активно печатался.
Издание на юге России второй газеты для моряков вполне отвечало внутреннем устремлениям самого Паустовского, поэтому он так активно принялся за дело. Кроме того, он сотрудничает в батумской газете «Трудовой Батум», а приехав в Тбилиси, пытается за короткий срок улучшить выпуски газеты «Гудок Закавказья».
Помимо утомительной газетной работы, К. Паустовский настойчиво готовит себя к писательству. Рукопись романа «Мертвая зыбь» (в последующем «Романтики») дополняется новыми страницами, на новом материале рождаются первые его рассказы: «Лихорадка», «Этикетки для колониальных товаров», «Концерт в Вардэ», «Соус керри»… По возвращении в Москву эти рассказы лягут в основу первых книг Паустовского.
Многие возникшие в 1922—1923 годы знакомства, симпатии и антипатии отца наложили отпечаток на его дальнейшую жизнь и творчество.
Мне хотелось бы сейчас остановиться, хотя бы вкратце, на одном из таких знакомств.
В Тбилиси произошла романтическая встреча моего отца с молодой художницей Валерией. Через десять лет родители расстанутся, а второй женой отца станет эта женщина. В «Броске на юг» она фигурирует под именем Мария. Подробнее об этих драматических переплетениях судеб я расскажу позже, в конце книги.
Отдельного разговора заслуживает и тема Петра Петровича Шмидта в творчестве Паустовского. К этой легендарной личности, замусоренной советскими штампами, Паустовского влекло на протяжении всей его жизни.
Еще в сентябре 1917 года в еженедельнике «Народный вестник» появился небольшой очерк двадцатипятилетнего журналиста «Лейтенант Шмидт». Очерк состоял из трех эскизов: впечатления от острова Березань, места казни Шмидта, описания прохладного летнего дня в затерянном уезде Орловской губернии, когда автора «словно острой бритвой полоснуло по сердцу», так как в альбоме с открытками он увидел фотографию Шмидта и рядом «его Клятву». Он пишет: «…Гудели под ветром сосновые леса. Хотелось думать о нем, о человеке, создавшем из своей жизни одну из самых сильных и печальных легенд». И, наконец, третий эскиз – Севастополь 1916 года. «Тогда я понял, что Шмидт – это человек, рожденный и воспитанный морем. Море приучает глаза к широким горизонтам и приучает ум к смелым и свободным построениям…»
Так все эскизы объединены образом человека, моряка, уверенного, как упоминает отец, что он принимает смерть у пограничного столба «между рабской и свободной Россией». И который «перед смертью так трогательно и просто вспомнил Христа».
В этом раннем очерке угадываются черты и зрелого Паустовского.
Вторым обращением к Шмидту стал рассказ «Три страницы». Он был опубликован в журнале «Рупор» в конце 1925 года. Наиболее объемно фигура Шмидта выписана Паустовским в повести «Черное море» (1936 год), в конце тридцатых годов по заказу Театра имени Вахтангова работает над пьесой о Шмидте.
К разговору об этом я еще вернусь…
Вадим Паустовский
Короткое объяснение
Эта книга – пятая по счету из автобиографического цикла «Повесть о жизни». В ней мне пришлось «по ходу пьесы» отойти от России и перенести действие на крайний юг – на Кавказ и в Закавказье.
Снова я попал в края, где только что установилась Советская власть. Так случилось, что все время я с большими перерывами догонял движение революции на юг. По этой причине ее развитие представляло для меня не прямую линию, а причудливые петли и возвраты. Пережитое год назад возвращалось, но в ином виде и с разными добавочными событиями.
Я оторвался от России почти на два года. Но не жалею об этом: я многое за это время узнал.
Событий и людей в книге много, но все же гораздо меньше, чем было в действительности.
По довольно разумным законам драматургии пьесы обычно делятся на несколько точных частей.
Вначале – экспозиция, то есть введение читателя и зрителя в круг людей, событий и пейзажа. Затем – развитие действия, после чего наступает кульминация – высший подъем, взрыв, самая напряженная часть пьесы. Тогда зрители начинают волноваться, привстают в креслах и даже вскрикивают.
В кино типичнейший пример кульминации – это погоня. Эти бешено скачущие всадники (чтобы убить врага или спасти любимую девушку) обошлись мирной, в особенности юной части человечества, довольно дорого и истрепали уйму нервов.
К сожалению, мы не знаем, как измеряется истрёпанность нервов. В наш нервический век наука еще не дошла до того, чтобы найти способы этого измерения.
Подлинная жизнь, описанная мною, как это ни кажется странным, сама по себе сложилась в те годы по законам драматургии.
Первая книга («Далекие годы») может быть названа экспозицией, неторопливым введeнием к повествованию; вторая («Беспокойная юность») дает развитие действия; третья и четвертая («Начало неведомого века» и «Время больших ожиданий») соответствуют наибольшему напряжению, а пятая («Бросок на юг») приносит с собой некоторую разрядку. Это всегда происходит и в пьесах. Драматург делает разрядку, чтобы зритель немного отдохнул. А затем подходит закономерный конец.
Здесь сама жизнь устроила разрядку, некоторое отступление от основной темы. Она перенесла автора на Кавказ с его пестротой событий, людей и природы и, кроме того, наполнила жизнь южным жизнелюбием и юмором. На юге он не иссякает ни при каких обстоятельствах и не отступает ни перед чем.
Конст. Паустовский
Благодарность читателю
Эту книгу я хочу начать с благодарности одному из читателей – отставному капитану первого ранга А. И. Малову, живущему в Севастополе.
Капитан Малов проверил в предыдущей автобиографической повести «Время больших ожиданий» все, что имело хотя бы косвенное отношение к морю, и прислал мне несколько замечаний.
Обширные и живые познания капитана в морском деле придают его замечаниям характер коротких морских рассказов. В письме капитана включены своего рода небольшие исследования о цвете берегов северо-западного Крыма, о так называемой «башне Ковалевского» под Одессой, служившей путеводным знаком для штурманов, о многих подробностях морского дела, настолько интересных, что из них неизбежно рождается морской романтизм.
Я приведу без всякого выбора всего три замечания, присланные мне капитаном. Из этих замечаний каждому станет ясно, как человек относится к своему делу.
Прежде всего, он его уважает и не терпит по отношению к нему легкомыслия.
В одном месте книги я взял в кавычки слово «лоция». Это сейчас же вызвало справедливое возражение старого моряка: «Не надо принижать лоцию и брать ее в кавычки».
В другом месте я опрометчиво написал, что Тарханкутский мыс и маяк с давних пор пользуются дурной славой среди моряков. Мой капитан по этому поводу замечает: «Это правильно. Но зачем вы упоминаете маяк? Мыс – это да! А спасительный, предупреждающий, ориентирующий маяк, хотя и носящий (нелюбимое моряками) имя Тарханкутского, не вспоминается лихом. Моряки маячные огни почитают, а вот мысы, узости и другие навигационные опасности не славословят».
И, наконец, совершенно трогательно выглядит заступничество капитана за обиженный мною пароход «Пестель».
Несколько раз я плавал на «Пестеле», привык к нему и даже полюбил его. В первые годы Советской влаcти он единственный поддерживал связь между Кавказским побережьем и Россией.
Но я написал, что «Пестель» был дряхлый и тесный пароход – такой же, как и старая посудина «Димитрий» (эта последняя так называемая морская «коробка» сделалась одним из неодушевленных героев книги «Время больших ожиданий»).
Эти мои слова вызвали ответ капитана:
«Вы слишком одряхляете «Пестеля». Он был иным, чем «Димитрий». Он был моложе, мореходнее и иной корабельной архитектуры. За свой внешний вид, удивительно красивое строение корпуса, рангоута и надстроек «Пестель» у всех моряков торгового и военного флота пользовался глубоким уважением, симпатией и даже особой любовью.
«Пестель» погиб в 1943 году. Он был торпедирован в районе Анатолийского побережья. До 1941 года он плавал на линии Одесса – Батум, а с наступлением войны стал транспортом. Память о нем жива среди старых черноморцев».
Заканчивая это небольшое вступление к книге, я хочу пожелать каждому писателю таких взыскательных читателей, как капитан Малов.
И вместе с тем я не могу удержаться, чтобы лишний раз не позавидовать капитану, за то, что он живет в Севастополе, и лишний раз не написать об этом колдовском городе.
Пишу я это в Ялте. Пишу медленно, часто откладываю перо, и думаю, что на днях я непременно поеду в Севастополь.
В Севастополе меня встретит знойная осень. В узкой тени от подпорных стен еще будет зеленеть пыльная трава. Я не знаю даже, как называется эта курчавая скромная трава. Она довольствуется одной росой и героически переносит палящее севастопольское лето. К тому же она издает приятный слабый запах. Он напоминает запах перегоревших от солнца черных водорослей, которыми бывают усеяны пустынные пляжи. Эти водоросли покрыты мельчайшими крупицами соли. Если растереть веточку такой водоросли пальцами, то она рассыплется в бурый порошок.
Сейчас над Севастополем нависла жара. Кажется, что кто-то невидимый осторожно налил ее во все севастопольские улицы и дворы до уровня черепичных крыш. Под слоем этой тяжелой жары требовательно звенят в своих подземельях цикады.
В Севастополе можно часами сидеть на Историческом бульваре, томясь от духоты, и вдруг глубоко вздохнуть, когда нежданный ветер прорвется по невидимому фарватеру среди стен, оград, памятников, остатков бастионов, кустов акации и ударит в лицо. Это спасет вас от обморочной слабости и напомнит, что рядом за Корабельной стороной, за Братским кладбищем брызжет волной Черное море.
Севастопольские бухты врезаны в ноздреватые берега, как в окаменелую губку. На этом губчатом песчанике растут, вытягиваясь из щелей, слабые колоски, а иной раз и вылинявшие цветы величиной со спичечную головку. Очевидно, в растительном мире их считают карликами. А может быть, детьми.
Я человек с длинной жизнью. Мне пришлось пережить почти все, что может случиться на свете с человеком того возраста, когда, по словам Есенина, «пора уже в дорогу бренные пожитки собирать». И вот я завидую этим колоскам, потому что дни, недели и месяцы они стоят над морем немыми свидетелями жизни. И никто от них нe требует обязательного выражения своих чувств.
Мне даже кажется, что для них время движется медленнее, чем для нас, и они – неподвижные – видят мир спокойнее и лучше, чем мы.
Что касается меня, то я всю жизнь переходил от непрерывной деятельности к жажде того состояния, когда «студеный ключ, играя по оврагу и погружая жизнь в какой-то смутный сон, лепечет мне таинственную сагу про мирный край, откуда льется он».
Да, иной раз я хотел испытать хотя бы ничтожную долю состояния, когда погружаешься в какой-то смутный сон. Но я хорошо знал, что такое состояние только называется сном. На самом же деле оно наполнено плодоносным напряжением.
Я завидовал колоскам. Перед ними медленно сменялись рассветы и полудни, вечерние зори, белое качание теплоходов в шумящих водных далях, лучи солнца, бьющие из-за туч, мелкая роса, похожая на светящуюся манну, и звезды, подобные большой росе.
Перед этими ничтожными травинками все время проходили разные мгновения жизни в их подлинном великолепии. И все это возвращалось каждый раз при наступлении нового дня.
Но зависть быстро умирала, когда по ту сторону Южной бухты проносились в сумерках и гасли в туннеле огни скорого поезда. Эти огни уводили от архаической мглы Херсонеса и Инкермана, от диких обрывов мыса Айя и Фиолента туда, на север, где, должно быть, уже сыпались, наполняя воздух горечью, желтые березовые листья.
Я думаю, что мир в равной степени достоин медленного плодотворного созерцания и разумного и мощного действия. Созерцание – одна из основ творчества и любви к земле, в первую очередь к своей, отечественной.
Я вижу, что разговор о Севастополе начинает заводить меня слишком далеко. Поэтому я обрываю его и перехожу к повествованию.
Знатоки литературы, не пишущие книг, утверждают, что повествованию нужна железная последовательность. Пишущим книги остается только принять на веру этот закон и постараться выполнить его.
Табачная республика
Когда «Пестель» стоял в Новороссийске, на город начал надвигаться норд-ост[1]1
Во время плавания с командировочным заданием и удостоверением одесской газеты «Моряк» из голодной Одессы в Сухум отец постоянно посылал в редакцию свои корреспонденции. Одна из них малоизвестна. Она ни разу не публиковалась в книгах и не перепечатывалась в журналах и газетах, в «Моряке» опубликована 7 марта за подписью К. П-ский с весомой авторитетной пометкой: «От нашего специального корреспондента из Новороссийска».
Статья заслуживает внимания, в ней еще дышит одесский «ильфо-пе-тровский» колорит. Во всяком случае при описании концертной бригады невольно вспоминается небезызвестный автопробег с «Антилопой Гну».
Мое знакомство с подшивкой краевой газеты Черного, Азовского и Каспийского морей в Одесской научной библиотеке, как я уже говорил, не прошло бесследно.
ПАРОХОДНЫЕ КОНЦЕРТЫ
(Фрагменты очерка «Серебряные горы»)
Весь день стояли в Новороссийске – этой российской, измученной вечными норд-остами столице. Пассажиры бегут на базар – покупать дешевых здесь копченых «рыбцов» и галеты. У деревянной пристани стоит американский миноносец – «236», но к нему не подпускают на пушечный выстрел. Извозчик торгуется с вылощенным американским офицером – просит в город 300 тысяч. Американец недоумевает и дает 200. Собирается толпа. Вечером срывается норд-ост и тяжело гремит над городом, сдувая с палубы последних пассажиров в переполненную кают-компанию.
Здесь идет пароходный концерт. Почти на каждом пароходе вымо-жете увидеть все одну и ту же компанию артистов, назначение которых сводится к устройству на пароходах, в тесноте, среди больных, давки и детского плача – концертов. Эта труппа – столь же необходимая (по-видимому) и легальная организация на пароходе, как и машинная команда, капитан, его помощники, матросы. Их возят бесплатно, они занимают каюты, дружат с наглой буфетной прислугой, напиваются, бегают в портах по «срочным делам» на базары иустраивают «концерты в пользу голодающих» – смесь из скабрезных куплетов, еврейских анекдотов и румынского оркестра из какого-то сухумского духана. Голодающим,по словам существующей на пароходе специальной комиссии, концерты эти дают крайне мало, почти ничего. Простой сбор дал бы больше.
Начинается концерт и стихают многочисленные картежники, которые режутся в карты с утра до поздней ночи. В каюте шумно. Стоит веселый гогот.
– Даешь «советскую свадьбу»! – кричит группа военморов. – Даешь «Абрашу»!
Жирный, невероятной толщины задыхающийся артист («жертва войны, революции и Поволжья» – по словам конферансье) поет о луне, о парочках и растущих у кого-то рогах.
– Даешь «Машу»! – входят в азарт военморы. – Валяй, Вася, по-нашему, по-одесски.
Но совершенно неожиданно оркестр (скрипка, виолончель и контрабас) фальшиво играет «Интернационал» и концерт кончается.
А норд-ост сотрясает палубу и ночь вся дрожит в ледяном холоде звездных лучей, в ясности зимней ночи.
[Закрыть]. Появился первый признак этого бесноватого ветра: по горам протянулось облако, похожее на жгут грязной ваты. Сами же горы напоминали мертвых верблюдов с выпершими из-под пыльной шкуры ребрами.
Ватный жгут разворачивался, сползал с гор и нес с собой ветер. Надо было отваливать, пока норд-ост не успел еще обрушиться на порт. Ветер уже злорадно подсвистывал в снастях и начисто выплескивал из луж беловатую воду.
«Пестель» снялся и полным ходом начал уходить в море, к югу. По свидетельству моряков, норд-ост по мере удаления от Новороссийска быстро ослабевает и теряет свою разрушительную силу.
Нам удалось уйти от норд-оста.
Ночью я проснулся, увидел за иллюминатором в низком мраке озябшие огни Туапсе и снова уснул.
Засыпая, я думал, что, судя по началу, не стоит ждать от Кавказского побережья ничего особенного. Но утреннее мое пробуждение оказалось почти феерическим.
Я проснулся и долго лежал, не открывая глаз, ощущая у себя на лице чьи-то теплые ладони. От них пахло цветущей мимозой.
Это был, конечно, утренний бриз. Он заполнил каюту, лениво бродил по ней и прикасался ко всему, что попадалось ему на пути, в том числе и к моим щекам.
Сквозь полусон я вспомнил, что вот уже пятый день не брился и наверняка исцарапаю своей щетиной эти милые ладони. Мне стало стыдно, я решил тотчас побриться, и, должно быть, от этого окончательно проснулся.
Позванивала якорная цепь. С палубы доносились обычные портовые возгласы: «Вира, чертов банабак! Майна помалу!»
Наконец я открыл глаза. За иллюминатором блистало солнце, занявшее половину неба и половину моря и как бы приблизившееся к земле. В его победоносном свете качалась снаружи живая стена роскошной растительности.
На нее то тут, то там были брошены разноцветные мазки из киновари, чистейших белил и охры. Я закрыл глаза, помотал головой и, снова открыв глаза, убедился, что это не мазки масляной краски, а разбросанные по листве незнакомые цветы.
– «Что это? – спросил я себя и сел на койке. – Мираж? Или остров Таити? Или райские острова Самоа?»
Нет, это не было ни миражем, ни островом Таити, ни галлюцинацией после мрачной ночи. Я услышал за иллюминатором хрипловатый голос второго помощника капитана:
– Ни-ко-го! – сказал он решительно. – Никого не спустим на берег. Ясно? Хоть самого Шолом-Алейхема. Приказ правительства Абхазской республики! Точка! Так что можете полюбоваться Сухумом с палубы и не полировать себе кровь. Еще, даст бог, поживете на свете и увидите все, что вам надо увидеть, и даже то, чего вам совсем не надо бы видеть.
Я быстро оделся и вышел на палубу. Блеск медных пластинок, набитых на ступеньки трапа, ослепил меня. Короткое головокружение заставило схватиться за поручни.
С берега наплывали терпкие запахи, сливаясь с чуть ощутимым шелковистым веянием роз.
Запахи то сплетались в тугой клубок, сжимая воздух до густоты сиропа, то расплетались на отдельные волокна, и тогда я улавливал дыхание азалий, лавров, эвкалиптов, олеандр, глициний и еще множества удивительных по своему строению и краскам цветов.
Я решил сойти на берег в Сухуме, чего бы это ни стоило. И не только сойти, но и остаться здесь.
Мне казалось, что если я сойду, то сбудутся мечты моего детства. Мечты о том, чтобы на худой конец хотя бы прикоснуться к ворсистым стволам кокосовых пальм, к изумрудной коре бамбука – всегда холодной и глянцевитой, к земле, розовой от кораллового песка.
Такие мечты я, когда был еще мальчишкой, называл, подражая маме, «несбыточными». Это слово я часто слышал от нее, когда она сердилась на отца. Она даже кричала на него. Когда же он, сгорбившись, покорно уходил из дому, чтобы избежать постоянных попреков, то мама плакала от жалости к нему и брала с меня слово, что я буду всю жизнь любить его и беречь, как ребенка. «Я не могу смотреть на его сгорбленную спину», – говорила она с отчаянием.
Но ни она, ни я и никто из близких не уберегли его. Это мучило маму до самой ее смерти.
В детстве я, конечно, не испытывал никакой горечи от «несбыточного». Да и не мог испытывать. Я только догадывался, что это чувство очень грустное и что оно, как однажды сказал отец, опустошает ни в чем не повинное человеческое сердце.
Когда я был уже восьмиклассником, я нашел в письменном столе у отца узкие полоски бумаги, исписанные его рукой. Я смог разобрать только одну фразу о том, что несравненно тяжелее пережить несбывшееся, чем несбыточное.
С тех пор слабая печаль о несбывшемся почти не оставляла меня, несмотря на мой внешне веселый характер. С тех пор меня в жизни привлекали больше всего такие случаи, обстоятельства и люди, которые оставляли ощущение промелькнувшей небылицы.
Я понял смысл отцовских слов и еще больше полюбил его, но уже на том страшном отдалении, на каком мы с ним находились сейчас. Он лежал в потрескавшейся от засухи земле, среди колючего чертополоха на деревенском кладбище под Белой Церковью, а я скитался по свету один.
Мы навсегда потеряли друг друга. Но я еще хоть изредка мог вспоминать о нем. А он меня не мог даже вспомнить.
Я твердо решил остаться в Сухуме. Но как это сделать? «Пестель» стоял на якоре далеко от берега. Только две широкие турецкие лодки (их назвали «магунами») были пришвартованы к его борту. С них лебедкой грузили на «Пестеля» обшитые холстиной тюки табака. На берег никого не пускали из-за объявленного абхазскими властями загадочного карантина.
Я пошел к капитану и сказал ему, что мне нужно, как сотруднику «Моряка», хотя бы на час съехать на берег. Капитан поморщился.
– Надо поговорить со смотрителем порта, – сказал он. – Тяжелый мужчина. Ну, все равно. Пойдемте.
Смотритель порта – человек с рыжими, как прокуренные усы, бровями – решительно и грубо отказался пустить меня на берег.
– Кредит, – сказал он грозно, – портит отношения.
При чем здесь был кредит, я не понял.
Капитан настаивал, и смотритель порта, наконец, сдался.
– Можете выкатываться, – сказал он мне, – но только в том виде, в каком вы сейчас стоите передо мной. Без чемодана, без всякого барахла и даже без кепки. И прямо отсюда на берег, не заходя в каюту.
– Почему? – спросил я, хотя прекрасно понял, что смотритель боится, как бы я не захватил в каюте деньги и не остался в Сухуме.
– Я имею привычку, – ответил он, – обижаться на лишние расспросы. Если согласны, спускайтесь в магуну. Она сейчас отвалит. А следующей магуной вернетесь. Популярнее объяснить не могу.
Я слез в магуну по веревочному трапу. Пока я еще не представлял себе, как вывернусь из этого затруднения с Сухумом. Меня успокаивало лишь то, что все деньги были при мне. Чемоданом я решил пожертвовать: там ничего ценного не было, кроме трех чистых рубах. Рукопись своей первой повести, «Романтики», я оставил в Одессе.
В магуне першило горло от табачной пыли. Через борт лениво заглядывала малахитовая волна. Грузчики-абхазцы с хищными лицами яростно кричали. Пыльные мешки были гордо обвязаны вокруг их голов.
Мне показалось, что грузчики собираются выбросить меня в море. Но смотритель порта крикнул им что-то по-абхазски. Они сразу успокоились и даже угостили меня табаком «самсун».
От этого табака у меня на несколько секунд остановилось дыхание. Солнце завертелось в небе. Абхазцы сочувственно покачали головами и нехотя взялись за тяжелые весла. Магуна поползла, переваливаясь, к таинственному берегу.
Для того чтобы понять, что происходило в то время в Сухуме, нужно рассказать про общую обстановку на том клочке кавказского берега, где простиралась у подножия гор душная и маленькая Абхазия.
Советская власть в Абхазии была установлена совсем недавно. Старое перемешалось с новым, как перемешиваются вещи в корзине от сильного толчка.
Конечно, только молодостью Советской власти объяснялись все те казусы и удивительные положения, какие возникали в тогдашней Абхазии и напоминали нравы маленькой южноамериканской республики, описанные веселым пером О'Генри в его книге «Короли и капуста».
Первое время своей жизни в Сухуме я постоянно терял веру в действительность того, что происходило вокруг. У меня как бы расшаталось чувство времени и обстановки.
Если бы я увидел тогда на рее шхуны «Три брата» контрабандиста в крепко просмоленной петле, я бы, пожалуй, не очень удивился. Если бы в заливе остановился круглый бронированный монитор времен войны между северными и южными штатами и начал швырять на Сухум ядра, маленькие, как дыньки-канталупы, я не был бы особенно поражен.
Если бы моя сухумская хозяйка, семидесятилетняя мадемуазель Генриетта Францевна Жалю[2]2
После расшифровки дневников и прочтения писем отца, относящихся к его пребыванию в Сухум-Кале, стало ясно, что первые дни своего пребывания в Сухуме К Г. Паустовский провел в доме Александра Исааковича Германа-Евтушенко на горе Чернявского. С Герман-Евтушенко мои родители, как оказалось, познакомились в Одессе и его заботами, как секретаря Союзов кооперативов Абхазии, были приглашены в Сухум. Нынешний директор Московского музея-центра К. Г. Паустовского несколько десятков лет назад выяснил в сухумских архивах истинную хозяйку дома № 47 в Горийском переулке. Ею оказалась вдова Каролина Георгиевна Герман, которая почила в 1923 году в возрасте 65 лет.
Об этом доме также сохранился репортаж отца из Сухум-Кале для газеты «Моряк» (1922 г., 5 мая). Один-единственный раз он был перепечатан в журнале «Новый мир» в посмертной подборке очерков К. Паустовского «Из разных лет», подготовленной Львом Абелевичем Левицким. Для читателей «Броска на юг» он, мне кажется, представит несомненный интерес.
ИЗ ГОРНОГО ДОМА (Фрагменты)
От нашего специального корреспондента
В белом горном доме с низкими потолками – тонкая тишина. Си-нимлъдом сверкают, как только что расколотый сахар, тяжелые горы. Золотым дождем цветет за оконцами пряная мимоза, и воспаленное солнце ложится в тусклое, задымленное море.
Горный дом уже стар, и в широких щелях полов потрескивают по вечерам сердитые скорпионы. А дряхлые обитатели дома еще помнят времена, когда Абхазия была полна абреками, когда горцы спускались с гор и штурмовали заросшие плющом прибрежные форты, когда солдаты сотнями умирали от горячки во влажных, тропических лесах, времена лермонтовские, полузабытые, но еще свежие в преданиях и памяти горцев.
Фантастический край. Здесь рядом леса пальм и кактусов и заседания революционных комитетов под старыми дубами, причем все члены комитета голосуют и говорят, не слезая с поджарых коней, гортанно перекликаясь и теснясь лошадьми в одну подвижную, темную массу; рядом скрип арб и лошадиные черепа, висящие на всех заборах от дурного глаза, и тут же – ослепительный электрический свет, заливающий широкие сельские улицы, съезды Советов, протяжные гудки иностранных пароходов, кофейни «знаменитых персидских кофейщиков», пестро расписанные трапезундские фелюги, на которых седые турки кипятят кофе в медных кастрюлях-наперстках, плакаты, восточная майолика, князья, перед которыми до сих пор сходят с седел и касаются рукою земли, ажиотаж, лиры, фунты, грузбоны, бязь, кукуруза, богатые лесные концессии на рекеБзыби, взятые Стиссеном и Рокфеллером, непочатый край, дикие козы, скачущие по улицам, и восторженный рев лопоухих пушистых ишачков.
Край фантастический, пестрый, богатый, но богатства его еще сырые, нетронутые, не вырытые из вечно влажной земли.
Россия, голод, то напряжение и мучительные по непосильной работе дни, что переживаются там, за снежными хребтами, вся громадная, неуловимая жизнь федерации – все это для здешних людей «заграница», что-то почти нереальное.
Но все чаще в ленивый звон здешнего базара, в винный запах духанов, в беспечное щелканье нард и монотонный такт лезгинки, которую танцуют по вечерам перед дверьми кофеен замкнутые «башлычники»-горцы, все чаще в эту покойную и безумную жизнь просачиваются напоминания оттуда, из-за гор.
Со снежных перевалов не приходят, а приползают изможденные, полумертвые люди с обмороженными ногами, беглецы от смерти с отупелой нечеловеческой тоской в старческих глазах. Набрасываются на хлеб, на здешнее сало, на горный сыр имолодое вино иумирают.Не так давноумер-ло несколько человек, высадившихся с пришедшего из России парохода.
Все чаще приезжают экспедиции из Крыма, Кубани за кукурузой. Они не меняют ее на товары, не покупают, а вымаливают. Дрожащими голосами они перечисляют товары, которые привезли для обмена. Везут все, что осталось, – домашний скарб, чуть ли не детские платьица.
Экспедиция керченских моряков привезла две швейных машины, микроскоп, мотор, два биллиардных стола, какое-то платье, немного мануфактуры, собранной среди моряков, картины, ковер. Все это не нужно здесь, и до слез больно смотреть на седую трясущуюся голову представителя этой экспедиции, прекрасно знающего, что все это не нужно, что хлеба за это не дадут, что вывоз запрещен и на пристанях отбирают даже фунт сахару.
Эти ходоки от обреченных людей преследуют, их не можешь забыть, не можешь понять все то, о чем они говорят, и только где-то в глубине души вдруг что-то оборвется, и станет холодно и страшно.
И все думы о тех, кто остался там. Здесь не говорят «где», говорят – «там», и сразу все как-то замолкают. Там – в России, где плачут, бьются и мучаются из-за корки хлеба, в России, от которой не оторвать мучительных мыслей.
[Закрыть], бывшая гувернантка, оказалась бывшей любовницей бывшего владетеля Абхазии светлейшего князя Ширвашидзе, то в этом тоже не было бы ничего особенного. Я продолжал бы невозмутимо нить чай с подаренным мне престарелой мадемуазель кислейшим в мире кизиловым вареньем. Сироп этого варенья напоминал кровь горного заката.
Что же происходило в Абхазии на самом деле? Маленькая страна, тесно зажатая с трех сторон областями, где люди умирали от сыпняка, решила спастись самым доступным и нехитрым способом – отрезать себя от остального мира и следить, чтобы ни одна мышь не перебежала границу.
Сделать это было сравнительно легко. С севера Абхазию отгораживал Главный хребет. Единственный Клухорский перевал в то время был непроходим: вьючная тропа в нескольких местах обрушилась. Днем и ночью без устали сползали и дымили по обрывам лавины.
С севера, со стороны Сочи, и с юга, со стороны Аджарии, шоссе и мосты были взорваны во время гражданской войны и загромождены множеством осыпей и обвалов.
Оставался единственный путь – море. Но на море не было пароходов, если не считать «Пестеля».
Всего легче было объявить карантин против сыпняка и никого не пускать с парохода на берег. Так местные власти и поступили.
А между тем по всему Черноморью и соседним землям ширился слух о существовании на кавказском берегу маленького рая с фантастическим изобилием продуктов и волшебным климатом. Все рвались в этот рай, но он был наглухо закрыт.
Этот рай назывался Абхазией. О ней мало знали в то время. О ней почти не было ни газетных статей, ни книг, и, кроме чеховской «Дуэли», не было напечатано ни одного рассказа, действие которого происходило бы в Сухуме.
Для меня все в Абхазии было тогда чужим – и горы, и реки, и растительность, и народ.
Огромные горные вершины – их имен я еще не знал – отчётливее всего выделялись на закатах. Их ледяные зубцы тлели густым жаром заходящего солнца.
Первое время мне с непривычки казалось, что исполинские эти хребты медленно двигаются с северо-запада на юго-восток, как бесконечная вращающаяся панорама.
Чтобы избавиться от этого ощущения, я взглядывал на что-нибудь вблизи себя: на дома, на камни под ногами, – тогда горы вдруг останавливались.
Это первое, даже несколько зловещее впечатление от гор прошло только весной, когда я попал в глубь Абхазии и увидел горы во всей силе буковых лесов, в кипении пенистых рек, в размахе растительности.
У меня в Сухуме не было знакомых, и я часто бродил по окрестностям города один. Отходить далеко я не решался.
По словам старожилов, в десяти километрах уже начинался встревоженный войной и междоусобицей Кавказ. На любом повороте горной дороги можно было получить пулю в спину или погибнуть под внезапным обвалом.
Успокоение приходило на Кавказ медленно, исподволь, только с приходом Советской власти.
Поэтому дальше реки Келасуры, впадавшей в море в пяти километрах от города, я не ходил. Но и эта река был полна загадок.
На поворотах Келасура намывала маленькие песчаные косы. Они горели под солнцем, как золотой песок.
В первый раз, попав на Келасуру, я намыл из этого берегового песка горсть темно-золотых чешуек – веселых и невесомых. Но через час они почернели и стали похожи на железные опилки.
В Сухуме мне объяснили, что это не золото, а серный колчедан. Но все же я его не выбросил, а высыпал горкой на подоконник. Я наивно надеялся, что под лучами солнца колчедан снова начнет излучать золотой блеск. Но этого не случилось.
Растительность тоже была загадочной – и древняя, существовавшая в Абхазии тысячи лет, и новая, пересаженная из Японии, Италии, Индии, Полинезии и других стран. Первыми на сухумском берегу развели эту заморскую растительность ученые-ботаники и местные плантаторы-садоводы.
Растительность поражала головокружительными запахами, причудливыми формами и громадными размерами.
За домом мадемуазель Жалю – последним домом в городе на горе Чернявского – стояли заросли высоких и душистых азалий. В этих зарослях прятались шакалы. От запаха азалий болела голова.
Позади этих азалиевых полей темнела стена лакированной бамбуковой рощи. При малейшем ветре листья бамбука не шумели, как наша северная листва, а перешептывались. Если же ветер усиливался, то листья извивались, как маленькие змейки, и тихо свистели – тоже как маленькие злые змейки.
И абхазцы казались загадочными. Большей частью это были люди сухощавые и клекочущие, как орлы. Они почти не слезали с седел. Кони, такие же сухощавые, как и люди, несли их, перебирая тонкими ногами.
Почти у всех абхазцев были профили, достойные, чтобы их отлить из бронзы.
Мужчины отличались гордостью, вспыльчивостью, рыцарской честностью, но были угрюмы и неторопливы. Работали женщины. В тридцать лет они уже выглядели старухами.
Я часто встречал женщин на дороге из горных селений в Сухум. Они брели, согнувшись, касаясь одной рукой земли, едва дыша под тяжестью мешков с кукурузой или вязанок хвороста. А впереди на лоснящихся конях ехали, подбоченясь, мужчины – мужья, а иной раз сыновья и даже внуки этих женщин. Пояски с серебряным набором сверкали на их тонких черкесках.
Они проезжали мимо с бесстрастными лицами признанных красавцев. Но все же им было не по себе. Я сужу об этом по тому, что они не выдерживали осуждающего взгляда, отворачивались и пускали коней вскачь.
Я пытался помочь женщинам, иногда совсем маленьким девочкам, но женщины так шарахались от меня и у них появлялась в глазах такая испуганная мольба, что я перестал помогать, понимая, что от этого им будет хуже.






