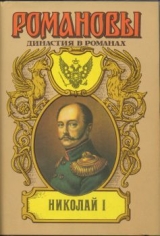
Текст книги "Бегство пленных, или История страданий и гибели поручика Тенгинского пехотного полка Михаила Лермонтова"
Автор книги: Константин Большаков
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц)
IV
История, в которую, по словам Исленьева, так глупо попал ни сном ни духом не виноватый Долгорукий, имела место в Петербурге, возле Московской заставы, вечером первого июля, а третьего, то есть ровно через день, князь был дежурным флигель-адъютантом в Петергофе, где имел тогда своё летнее пребывание двор.
Говорили, что государь уже несколько дней был в дурном настроении. Предстояли манёвры в Красном Селе, но никаких распоряжений к выезду туда Главной квартиры ещё не последовало. Уже одно это могло служить недобрым признаком.
В таких случаях дежурный флигель-адъютант, попавшись не вовремя на глаза императору, легко мог сделаться причиной самого неумеренного гнева.
Князь Долгорукий занял позицию на приличном расстоянии от дворца, возле каменной балюстрады над Самсоном [6]6
Фонтан в Петергофском парке.
[Закрыть]. Отсюда можно было в один момент перебежать площадку, если это потребуется, и так же легко и незаметно скрыться внизу, если Николай быстро, прямым шагом, не глядя по сторонам, зашагает от подъезда.
В заливе на императорской яхте пробили склянки, и репетир у князя в кармане тихонько, словно порывался и не мог позвонить, прошипел шесть раз.
На главном выходе с тяжёлым дребезжаньем распахнулись двери. Звук коротко отозвался и пропал в утренней тишине. От скрипа шагов на камне князь вздрогнул.
Николай поспешно сошёл со ступеней, не сделав и двух шагов по площадке, остановился, полной грудью вдыхая свежий воздух. На нём был старый, без эполет, поношенный сюртук Семёновского полка и такая же фуражка, с поднятой сзади тульёй. От тени, которую бросал козырёк, лицо казалось не живым, с переливающейся под кожей кровью, а гладко прописанным красками – так равномерны были переходы оттенков и неподвижны черты. И только глаза, большие и тёмные, от одного взгляда которых у редкого не сжималось трепетно сердце, горели пронзительным огнём.
Император прямой, как всегда, но неторопливой на этот раз походкой зашагал к балюстраде.
– А, Долгорукий! Здравствуй! Молодец! Утро настолько прелестно, что было бы грешно его проспать.
И Николай быстро стал спускаться по лестнице вниз. Вдруг он пристальным и острым взором взметнул к лицу Долгорукого.
– A propos! [7]7
Кстати (фр.).
[Закрыть] Я и забыл, – проговорил Николай с усмешкой, не предвещавшей ничего хорошего. – Хорош ты, мальчик: оказывается, ты у меня людей давишь?
Застывшее в строгой почтительности лицо Долгорукого мгновенно преобразилось в изумлённое.
– Как это, ваше величество? Я не понимаю.
– Что ты прикидываешься невинным? – уже повышая голос, крикнул Николай. – Ведь ты был третьего дня в Петербурге?
– Был, ваше величество.
Брови у императора шевельнулись и сошлись, проложив на лбу складки. Мгновенный, от которого вздрогнул угол рта, живчик сбежал по щеке.
«Первый в империи дворянин, – шевельнула усмешку знакомая и всегда раздражавшая мысль. – А струсил. И врёт, врёт. Холуй, хоть и Долгорукий.»
– Князь Долгорукий, – закричал Николай, разгневанный и страшный, – вы забываете, что я не люблю вранья!
– Я не осмелился бы докладывать неправду вашему величеству.
– Что ж вам угодно? Чтобы я приказал произвести формальное следствие?
Глаза сощурились, смотрели презрительно и торжествующе.
– Как милости прошу, государь, в полной надежде, что оно оправдает меня в глазах вашего величества! – воскликнул Долгорукий.
– Хорошо, – отрывисто бросил Николай. – Хорошо. Но берегитесь, князь Долгорукий, не было бы вам худо.
И, отвернувшись, быстро отошёл прочь.
– Немецкое отрепье! Бригадир! – задыхаясь от стыда и возмущения, пробормотал Долгорукий. – Меня, как школьника! Во лжи! Уличать вздумал, чухонский ублюдок!
Он сердито дёрнул, словно хотел оторвать, золотой аксельбант, но, сейчас же поправив его и усмехнувшись, в обход, чтобы не встретиться ещё раз с царём, пошёл к дворцу.
Слишком ли был раздражён на Долгорукого государь (хотя до сих пор он выказывал ему самое искреннее благоволение) или сам оскорблённый Долгорукий всеми доступными средствами толкал это дело, но собранная высочайшим повелением комиссия уже к девятому, когда император вернулся с манёвров в Петергоф, представила ему своё заключение.
«По тщательному и всестороннему рассмотрению помянутого обстоятельства, – доносила она, – оказалось, что означенная женщина действительно была задавлена экипажем флигель-адъютанта князя Долгорукого».
– Знаете ли вы, князь Долгорукий, – даже привстав с кресел, закричал Николай, – что за такую вашу ложь вензеля могут слететь с ваших эполет? Да и сами эполеты могут последовать за вензелями.
Долгорукий покраснел до кончиков ушей, но глаз не отвёл и ответил твёрдо:
– Ничего в этом деле не понимаю. Но только смею уверить ваше величество, как честный и благородный человек, – на предпоследнем слове князь сделал ударение, – что ничего подобного со мною не было.
У Николая сощурились глаза. Иронией он скрывал торжество, прорывавшееся в голосе:
– Так что же, второе следствие, что ли, прикажете назначить?
– Как будет угодно вашему величеству. Повторяю и клянусь честью, что ничего подобного со мной не случалось.
По высочайшему повеленью было назначено второе следствие…
Вот эту-то вызвавшую при дворе много разговоров историю и рассказал своему племяннику Исленьев.
V
Николай Павлович, в противоположность своему покойному брату, близких друзей не имел.
Когда ему доложили, чуть ли не в первую неделю царствования, что Аракчеев откровенно хвастает и показывает всем письма покойного государя, писанные ему из Таганрога, Николай резко и твёрдо дважды повторил:
– Дурак! Какой дурак!
Потом ещё раз быстро пробежал окончание скопированного письма: «…любящий тебя Александр».
Брезгливая гримаса покривила лицо Николая Павловича.
– А этому дураку, шуту и ханже дайте понять, что видеть его я не желаю, – сказал он, отодвигая от себя бумажку.
Очевидно, первый «дурак» относился не к Аракчееву.
Но Аракчеев был единственный, кого постигла царская немилость раньше, чем окончилось следствие по делу декабристов.
Александровские генерал-адъютанты только переменили вензеля на эполетах – сохранили свои посты, но уже всем было ясно, что у нового царя готовятся свои люди.
Николай считал себя незыблемым и чуть ли не единственным авторитетом во всех вопросах кавалерийской службы. Карьера одного кавалерийского генерала разом сломалась на возражениях на царские комментарии к книге Рошеймона. Формирование отдельного драгунского корпуса из полков состава, почти равного пехотным, несмотря на все возражения даже приближённых и доверенных, унесло горы золота, стоило жизни тысячам людей и кончилось ничем. Всем возражавшим и доказывавшим бессмысленность этой затеи следовал неизменный ответ:
– Ты не понимаешь. Это будет совсем новый род оружия.
Лицо у царя тогда принимало выражение самодовольного превосходства.
Но не только в вопросах кавалерийской службы Николай считал себя непогрешимым.
Розыск по делу декабристов в первые же месяцы царствования разрушил и перекроил привычное миросозерцание бригадного генерала. Шесть месяцев грызло сомнение: самодержец он или нет? Его или не его империя? Через шесть месяцев эти сомнения казались пустым ночным страхом. Никто лучше его не мог знать, что нужно делать. Верховная следственная комиссия работала медленно. С первого же дня он понял: того, что нужно ему, что мучает и не отпускает ни на минуту, она не откроет никогда.
Этих он уже не боялся. Они в руках. Из петропавловских казематов их не освободит никакой мятеж. А вот другие! Каждый день привозили всё новых и новых. Но разве всю Россию перевозишь?
На заре тринадцатого июля, не позднее четырёх часов, должны были покончить с теми пятью, главными.
На двенадцатое в Петергофе был назначен ночной праздник.
Расцвеченная фейерверками, переливавшаяся разноцветными струями фонтанов ночь расползлась, выцвела, словно её, как ветхую ткань, протравило туманом. Теперь, когда от сердца отлегла такая тяжесть, необыкновенно приятно и сладко было целовать в беседке чьи-то покорно отдававшиеся ему губы. Но вдруг царь выпрямился, оттолкнул свою даму и отошёл в угол. Ему показалось, что он слышит шаги жены. Но это только показалось. Он усмехнулся и снова выступил из тени. Приложенный к уху репетир глухо прошипел четыре.
«Первое сословие» больше не страшило. От прапорщика до генерала, от владевшего чуть ли не губернией магната до мелкопоместного дворянчика – все они были в руках.
О сосланном Пушкине ему намекали не раз ещё до коронации. Он улыбался всезнающей надменной улыбкой.
– Я примирю его с собой.
На пятый день после коронации состоялась «высочайшая резолюция» о привозе поэта в Москву «под надзором фельдъегеря, не в виде арестанта».
Через месяц после беседы с поэтом в Москве, как-то на интимном вечере в Аничковом, обмолвился с самодовольной улыбкой:
– Пушкин будет моим хорошим подданным. Теперешние его стихи – залог тому. Надо уметь разгадать человеческое сердце.
Указ об учреждении Третьего отделения собственной его величества канцелярии был дан тоже вслед за коронацией.
Преданный Бенкендорф, без слов умевший понимать волю своего монарха, всё же попросил письменного указа, как ему действовать.
Тогда Николай Павлович, мечтательно и кротко смотря ему в глаза, взял со стола носовой платок, протянул его со словами:
– На. Им ты утрёшь слёзы.
И улыбнулся грустно.
Улыбнулся и Бенкендорф.
Бенкендорф вообще говорил мало. Речь его, особенно к подчинённым, походила на побывавшее в воде письмо. Одни слова размокли и исчезли бесследно, другие без всякой связи с предыдущими ещё проступали на бумаге. Поцыкивая и жуя губами, он ронял их с паузами, из которых каждая длилась не менее минуты. Для того чтобы разгадать, что он хотел сказать, требовалось тоже искусство.
С царским платком в руках, время от времени останавливаясь на нём взглядом и как бы черпая из него эти разорванные клочки мысли, Бенкендорф говорил некоему полковнику Дубельту:
– …Утереть слёзы… Это хорошо… Рыцарски и благочестиво… Чтобы точно исполнялись законы, пресекать злоупотребления, следить… и следить… из-под руки… чище идея, крепче само существо. Папы тоже… Ad maiorem dei gloriam [8]8
К большей славе Бога (лат.).
[Закрыть]… испанец Игнатий Лойола, испанец… В вас ведь, Леонтий Васильевич, тоже испанская кровь?
Бенкендорф пожевал губами, походил по комнате. Потом, останавливаясь против Дубельта, коротко сказал:
– Нужны люди, Леонтий Васильевич. Вам нужны. Себе я уже нашёл. Например – вас.
VI
В императоры Николая Павловича не готовили.
Старшие братья, Александр и Константин, жили, как будто раз навсегда позабыв, что они, то есть Николай и младший – Михаил, существуют на свете.
Только в 1846-м, когда Николаю шёл уже двадцатый год, старший брат как-то случайно вспомнил, что в образовании младших как будто чего-то и не хватает, и наспех отправил их в заграничное путешествие. Ни пристрастий, ни направления ума обоих великих князей оно не изменило.
Николай был твёрдо убеждён, что он неплохой бригадный генерал.
Но честолюбию бригадного генерала было поставлено слишком большое испытание.
Морозный декабрьский день леденел на окнах. Туман спрятал от глаз даже ближайшие дома. Дольше всего виднелся шпиль Петропавловского собора, но и его стёрла молочная, со всех сторон ползущая муть. Казалось, остался и существует один только дворец: всё остальное – город, завтрашний день, Россию – поглотил и скрыл туман.
Во дворце метались люди. Растерянные и испуганные генералы подбегали к нему, заплетающимся языком просили распоряжений, приказа. Он не слышал, не слушал, не понимал.
Будто сердце стало железным и стучало таким оглушительным звоном, звенело в ушах:
«…Не хотят?! Его?! Бунт».
Сжал кулаки, но только пустым, нестрашным гневом сверкнули глаза.
Смятённые, растерянные генералы всё ещё толпились в зале. В окне редел туман, выводя, как в волшебном фонаре, бледные, расплывающиеся очертания зданий. И всё ещё подбегали, словно торопил он их, словно этого только он и ждал, – спешили сообщить:
– Ваше величество, в Измайловском…
– Гренадеры…
– Московский… все четыре батальона…
– Гвардейский экипаж присоединился к мятежникам.
– С ним много людей из сорок второго флотского.
Нетерпеливо, словно всё давно уже ему было известно, отмахнулся. К окну, в туман, наметивший контуры зданий, устремил тревожный, мятущийся взгляд.
«Кто, кто поможет? На кого положиться? Кто вдохнёт мужество? Что сделать-то? В резервную колонну! Да разве послушают…»
А только, только ведь это и нужно. Тогда и без инспекторского смотра принял бы. После приказом по отдельным частям:
– Составить акты принятия.
«Скорей бы! Скорей бы кончилось! Господи!» Кто-то осторожно, боясь, должно быть, что и в этом не может быть правды, шепнул:
– Ваше величество, на преображенцев можно положиться. Первый взвод вашей роты присягнул вчера в карауле.
Он посмотрел в глаза говорившему. По глазам увидел, что подсказывает, а сам не верит, что послушается, решится.
Перед глазами вдруг так ясно, как будто он всё утро думал только о том, проступила картина, сохранившаяся в памяти от детства.
Вот здесь же, в этом дворце, на покрытом парчою помосте стоял гроб.
Его, четырёхлетнего малютку, под мышки подняли проститься с покойником. Из золота, из кружев, из цветов, словно оно утонуло в них, показалось на секунду синее, курносое лицо. Кончик языка высовывался изо рта, распухший и тоже посинелый.
А брат?
Он с отвращением вспомнил сейчас всегда противное, не мужское и не бабье, какое-то без пола и возраста лицо. Всегда с улыбкой, приветливой и ласковой, а его от этой улыбки тошнило, – казалось, что брат прячет за нею смертельное отчаяние и ужас.
«Неужели и во мне эта паршивая, неизвестно кем влитая кровь? – с отвращением и тоской подумал Николай Павлович. – Вон у бабки не сорвалось. Решилась».
– Ваше величество, – терзая его, шепнул кто-то, наклоняясь к самому уху. – Решайтесь. Немыслимо и погибельно дальнейшее промедление.
Если б он мог решиться!
Ещё раз, зная наверное что не встретит ни одного взгляда, который помог бы, вдохнул в сердце мужество, глазами обвёл зал. И вдруг…
Николай с минуту смотрел на младшего брата, как на чудо.
Этому можно верить. Этот не предаст, не оставит. Брат. Не такой, как те, курносые, белобрысые, – Миша, друг и товарищ детства, всем – от лица до голоса и жеста – похожий на него.
Он решился.
На улице туман разредился совсем. Падал крупными и редкими хлопьями снег. Караул выбежал в ружьё. Заметил только, что сапёры, не поглядел, как это делал всегда, по форме ли одет офицер и как быстро построились. Он даже не узнал своего голоса, так неуверенно и хрипло заговорил с ними:
– …Вам доверяю… сына… берегите наследника.
Караул рявкнул:
– Рады стараться, ваше императорское…
Нет, нет, не разобрал: величество или высочество, только от этой отчётливой быстроты что-то сдавило глотку, дёрнулся угол рта. Снежинки мелькали, плясали в воздухе.
И тогда Николай, опять не узнавая своего голоса, наклоняясь с коня и пропуская один за другим мелькавшие перед ним ряды запорошенных снегом киверов, закричал:
– Преображенцы, хотите меня государем?
Иначе как спросить? Разве солдат спрашивают? В первый раз – и пусть будет в последний.
– Желаем, желаем, – нестройно и вразбивку послышалось в ответ.
Казалось, это вернуло мужество бежавшему впереди капитану. Он гаркнул:
– Смирно-о-о!
Команду приняли. Подтянулись ряды. Как чугунный, запечатал по мёрзлой земле шаг.
– Государю императору…
От раскатистого, громкого «ура» Николай Павлович вздрогнул, как будто в него полетели комья снега.
Вслед за бодро шагавшей «государевой», отныне его ротой, бросив повод, проехал он шагом на площадь Сената.
Поздно вечером из дворца были видны костры на Неве. Это рубили проруби и в них свозили трупы. У костров на улице грелись патрули. Во дворце всю ночь горел свет. Император всю ночь допрашивал арестованных, которых доставляли прямо сюда…
Не так-то просто было пройти через эти первые месяцы.
Незнакомое и странное смотрело на Николая Павловича лицо, когда он подходил к зеркалу, но это лицо ему нравилось. Тогда его выражение не было постоянным, только через шесть месяцев, когда было покончено с декабристами, оно приняло на себя маску грозной и невозмутимой величественности. В гневе у Николая темнели глаза, тяжёлым и страшным становился взгляд – само лицо, его античные, словно выписанные на музейном холсте черты искажались редко.
То там, то здесь в империи вспыхивали костры мятежей, бунтовались помещичьи и казённые крестьяне, солдаты в военных поселениях, работный люд на казённых рудниках и заводах. Какие-то безумцы дерзали осуждать его право. Кавказ упорно противоборствовал русским завоевателям. Раскольники не признавали его царём, на ектении в их молельнях возглашалось здравие императору Александру.
На Кавказ один за другим уходили из империи корпуса, на Поволжье чиновники разрушали и опечатывали раскольничьи скиты, насмерть забивали шпицрутенами дерзавших усомниться в его царском происхождении. Но спокойнее от этого не делалось.
Этих, окружавших его, с трепетной готовностью кидавшихся исполнять каждое его приказание, он не боялся. Что ж, если что и таят? Пусть. Труднее было проникнуть в сердечные глубины Рылеева с братьей, а вот проникнул, раскрыл, победил. Страшило другое. У тех вот как выведать – многомиллионных, загадочных, непонятных.
Докладывая о бунте в Новгородском округе военных поселений, Бенкендорф очень осторожно, только намёком коснулся имевшегося у него жандармского донесения. В нём говорилось, что находящийся с бунтовщиками вместе некий кантонист народной молвой считается за побочного сына покойного императора Александра, и те так его и прозывают: «царёныш». Причина этой молвы якобы такова, что мать сего кантониста, поселянка Новгородского же округа, быв некогда в случае у графа Аракчеева, удостоилась обратить на себя внимание покойного государя. Всё это Бенкендорф изложил весьма и весьма осторожно, а изложив, даже перестал шевелить губами, зажав меж них, на всякий случай, кончик языка. Он ждал вспышки обычного в таких случаях гнева, молниеносного, уничтожающего взгляда. Но царь только усмехнулся многозначительно и весело. Потом поморщился.
– Враньё.
Среди дел предыдущего царствования ему как-то попалась переписка по поводу неудачного сватовства его сестры, великой княжны Елены Павловны, за императора французов. О настроении московского общества в отношении к сему факту почт-директор Ключарёв [9]9
Ключарёв Фёдор Петрович (1754–1821) – член новиковского кружка «мартинистов», писатель, до 1812 г. занимал должность московского почт-директора, от которой отстранён губернатором Ростопчиным по подозрению в шпионаже, после войны «реабилитирован» и сделан сенатором.
[Закрыть] доносил тогдашнему министру полиции:
Расположение мысли о нашей великой княжне, ежели б жребий пал быть ей невестой императора Наполеона, – имею долг неуклонно представить Вам со всею искренностью, что ни один голос, в краткое время, как я сказал, существования сего слуха не был приятным. Причина – недоверенность, далеко распространённая к намеревающемуся вступить в новый брак. Даже говорили, что Жозефина неплодна, а может быть, он сам таков, а потому, как прежде случалось, например, с Генрихом VIII и царём Иваном Васильевичем [10]10
Генрих Тюдор (1491–1547) – английский король с 1509 г., прославился бракоразводным процессом с Екатериной Арагонской, результатом чего стал церковный разрыв с римским папой. Царь Иван Грозный (1530–1584) известен конфликтами с многочисленными жёнами.
[Закрыть] и прочими, последует развод за разводом по причине одинаковой. Что касается до первого в государстве сословия, оно может рассуждать глубже политически, хотя и тут, думаю, не найдётся много так мыслящих, а впрочем, по уважительному моему замечанию, причтут действия необходимости и угождению. Я не пропущу, если возобновятся слухи относительно нашей великой княжны, возможное узнать и уведомить в подробности Вас. А теперь всё замолкло, и, кажется, очень в покойном ожидании.
Можно приметить, что разводом дамы очень недовольны.
Улыбка ироническая и весёлая заиграла на губах, когда Николай Павлович прочёл это донесение. С брезгливой гримасой Николай Павлович отодвинул от себя папку. Больше уже не требовались во дворец дела, касавшиеся матримониальной дипломатии братнего царствования. Давнишняя и презрительная ненависть к нему самому нашла наконец своё выражение.
При встрече траурной процессии с его телом Николай Павлович жестом остановил катафалк, спешился, на глазах тысячной толпы опустился на колени прямо в снег. Чувство какого-то гадливого отвращения к самому себе, к этой лицемерной, ничтожной позе охватило его. Он чувствовал, как от подбородка до висков лицо заливает краска возмущения и стыда. Приложил к глазам платок. В толпе пронёсся почтительный шёпот. Безветренный морозный день сделал его таким явственным, как будто ему на ухо докладывали об удивлении и восхищении его порывом. Он не знал, что нужно делать дальше. Коленями сквозь лосины чувствовал ледяную жёсткость январского снега. Ноги ломило. Отвернулся, смотря в ту сторону, где на сизом небе редкой рассыпанной стаей летели чёрные галки и мутно серебрились пустые поля, поднялся с колен, не оборачиваясь, прошёл к ординарцу, державшему лошадь. Обернуться было противно и стыдно.
Пять лет спустя, в бане, в старом Зимнем дворце, парил его древний, как эта жаркая сырость, банщик.
– А ну-ка, старик, поддай.
Пар густым непроходимым облаком наполнял всю баню. Бледными радужными искрами просвечивали в нём огоньки свечей. Пот, горячий, как кипяток, катился по телу, а император всё требовал и требовал «поддать».
– Ох, ваше величество, и можешь же ты париться! – кряхтя над неизвестно какой по счёту шайкой, вымолвил банщик.
– А что?
– Да как же, третьего царя послал Господь парить, а этого видеть ещё не приходилось. Пар любишь: русский человек.
Николай тревожно насторожился.
– Это к чему болтаешь?
– Мыть ваше величество – сердце радуется, – не спеша и с задышкой заговорил старик. – Эно, тело какое! Пару не боишься, значит, и страстью своею вполне владеть можешь. Богатырь… эх, да что говорить: настоящих людей наделаешь…
Старик чего-то недоговаривал, но и от сказанного, больше чем от жаркого пара, чем от этих так любовно и нежаще скользивших в мыльной пене по его телу рук, морящая сладкая истома, как дурман, подступила к голове.
Он мог бы ещё похвастаться, что в это же время, невзирая на свои сорок лет, как двадцатилетний поручик, не перестаёт волочиться и изнывает от влюблённости, не оставляя в покое ни одной хорошенькой женщины. Желанием император дорожил больше, чем его осуществлением. Влюбляясь, изменяя жене с искусством, которому позавидовала бы любая ветреница, он переживал волшебное, ни с чем не сравнимое чувство. Как будто слетали с плеч годы, не тяготили сердце никакие тайные мысли и подозрения. Льстило и толкало к каждому новому увлечению ещё и другое. Он знал – и в этом крылось тоже ни с чем не сравнимое наслаждение, – что к нему тянутся, ему отдаются восторженно и ревниво не только потому, что он император всероссийский, а и потому, что красив, строен, умеет внушить и любовь и восторг к себе.
Любуясь собой и перебирая в памяти ощущения, которые оставались от той или другой встречи, он в разнице поступков и приёмов как будто разгадывал причину всегда удивлявшего несходства со старшими братьями.
Раз в Петергофе во время утренней прогулки вслух вырвалась фраза:
– Если бы я мог проникнуть в тайну собственного рождения, я бы основал новую династию.
В парке он был совершенно один, но после этого три дня испытующе и подозрительно присматривался к лицам придворных. Постоянно страшило, что окружающие смогут прочесть это в сердце. И вот, скрывая от всех, стараясь скрыть и от собственных глаз, как страшную, позорную слабость, в конце концов убедил, заставил поверить и себя, что он и Россия, он и держава – синонимы, нераздельное общее, видел в себе живое воплощение грозной и величественной идеи монарха в этот пустой и развращённый век.
На докладах нетерпеливым жестом отстранял, если ему пытались выложить на стол карту той или иной части его владений.
– Не нужно. Знаю и так. Это у меня в голове.
Не отдёрнул руки, когда законный монарх, молодой австрийский император, припал к ней с благодарным поцелуем. Незаконного, Луи-Наполеона, во всю жизнь ни разу не назвал «mon frere», как это принято в переписке между монархами.
В 1849 году, в Варшаве, вскоре после венгерского похода, вернувшего Австрии восставшую половину империи, бурно и долго распекал по какому-то поводу одного из своих генералов. Тот выскочил из кабинета весь красный и возмущённый. Обида вырвала из сердца пророческую фразу:
– Всё кончено. С такими понятиями, с такою уверенностью в собственной непогрешимости можно вести свою державу только к гибели.
И он её привёл, завещав, умирая, сыну совершенно бессмысленное:
– Пусть не любят, только б боялись. Не дай постичь им, забраться к тебе в сердце. Тогда России не быть.






