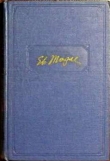Текст книги "Нега"
Автор книги: Константэн Григорьев
Жанр:
Роман
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
СНОВИДЕНИЕ ДЕВЯТОЕ:
«Дума о человечестве»
Снилась бумага, пожелтевшая от времени: «3‑й артиллерийской бригады капитан Григорьев состоял слушателем Императорской Николаевской военной академии (Санкт – Петербург) и по случаю общей мобилизации он 19‑го июля отчислен в свою часть, что подписью с приложением казенной печати удостоверяется… Полковник такой–то… Столоначальник, коллежский советник такой–то… 25 сентября 1914 года».
Снился вальс, нежный старинный вальс – он звучал в ломоносовском Нижнем парке: солнце стекало вниз по блистающим медным трубам, чуть громче вальса звенели аксельбанты; толпы праздногуляющих вслух прочитывали письма из действующей армии, – даже качаясь в лодках, незаметно уплывших на середину пруда и как будто улыбающихся. Дамы охали и, покусывая стебли цветов, задумчиво глядели в воду.
Такова декорация первой части моего сновидения, где, впрочем, как и наяву, декорации быстро меняются. Я – капитан Григорьев, и я стою у Манежа в ожидании возлюбленной. Она запаздывает, не хочу гадать почему. Холодно раскланиваюсь с проходящим мимо поручиком Лунычем. Я его терпеть не могу, все вспоминается прошлый четверг, когда, напившись пьяным, поручик читал собравшимся у меня офицерам свой грязный роман «Губы Вселенной».
– Ах, милый! – раздается звонкий, серебристый смех.
Это – она. И мы смотрим в глаза друг другу: она – чуть смежив ресницы, с потаенной полуулыбкой, я – с восхищением, переходящим в головокружение, будто я заглянул в бездонную пропасть… Держась за руки, мы гуляем по парку – вот запруды реки Карость, мшистый, бутылочного стекла водопад, вот панно и плафоны китайского дворца, его стеклярус и смальты, его паркеты – орех, сандал, палисандр. Когда–то она сказала мне: «Будем вести себя так, будто нам отпущена неделя жизни». Сейчас, в день моего отъезда в действующую армию, как зловеще и все–таки как волшебно звучат эти ее слова, внезапно ожившие в памяти. Переходим через мост – я останавливаюсь и небрежно бросаю в бурный поток планшетку.
– Что это? – девочка испуганно прижимается ко мне.
– Извини, моя драгоценная, я тебя не предупредил, но это давно обдуманное решение – я выбросил свои стихи.
– Как, совсем все? – она широко открывает глаза.
Чтобы не убить ее, я ее обнимаю. Я вспоминаю самое лучшее, что между нами было: вот я жду ее ранней весной возле школы женского обаяния в Москве, вот она показывает мне свою библиотеку, вот лыжи на Елагином, вот картуши и маскароны Царского Села – мы с ней в карете, мороз и солнце, мы дышим на стекла, гнедые кони храпят и дымятся, унося нас по хрустальной аллее к Висячему саду; ее птицы – она острила, поглаживая тонким мизинчиком витые прутья заграничных клеток: «Мои пернаты»; вот она рассказывает сон о лебеде и морской раковине; знакомит со мной свою кошку… И кто кого поцеловал в первый раз? Она приводила меня в трепет, прямо в пышном бальном платье ложась на меня сверху и целуя, целуя бесконечно… Совместные чтения Вордсворта и Сэя сблизили нас еще больше, нежели поцелуи. Возлюбленная обожала шалости: однажды я растроганно слушал очередное ее признание: «У тебя глаза цвета морского ожидания, – говорила она, вертясь перед зеркалом, – а я девочка, которая рисует пустоту…» Тут я даже вздрогнул от прелестной этой фразы. «…B твоих карманах!» – рассмеявшись, закончила она.
Сон рассыпается на воспоминания, и уже не восстановить миг, когда капитан и его подруга простились. Единственное – цветной и пышный день превращается к вечеру в нечто серенькое, тусклое, моросящее. Эшелон с офицерским составом двигается к месту боевых действий.
…Я лежу в госпитале с тяжелым ранением, постоянно проваливаясь в бред, как в болотную топь. Я помню окопы, звезды, дым и порох, но еще сильнее я помню, что она приедет сегодня навестить меня. Я порываюсь встать с постели и подойти к цветочному телефону – я даже уверен, что возлюбленным звонят только по этому воображаемому телефону, – он весь из цветов. Я думаю, как ее встретить, я выучиваю известный стишок: «Как приятно умирать в горячке, когда сердце бьется, как у младой собачки…» Тем самым я хочу показать ей, что не унываю. Я истерически смеюсь, когда узнаю, что она не приедет по очень простой причине – она убита шальной пулей, случайно залетевшей в тыл. Я пытаюсь заставить себя заплакать, но не могу прочувствовать ее гибель, всю непоправимость этого момента.
И меня посещает видение: пыль, свет, заросли каперна – интересно, что такое «заросли каперна»? Откуда это? – она стоит у своей могилы, качаясь, как в лодке, и задумчиво покусывает стебель и лепестки винной розы. Потом, словно заметив мой взгляд, спрашивает раздраженно – чего не было в жизни – «Ну, когда же ты умрешь?»
«Мы знаем, что это не сны», – говорит Эдгар По. И эта мысль, первая после моего пробуждения, наконец–то вышибает из меня слезы, бурные слезы – как будто прорвало плотину. Мое пробуждение есть начало моего выздоровления, и единственное, что теперь достоверно – гибель моей возлюбленной.
Как жить с этим страшным ощущением насмешки над собой? Рок поведал мне, что я переживу всех своих возлюбленных, а для избранных стану причиной их смерти. Во имя чего воевать? Родина? Но я знаю, что такое Родина – «где положу свою шляпу, там мой дом». Все – грязь и смерть, а закон компенсации словно херес в одиночестве. За все воздастся – те же мрачные мысли приходят, когда, послав к дьяволу весь мир, один глушишь вино. Чем воздастся? Логическая цепочка приводит к идее счастья, грубо говоря, наслаждения. Однако человек жаден, и раз испытанное не приносит желанного ощущения вторично. Каждый из нас – Сарданапал, тщетно ищущий новых наслаждений. «Сердце бьется, нос трясется," – вот чисто физиологическая картина возбуждения, связанного с переживанием высшей точки «счастья». Со стороны это так же смешно, как и показ в обществе ничем не прикрытого – даже звериной грацией – какого–нибудь плодоносящего акта: любви, например. Человек уродлив – и наличие у него души более чем сомнительно. Век от века это сообразительное животное возводит и разрушает собственные жилища, трудится, умело организует свой и чужой досуг – не замечая, что все его занятия отмечены роковым знаком проклятия. Его самки глупы и почти всегда жаждут совокупления. Не замечали – когда женщина сильно пьяна, от нее пахнет могильной сыростью, и комната, в которой вы пьете, становится похожа на склеп? О, как я ненавижу вас, запрокинутые в блаженном неведении женские лица, ваш добросовестный любовный пот, игривые корчи, жадность ваших притязаний! Воевать ради разряженных в пух и прах самок? Прости, моя любовь, но это так нелепо…
Восточный Будда утверждает: «Каждое дитя приходит в мир с вестью, что Бог еще не разочаровался в людях». Красиво сказано, не более того – люди сами разочарованы в себе. А что касается детей, то это любимая игрушка Люцифера: для него не существует времени, и он с развеселою усмешкой вытягивает вверх их тела – слышите характерный треск? – и тела наполняются столь необходимой ему свежей кровью; сны постепенно убивают человечество – ошибка думать, что не все сны.
Убивают сны, убивает ход часов – о, этот размеренный шаг завоевателей Вселенной, которые с каждым годом все ближе к Земле. И если говорят, что движение есть щит от вражеских стрел, то опускают одну деталь: это правило существует лишь для нас – мелких и суетных обитателей Преисподней, накрытой стеклянным колпаком Вечности.
Иногда мне кажется, что Земля – уродец среди царственно–безжизненных планет, что небытие есть самое желанное состояние бытия, что сознание – только сон Абсолюта.
Фатум заключает в себе идею страдания; известная поговорка «кто должен быть повешен, не утонет» объясняет мою мысль.
Человек всегда плачет о себе – будь то слезы отчаяния, боли, обиды или прощения. И когда потеряно все, что держало тебя на поверхности Земли, не лучше ли оттолкнуться и взлететь? Пусть это будет покой, высшая его форма – ведь земной покой тоже тщета. Пусть это будет затишье после бури, тихий свет, лишенный даже намека на страдание.
Я, капитан Григорьев, потерявший ключи от преданных врат, злобный реквием несбывшимся надеждам, последний парус белопламенной лодки, я вижу ее контур, может быть, тень. Она явилась ниоткуда и зовет в никуда, эта петля.
Я не хочу знать, что будет здесь после меня, я давно понял: когда человек пилит решетку, а стена с решеткой вдруг поднимается, это больше всего похоже на жизнь и смерть. Каждый день приносит боль, человека обманывает настоящее и опустошает прошлое. Неизбежное ожесточение против животной жадности всего живого.
Человека не должно быть – вот золотое сечение Космоса, единственно правильный вариант бытия (бытия чего?).
Когда торжествует тьма, пробуждается Левиафан.
Я помню, как в гимназии наиболее шустрые ученики, привлеченные моей серьезностью, любили издеваться надо мной: «Так, стало быть, ничего нет, Григорьев?»
«Ничего нет», – угрюмо повторял я под общий хохот жизнерадостных упрямцев. «Ничего нет», – думаю я и сейчас, и этой петли тоже нет, и нет опрокинутого табурета подо мной, и белой рубахи на мне, и меня самого тоже нет.
– Тогда что же есть? – хохочут надо мной удаляющиеся в звездную россыпь голоса. И как ответ им всем из тьмы появляется гигантский фосфорный червь с бриллиантовыми глазами, Левиафан Вселенной.
И этот червь говорит: «Крак!»
СНОВИДЕНИЕ ДЕСЯТОЕ:
«Нега, часть I»
«Мы лежали в траве, старый Ревелс и я, и бежавшая с нами невеста моя». Во сне эта строка американского поэта, кажется, Миллера, материализовалась с необыкновенной четкостью. Оленья тропа, пыль и алмазы утренней росы в долине; мы лежали на краю обрыва – изумрудные квадраты полей внизу словно дымились. Усталость и радость спасения владели нами. Ты словно спала, но я догадывался, что только изнеможение заставило твои ресницы сомкнуться. Легко змеились русые локоны, грубая клетчатая рубашка плотно облегала два девственных холма, и серебряная цепочка дышала на твоих ключицах. Одно колено было согнуто, руки заложены за голову, ты улыбалась себе. Я чистил ружье, звон цикад отражался в ручье.
Ревелс молчал. Его серебряная маска выводила меня из себя. И он снял ее – просто, как лишнюю кожу. Хитиновые покровы блестели на месте его нового лица – хитиновые покровы, неживой оскал насекомого, пристальные хищные глаза, металлический свет которых пронзал душу знакомым ужасом: словно я узнал в Ревелсе одного из подлинных обитателей моего мозга, и сон стал явью. Ведь пространство ума – это иное измерение, своего рода внутренняя, страннообитаемая планета, на поверхности и в глубинах которой водится разная нечисть.
Ревелс затрясся и глухо завыл, из его тела наружу выбиралась эта стальная тварь, она была покрыта кровью и слизью. Мотая круглой головой тварь тянулась вверх – это было похоже на оставление личинкой своей куколки. Только этой серой сморщенной куколкой было помертвелое тело Ревелса. Раздался ужасный вопль – невеста очнулась от забытья и увидела неподалеку от себя чудовище.
«Спокойно, – сказал я себе. – И ты, и эта злобная тварь – только мой сон. Я знаю, что все, включая наш побег – лишь слабый отблеск действительности. Достаточно сделать один шаг, – например, сейчас мы вместе прыгнем с обрыва – и кошмар пройдет сам собой». Я отшвырнул в сторону ружье и подбежал к невесте. Она поднялась на ноги, и мы оглянулись. Тварь медленно надвигалась на нас. Я поцеловал возлюбленную, она обняла меня, и мы сделали шаг с обрыва.
Все кругом заискрилось, мир перевернулся, и я увидел озадаченное, вполне осмысленное лицо стальной гадины, оставшейся на краю бездны.
Мы летели вниз. Странно пьянящее чувство освобождения заставляло кипеть нашу кровь, взволнованную близостью чего–то нового, неведомого, но почему–то удивительно приятного. Мне показалось, что я слышу далекий звон колокольчиков, и тут возлюбленная оттолкнула меня. Раскинув руки, она перешла на медленное парение.
Нас приняли цветы, и мы не ощутили падения – только жадность их объятий, только сладость их аромата. Я удивился, как много их было. Казалось, они выросли не на Земле, поднялись не из почвы, – нет, воздушная субстанция сродни облакам была их колыбелью. Похожее на солнце, переливающееся зеркало оказалось над нами. Я засмеялся – меня переполняла легкость. Откуда–то донесся смех моей невесты, счастливый и откровенный. Нега завладела нами столь же прочно, как страх вечность назад. Я встал на колени и зарылся лицом в дивное утро цветов – не переставая смеяться. Одна мысль показалась мне наиболее интересной – не будь Ревелса, не будь того страха – и наше счастье оказалось бы менее полным и совершенным.
А цветы были стереоскопически реальны, они существовали сами по себе, вне снов и любой заданности.
Цветные бокалы тюльпанов касались моих губ, нарциссы склонялись к невидимой воде, синие ирисы и жемчужные маргаритки росли у меня между пальцев, гиацинты сообщали мне, что они дети дождя, влажные розы и фиалки расцветали на глазах, презирая законы далекого времени. Благоухали канны и амаранты, флоксы и георгины склонялись в поклоне перед самыми невероятными гигантскими цветами, неизвестными даже мне. Особняком изогнулись цветы табака – черные с золотом и перевернутые. Яркие краски, странный мир! Нарочитый, неестественный и в то же время такой притягательный!
Я был королем Кэмпа: галлюциногенный дурман, источаемый цветами, разлучил меня с невестой и перенес в иное царство, где была светлая ночь, – в мир оранжерейных видений. Алмазная гора, когда–то вычитанная из Фитцджеральда, высилась над оранжереей.
Я отправился, осторожно и пугливо, блуждать по черным доскам между рядами видений, каждое из которых жило своей жизнью. Я искал дверь, но ее не оказалось. Я ждал подвоха.
Знакомая золотая фигурка мелькнула перед глазами: ко мне подлетела миниатюрная женщина–оса. Она шепнула: «Я возвращаюсь…» Мне стало спокойнее, пока я не понял, что ее способ возвращения для меня неприемлем.
И тогда все вокруг начало быстро меняться – видения померкли, захлебнулся тихий свет, между половицами показалась морская вода, которая стремительно поднималась. Если бы не пол подо мной, я бы сразу утонул. Стоило взглянуть на мелкую расстекловку прозрачных стен оранжереи, и становилось ясно, что уровень воды за пределами моего убежища уже поднялся в пол–уровня окна. Еще немного – и оно бы треснуло! Я разбежался и кинулся прямо в стену, которая мягко подалась под ударом и прорвалась тут же, как полиэтилен, – а снаружи воды вообще не оказалось. Позже я понял, что это была иллюзия, я находился в самом центре гигантского водопада, попав в своеобразное внутреннее пространство, некий «глаз бури», дарующий, пусть ненадолго, свободное и безболезненное падение.
Мой полет продолжался! – вокруг бушевали, ревели в сокрушительном порыве колоссальные водяные массы, и окажись я за пределами «глаза», вы бы никогда не прочитали этот роман.
Я думал об Энджел – Фолле – самом крупном и мощном водопаде на Земле, низвергающемся прямо с неба. Сейчас я думаю, что во сне заглянул в рассудок человека, действительно утонувшего в Энджел – Фолле.
…Вдруг мое пространство перестало существовать – оно попросту лопнуло, как мыльный пузырь, – и я оказался целиком в воде, по счастью, уже в речной воде. Река вилась посреди виденной мною ранее долины.
Едва я вылез из воды, отплевываясь и отряхиваясь, как пес, сзади раздался капризный детский голосок: «Лови меня!» Но как бы я не поворачивался, голосок всегда звучал из–за моей спины, и я кинулся ловить невидимое дитя, не задумываясь нисколько о смысле происходящего. Вдруг голосок перестал звать меня, и я очутился посреди знойной пустыни.
Это было странное место – никакого намека на классические барханы, подъемы и провалы, нет, ровный – как лист желтой бумаги – песок, бесконечное, без единого облачка, лазурное торжествующее небо. Черты одушевленного хаоса возникали повсюду: иногда из песка блестела звезда, иногда высовывался мокрый плавник, раза два или три мелькнули на желтом оплавленные геометрические фигуры.
Я стоял и ждал, подавленный неопределенностью и сложностью происходящего. Ветра не было, как и особенной жары, была особая стерильность заверченного фантазией мира. Мне показалось, что приближается развязка.
Как отражение Энджел – Фолла, с небес пролился огненный водопад. Он таял на лету и по достижении поверхности, на которой я находился, рассыпался на яркие брызги.
Из огня медленно поднялась девушка в ослепительно–синем плаще.
Я уже знал, о чем мы будем говорить, и я ничуть не удивился ее появлению. Девушка была окружена свитой из вращающихся переливчатых шаров – по два с каждой стороны. А над головой у нее неподвижно висел самый большой шар золотого цвета.
– Забери меня отсюда, – прошептал я беззвучно, склоняясь перед девушкой в полупоклоне. На мне появился такой же ослепительный плащ, как и на ней. – Забери из этой пустыни!
– Это не пустыня, – прошелестел ее выдох.
– Да, но этот зной, этот песок, этот пустой горизонт, – слукавил я. Девушка вздрогнула и широко раскрыла глаза:
– Это не пустыня.
– Да и Бог с ней! – внезапно рассмеялся я. Шары вокруг девушки замерли. Золотой излучал внимание. Похоже, я застал их всех врасплох – теперь все шло не по сценарию Стивена Крейна.
Но девушка быстро нашлась – она всего лишь закрыла глаза, и в ту же секунду пустыня волшебно преобразилась: там, где желтел песок, вспыхнули лунные блики, и я оказался по грудь в холодной воде.
Теперь я находился в бассейне внушительных размеров. Кругом сновали чудовищные рыбы – каждая из них была больше самого бассейна. Я вздрогнул от ужаса – невиданные рыбины проплывали совсем рядом; одна проплыла прямо сквозь меня – получалось, что та часть моего тела, которая находилась под водой, мне совсем не принадлежала.
Девушка окликнула меня.
Она стояла на краю бассейна, пристально вглядываясь в мои глаза. Вокруг нее вращались шары.
– Все, что творилось с тобой в этом сне, происходило когда–то наяву с твоими эзотерическими предшественниками, – прошелестела она, – в твоих прежних воплощениях. Но только ты один сумел справиться со всеми трудностями – главную роль тут сыграл твой повышенный интеллект. Я – первый лик божества по имени Нега, которое наконец–то обратило на тебя свое благосклонное внимание. Отныне ты под его опекой. Не ищи удовлетворения в реальности – ты видел свою смерть. Я – твоя смерть. Сейчас мы находимся между мирами: ты сознаешь, что это не сон и не явь. Мы – внутри твоего мозга. Очень скоро ты увидишь второй лик божества. Но помни: они уже пробуждаются… – с этими словами она растаяла в огненном вихре, куда следом были увлечены ее вертящиеся шары.
…«Кто пробуждается? Что такое «они»?» – невольная тревога овладела мной. И тут со мной что–то случилось – я повис в вакууме! Взглянув на себя, я чуть не вскрикнул от восторга и страха – мое тело стало стеклянным, прозрачным и хрупким. Сознание стало чистым, будто его промыли в нежнейшем источнике. Я куда–то двигался, не трогаясь с места, руки и ноги были бесконечными, я не видел, как далеко они простираются. Небывалое ощущение счастья опять завладело мною, я закрыл глаза и, не удержавшись, застонал.
В это же мгновение небеса распахнулись и яркая прекрасная Луна повисла прямо надо мной. Я вспомнил слова Уилсона: «Луна никогда не принадлежала ни Земле, ни Солнцу, а явилась откуда–то извне».
СНОВИДЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ:
«Нега, часть II»
Вам снились когда–нибудь часы? Хоть один раз, любые – серебряные луковицы, вынимаемые на цепочке из кармана, или настенные с маятником? Или часы для путешествий —
Когда, вослед за умельцем Либуром,
я сделал такие часы,
они показали – пора!..
Мне – никогда не снились, что давало мне повод смеяться над временем. И это было впервые – словно очнувшись, я первым делом подошел к высокому окну (была ранняя весна), затем взглянул на часы – старинные, фигурные, позолоченные…
Я привел себя в порядок и спустился по витой лестнице в залу, чуть не сбив с ног черную служанку, осторожно несущую фарфоровую супницу к столу.
– А, это вы! – приветствовал меня старичок–горбун, одетый пестро, но со вкусом: почему–то запомнились его остроносые черные туфли с полыхающими стразовыми пряжками.
– Ну, друг мой, что нового? Присаживайтесь к столу. Пат сейчас выйдет.
Я мучительно долго соображал, что имеет в виду старик, когда говорит, что у меня должно быть что–то новое. Однако он, видя мое смущение, сел рядом со мной, приобнял и рассмеялся, ударив меня по рукаву зеленой куртки:
– Понимаю, понимаю, весна… Я сам не так давно о работе и думать не мог, когда кругом ландыши, апрельский запах сохнущей земли, почки и лужи… Но, друг мой, за картой сейчас приедут, надеюсь, она готова?
– Ах, карта! – обрадовался я. – Она готова, мессир!
Горбун был доволен. Я выбежал из–за стола, поднялся к себе, зажег свечу и, перевернув целую груду чертежей, фолиантов и рулонов бумаги, нашел карту Луны. Тут же я вспомнил, что меня зовут Тэн, и я старший подмастерье великого астронома Жана Меро. Старик занимается изготовлением астрологических гороскопов для королевского двора.
Я снова выглянул в окно: небо было незнакомым, огромная луна слепила глаза, серебрила шпили замка и городской ратуши в отдалении. Как на ладони, видел я черепичные крыши, кошек и голубей, одинокие экипажи, влитые в мостовую у дверей богатых домов.
…Меро остался мной доволен. Мы взяли причудливо изогнутые ложки и принялись за дивно пахнущий черепаховый суп, запивая трапезу тонким вином. Стол был сервирован как для праздника – белые шелковые салфетки, темные графины, полные искрящейся драгоценной влаги, жаркое с пряностями и эклеры для Пат.
– А вот и она! – горбун отодвинул стул и засеменил навстречу своей очаровательной дочери. Пат холодно поздоровалась со мной, я поцеловал ее руку, почувствовав ненадолго слабый аромат неземных духов. Рука была подана небрежно.
Когда мы уселись за стол, я смело уставился на дочь астронома. Все в ней вызывало у меня дрожь и бессильное восхищение – строгость и ум спокойных серых глаз, роскошь платья, благородство линий ее лица и плеч, безупречно подобранный парик и алмазная брошь на полной атласной груди.
– Папа, скажи молодому человеку, что неприлично так долго смотреть на девушку, если она не подает к этому повода, – прошипела Пат, швырнув вилку на скатерть.
Я покраснел и сделал вид, что меня заинтересовало чучело рыбы–ушастика, стоящее на шкафу. Меро погрозил дочери пальцем.
Пат отведала вина и сделала гримасу:
– Папочка!.. Я же просила «Либерасьон»!
– Вина «Либерасьон» никогда не будет в этом доме! – не выдержал горбун. – Я предан королю, дочь моя! И я, и ты обязаны ему всем, если хочешь знать. Когда ты поймешь наконец, что разрушать всегда легче, чем строить?
– Что же плохого в слове «свобода»? – парировала дочь, сделав недоумевающее лицо.
– А то… А то, что я твой отец, и пока ты живешь в этом доме изволь подчиняться! Вот!
– Ах, так? – Пат мстительно сощурила глаза, вспыхнула и выбежала из–за стола.
«Бог мой, как она хороша!» – думал я, успокаивая старика. Когда же Меро отправился полежать, я допил вино из своего бокала и – простите юности! – из бокала дерзкой Пат. После чего обнаружил себя в регулярном парке, что располагался внизу под замком.
Тишина и грусть царили здесь; дорожки были выложены черными и белыми плитами, чередование которых создавало иллюзию, будто ступаешь по шахматному полю; но белого было все–таки больше – бледный сухой шиповник окружал меня со всех сторон. Дунул ветерок, и я вдруг ощутил, что декорации меняются. В самом деле – плиты подо мной двигались, скорее заданно, чем хаотично. Все зашевелилось: кусты и деревья, раздался леденящий душу вой, назад пути не было.
«Они пробуждаются», – вспомнил я…
На берегу темного залива чуть слышно скрипели деревянные мостики; небо, усеянное крупными звездами, опускалось прямо в воду. Передо мной возвышался эллинг невозможной конструкции. Мяукнула кошка, я побежал за ней. Ломая кусты, скатился с глинистого обрыва – и увидел рыбака. Он хлебнул из фляжки:
– Хочешь увидеть истину?
– Да, – ответил я.
Он вытащил что–то из рюкзака и показал мне.
Меня стошнило.
Две гигантские ящерицы подхватили меня за руки и поволокли в зал суда. Там, одетая торжественно и пышно, на алых шелках восседала Пат. Справа от нее за готическим выемом окна колебалась луна, вокруг ее высокого кресла медленно вращались черные матовые шары. Пат спросила меня:
– Убивал ли ты когда–нибудь во снах?
– Да, – напряг я память, – крысиного короля, змею с красными глазами.
Пат окинула стоящих в зале монахов торжествующим взором.
– А спасал ли ты кого–нибудь во снах?..
Я промолчал, вспоминая недавний сон: наводнение в узкой улочке, глухие дома, глаза царевича… Точно! Это я подвел к нему белого коня, и он спасся!
Вдруг меня озарило – это не Пат меня допрашивает, ее внешностью воспользовались, чтобы узнать от меня подробности о бегстве царевича. Моя догадка была верна: злобный смерч взвился с алых шелков, в висках вспыхнула нестерпимая боль, и страшные зубчатые щипцы навсегда вырвали из меня память об истине!
…Со звоном часов замелькали в закрытых глазах кадры: я, стоящий босиком на полу, побег и трассы подземного города, кошачьи глаза Пат, укрытие в башне из пепла… Пока звонят часы, у меня есть набор неразгаданных символов: Меро и карта Луны, тюремный камень, нацарапанное на нем слово «свобода», истина, суд, царевич…
Почему же на мне сошлись стрелки всех этих часов? Почему я должен слушать их непрерывный болезненный звон? А впрочем, есть в моем незнании Нега. Быть может, я действительно звено в бесконечной цепи неслучайного?