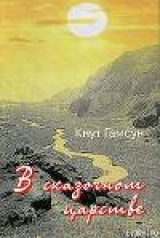
Текст книги "В сказочной стране. Переживания и мечты во время путешествия по Кавказу"
Автор книги: Кнут Гамсун
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 13 страниц)
III
Ехать в этот день было уже слишком поздно, и мы уехали на следующий день. Ах, если бы мне когда-нибудь ещё раз довелось увидеть Москву!
На вокзале, к величайшему нашему изумлению, мы снова встретились с дамой, у которой было такое множество колец на пальцах. Она ехала с тем же поездом. Эта странная встреча в конце концов получила некоторое объяснение б глубине земли донских казаков. Молодой гвардеец также едет с нами, он сел в одном купе вместе с дамой, они разговаривают и смотрят друг на друга влюблёнными глазами. У него на груди георгиевский крест. Я обращаю внимание на то, что на его золотом портсигаре герб и корона. Я никак не могу понять, почему эти два человека стали неразлучными, у них есть даже собственное маленькое купе, куда никто не входит. Это, наверное, муж и жена, новобрачные, которые ненадолго останавливались в Москве, чтобы повеселиться. Но на вокзале в Петербурге они, по-видимому, не знали друг друга. И прислуга их как будто ничего не имела общего друг с другом.
Мы проезжаем мимо дачной местности под Москвой. Дач очень много, все в скучном швейцарском стиле. Но через три часа езды от Москвы мы несёмся уже по обширным полям ржи и пшеницы, по чернозёмной полосе России.
Начались осенние полевые работы. Здесь пашут гуськом, две или три лошади идут друг за другом, таща за собою маленькие деревянные сохи, за ними следует лошадь с бороной. Я вспомнил, как мы пахали в Америке в необозримых прериях в долине Красной реки1010
Красная река (Ред-ривер) – река на юге США, правый приток Миссисипи.
[Закрыть] в десять плугов целыми днями и неделями. И мы сидели на плуге, как в кресле, под плугом были колёса, а мы сидели себе, пахали и распевали.
Там и сям на обширной равнине копошатся люди, они обрабатывают землю, – видны и женщины и мужчины. На женщинах красные кофты, а мужчины в белых и суровых домотанных рубахах, на некоторых тулупы. Вдоль всей дороги попадаются деревни с избушками, крытыми соломой.
Благодаря нашим спутникам, семье инженера, в купе стало известно, что мы с женой едем на Кавказ и не знаем языка, – инженер направляется как раз в Дербент, а оттуда переедет в Баку на пароходе по Каспийскому морю, тогда как мы перевалим через горы в Тифлис и затем отправимся дальше. В то время, как кондуктор прорезает наши билеты, возле нас стоит офицер, который слышит, что мы едем во Владикавказ: он уходит и приводит с собою другого офицера, который заговаривает со мной и изъявляет свою готовность помочь нам при перевале через горы. Он говорит, что ему надо туда же, он только сначала заедет в Пятигорск, город с серными источниками, купаньями и великосветским обществом. Там он останется не более недели, а мы в это время можем подождать его во Владикавказе. Я благодарю офицера. Он – толстый, пожилой мужчина, со странными манерами щёголя; он говорит на многих языках громко и смело, но с ошибками. Лицо у него неприятное, еврейское.
Инженер, который всё умеет делать и знает все порядки в этой стране, предлагает дать взятку кондуктору рубля в два, чтобы получить отдельное купе. Мы дали кондуктору взятку, и нас перевели в отдельное купе. Потом инженеру пришло в голову, что нам надо сунуть ему ещё немножко денег, чтобы он взял у нас билеты. Иначе нас будут беспокоить ночью при каждой смене кондукторов. И мы снова дали ему маленькую взятку, соответствовавшую нашим средствам. Всё было устроено в одну минуту. Система взяток весьма практична и удобна! Вы останавливаете одного из кондукторов во время его поспешного служебного обхода по поезду и роняете слово относительно отдельного купе. Это слово принимается как следует, кондуктор уходит, но через несколько минут он возвращается, и оказывается, что он уже приготовил для вас купе. Он сам забирает большую часть вашего багажа и идёт впереди, а вы с вашими спутниками идёте за ним гуськом и вскоре приходите в маленькую комнатку, которая поступает в ваше полное распоряжение. Так всё произошло с нами. После всего этого мы просто суём в руку кондуктора наши два рубля. Все мы смотрим на него, и он смотрит на нас и благодарит, и обе стороны совершенно довольны. Конечно, после приходится ещё вступать в маленькую сделку и с другими кондукторами, но им можно уже без всякой церемонии предлагать гораздо более скромную взятку, так, пустяк какой-нибудь в виде дружеского подарка.
Надвигается ночь, становится всё темнее и темнее. Купе освещается двумя стеариновыми свечами в стеклянных фонарях, но свет этот слишком скудный, и нам ничего не остаётся, как лечь спать.
Время от времени я слышу сквозь сон свистки локомотива. Эти свистки не похожи на свистки обыкновенных локомотивов в других странах света, – они скорее напоминают пароходные свистки. Здесь, среди необозримых русских равнин, поезд – единственное судно.
Ночью я просыпаюсь от духоты в купе. Я встаю и пытаюсь открыть вентилятор в потолке, но не могу достать до него. Тогда я падаю на диван и снова засыпаю.
Ясное утро, воскресенье, шесть часов. Мы стоим на станции в городе Воронеже. Здесь родился Алексей Васильевич Кольцов, здесь он бродил по полям и писал. Говорят, будто он так и не выучился писать грамотно на своём языке, но это не помешало ему сделаться поэтом, и шестнадцати лет от роду он написал уже целый томик стихов. Его отец, простой скотопромышленник, не мог иметь крепостных, но у него были средства для этого, и он брал их в залог. И вот среди них была Дуняша, молодая девушка, которую полюбил поэт Кольцов и которая отвечала ему взаимностью. Он ей посвятил прекрасные стихи. Он ходил по лугам и пас отцовский скот, там он написал множество пламенных стихов, проникнутых глубокой тоской. Но однажды отец послал его за покупкой скота в деревню и, пользуясь отсутствием сына, он продал Дуняшу одному помещику, который жил где-то далеко на Дону. Когда молодой Кольцов вернулся домой и узнал об этом, то он смертельно заболел. Однако он выздоровел, но Дуняши никогда не забывал, и после этого стал писать стихи лучше, чем когда-либо раньше. Потом его «открыл» дворянин Станкевич1111
Станкевич Николай Владимирович (1813—1840) – русский общественный деятель, философ, поэт. В 1830 в Воронеже случайно встретился с беззвестным тогда Алексеем Кольцовым и «открыл» его для русской литературы, познакомив В.Г. Белинского с его стихами.
[Закрыть], который помог ему приехать в Москву и Петербург. Но тут он испортился, сделался пьяницей и сошёл в могилу тридцати четырёх лет от роду1212
Во всей передаче Гамсуном истории Кольцова чувствуется голос иностранца. Что до трагического конца Кольцова, то он совершенно не верен. Гамсун или заимствовал его из дурного источника, или смешал судьбу Кольцова с судьбой какого-нибудь другого русского писателя-самородка. Кольцов не страдал болезнью Левитовых, Решетниковых, Помяновских или Меев, и умер от злой чахотки. – Примечание переводчика.
[Закрыть].
Его погубила любовь.
В Воронеже поставлен ему памятник...
Гвардеец и дама с брильянтовыми кольцами отворили дверь своего купе вследствие жары. Я вижу их, они уже совершенно одеты, и я замечаю, что лица у обоих печальны. «Верно, произошла маленькая ссора», – думаю я. Но моё подозрение сейчас же разбивается: я вижу, как они шепчутся по-французски и не стесняются проявлять нежность по отношению друг к другу чуть ли не у нас на глазах. Когда офицер хочет уходить, то дама вдруг останавливает его на мгновение, притягивает его голову к себе и целует его. И они улыбаются друг другу, и видно, что они забыли всё, словно во всём поезде только они вдвоём. Лучших отношений между ними нельзя было желать. Ясно было, что это новобрачные.
Оказывается, что всю ночь на мою куртку капал стеарин со свечи в купе. Я делаю это открытие слишком поздно. Вид у меня в этой куртке очень неряшливый, и я всеми силами стараюсь соскрести стеарин и ножом и ногтями. Для меня было бы громадным утешением, если бы стеарин наделал неприятностей и другим, кроме меня, но этот шельма-инженер, конечно, повесил свою куртку у другого фонаря. Мне попадается кто-то из поездной прислуги, и я стараюсь объяснить ему на разных языках, что мне нужно помочь, и человек энергично кивает мне в ответ, как бы давая мне понять, что он мне вполне сочувствует. После этого я его отпускаю. Я думаю, разумеется, что через минуту он вернётся и произведёт надо мною необходимые манипуляции. В своём воображении я уже вижу его с горячим утюгом и всевозможными жидкостями для выводки пятен, с куском сукна, пропускной бумагой, горячими углями и щёткой. Дело в том, что я весь в пятнах.
Возле меня стоит черкесский офицер, вот как он одет: у него высокие лакированные сапоги, на которые спускаются широкие штаны и широкий коричневый со складками бурнус1313
Бурнус (араб.) – верхняя мужская одежда, длинный шерстяной плащ с рукавами.
[Закрыть] с кожаным поясом. Спереди за поясом заткнут длинный кинжал наискось на животе, рукоятка кинжала резная и золочёная. Поперёк груди торчат верхушки восемнадцати круглых металлических трубочек, вроде напёрстков с гранатовым донышком. Это поддельные патроны. На голове у него барашковая шапка.
Мимо меня проходит армянский еврей. Это – купцы, богачи, которых, по-видимому, не угнетает никакое земное горе. На них чёрные атласные кафтаны, подпоясанные отделанными золотом и серебром кушаками. Некоторые из евреев очень красивы, но у молодого мальчика, которого они везут с собою, лицо скопца и заплывшее жиром тело. Крайне отвратительное впечатление производит то, что его спутники обращаются с ним, как с женщиной. Такие евреи-торговцы постоянно разъезжают между Россией и Кавказом. Из больших городов они возят с собой товар в горы, а оттуда они возвращаются в большие города с изделиями и коврами горцев.
Поезд тронулся. Мы делаем огромную дугу, и ещё через двадцать минут в стороне открывается вид на большой город Воронеж со множеством домов, куполов и шпицев. Потом мы пересекаем большие поля с арбузами и подсолнечниками, растущими вперемежку на одном и том же поле. Арбузы лежат на земле, как большие жёлтые снежки, а подсолнечники возвышаются над ними, словно огненно-жёлтый лес. Подсолнечники разводят в южной и средней России ради подсолнечного масла. Из лепестков цветов варят варенье, которое считается большим лакомством. Все здесь жуют подсолнечное семя, выплёвывая шелуху. Для местного населения это заменяет собою наш жевательный табак, но семя чище и занятнее. Кондуктор стоит и добродушно грызёт семечки, прорезая наши билеты, извозчик на козлах, приказчики за прилавками, а также и почтальоны, переходя от двери к двери со своими письмами – все грызут подсолнечное семя, выплёвывая шелуху.
Далеко, на самом горизонте, низко над землёй мы замечаем большое чёрное пятно. Оно представляется нам шаром, который держится над самой равниной и не поднимается выше. Нам объясняют, что мы видим корону громадного дерева. Оно далеко кругом известно под названием «дерева».
Мы на Дону.
На равнине разбросано бесчисленное множество стогов соломы и сена, которые напоминают ульи; там и сям стоят ветряные мельницы, тихие и неподвижные, стада рогатого скота пасутся также как-то неподвижно. Иногда мне приходит в голову сосчитать, сколько голов в стаде. И я делаю быстрый подсчёт следующим образом: сперва я сосчитываю ровно пятьдесят голов, а затем смотрю, какую площадь на равнине они занимают, потом я закрываю один глаз и намечаю приблизительно такую же площадь, которую складываю с первой, и таким образом получается сто голов скота. И вот я начинаю считать только площадями в сто годов, при чём мне приходится то прибавлять, то убавлять, смотря по тому, идёт ли скот сплочённой массой, или врассыпную. Таким образом я делаю вывод, что стада бывают до и свыше тысячи голов волов, коров и телят. Двое или трое пастухов пасут гурты с длинными посохами в руках; они одеты в тулупы, несмотря на знойное солнце. И они, наверное, живут ленивой и беспечной жизнью, хотя у них нет собак. Я невольно вспомнил жизнь среди огромных пастбищ в Техасе, где пастухи разъезжают верхом и где им приходится пускать в дело револьвер против соседних пастухов, крадущих скот. Самому мне этого не пришлось испытать, я старался несколько раз получить место ковбоя, но меня каждый раз забраковывали по разным причинам. Кстати о близорукости: я вижу теперь дальше, чем десять лет тому назад. Но зато теперь по ночам, когда я работаю при лампе, я начинаю замечать, что зрение моё ослабевает. Кончится, вероятно, тем, что мне придётся прибегать к выпуклым очкам.
Станция Колодезная. Поезд встречают ярко и пёстро одетые женщины; на них так много красного и синего, что издали они похожи на поле, поросшее маком, который движется и колышется. Они продают фрукты, и мы покупаем виноград. Я хочу купить неимоверное количество винограда, чтобы иметь запас; но инженер советует мне не делать этого: теперь как раз время сбора винограда, и качество его будет улучшаться по мере того, как мы будем приближаться к Кавказу. Женщины понимают, что инженер не даёт мне покупать у них много, но они не озлобляются на него за это, они дружелюбно разговаривают с этим человеком, знающим их язык, и болтают с ним о том и о сём. Это крепкие и здоровые крестьянки с загорелыми лицами, с чёрными волосами и вздёрнутыми носами. Глаза у них карие. На голове и на шее у них синие и красные платки по случаю воскресного дня, юбки у них также красные и синие. На многих бараньи полушубки, а на некоторых кофты из материи, обшитые мехом. Но, несмотря на весь этот мех, в которой они одеваются, это не мешает им ходить босиком. Ноги у них красивые.
Начинается степь, но всё ещё встречаются группы ив или лип возле деревень. Стадо гусей бродит в степи и щиплет траву, я насчитываю до четырёхсот гусей в одном большом стаде. Ближайшие гуси поворачивают свои шеи к поезду и гогочут в то время, как мы проносимся мимо них. Повсюду царят мир и тишина по случаю воскресенья, ветряные мельницы стоят неподвижно, время от времени до нас доносится колокольный звон. Мы во многих местах видим на дорогах кучки пешеходов, – по всей вероятности, они идут в церковь и по дороге болтают друг с другом о своих делах, – совсем как у нас на родине. Когда мы проезжаем мимо деревень, то дети машут нам, а курицы, сломя голову, разбегаются в разные стороны.
Я здороваюсь с офицером, который хотел быть нашим спутником до Кавказа, но он отвечает важно и холодно. Но вдруг он узнаёт меня и протягивает мне обе руки. Он не узнал меня, но теперь он сейчас же вспомнил меня.. Хорошо ли я спал? В России так неудобно путешествовать.. Итак, нам придётся подождать во Владикавказе только одну неделю, а потом он нагонит нас. В Пятигорск ему никак нельзя не заехать, – там дамы!
Его еврейская физиономия невыносима, и он сам помогает мне избавиться от него. Видя, что я отхожу от него и отвечаю ему молчанием, он сейчас же догадывается, в чём дело, и отвечает тем же, заговаривает с другими и не обращает на меня внимания. Слава Богу!
Во всех купе заваривают чай и всюду курят; многие дамы также курят. Кипяток достают на станции, а самовары1414
По всей вероятности, автор подразумевал чайники. – Примечание переводчика.
[Закрыть] имеются у пассажиров; с этих пор чаепитие продолжается до самого вечера.
Одиннадцать часов, солнце начинает невыносимо печь в купе. Мы открыли вентилятор в потолке и наполовину опустили окно. Но тут нас начинает одолевать пыль!
В двенадцать часов мы подъезжаем к маленькой станции Подгорное. Здесь мы видим на песчаной дороге форейторов1515
Форейтор – в упряжке цугом: слуга, сидящий верхом на передней лошади.
[Закрыть], солдат, пустую карету с цветочными гирляндами, запряжённую четвёркой, и конвой верховых казаков. Рядом со всем этим идут пешком генерал и молодой офицер, оба в мундирах. На станции карета, конвой и солдаты останавливаются как раз в ту минуту, когда подходит поезд.
Тут я слышу рыдания и французские восклицания, которые раздаются в купе новобрачных. Дама с брильянтовыми кольцами выходит оттуда бледная, заплаканная, растерянная, она оборачивается и обнимает гвардейца, потом она выпускает его из своих объятий и стремглав выбегает из поезда. Гвардеец остаётся в купе растерянный и взволнованный, он бросается к окну и смотрит в него.
В ту минуту, как дама сошла с поезда, солдаты и казаки делают ей на караул. Она бросается к генералу на грудь; раздаются разные приветствия по-французски; она оставляет генерала и бросается к молодому офицеру, и эти три человека обнимаются и целуют друг друга в величайшем волнении. Кто это: отец, дочь и брат? У брата вырывались такие странные восклицания. «Да перестань же плакать!» – говорят генерал и офицер, и они успокаивают её и ласково гладят. Но дама продолжает плакать и иногда улыбается сквозь слёзы. Она рассказывает, что заболела в Москве, но не хотела телеграфировать, пока не выздоровела и не была в состоянии ехать дальше. Молодой человек называет её своей милой и в восторге от её геройского молчания, с которым она перенесла болезнь, и вообще от всего её беспримерного поведения. Инженеру удаётся узнать от одного из конвойных, что это князь ***, его дочь и жених дочери; молодые должны обвенчаться сегодня же. Невеста выздоровела и приехала домой в самое последнее мгновение. Да благословит её Бог!
И дама садится в украшенную гирляндами карету, а отец и жених садятся верхом на своих лошадей и скачут по обе стороны её и всё время разговаривают, наклоняясь к ней. Когда карета, всадники и конвой выехали на песчаную дорогу, то дама машет своим носовым платком, – но она собственно не машет, а как бы расправляет его прежде, чем употребить.
Но вот локомотив свистит, и мы отъезжаем от станции.
Гвардеец всё стоит, прижавшись лицом к стеклу, пока может видеть украшенную гирляндами карету. Потом он запирает дверь своего купе и несколько часов сидит один в душной комнатке.
Отворив дверь нашего купе, мы выходим в коридор. Здесь расположился один армянин. Он устроил себе целую постель из подушек. Под ним вышитый жёлтый шёлковый матрац, а закрылся он красно-коричневым шёлковым одеялом. На этом великолепном ложе он растянулся перед открытым окном и лежит в целом облаке пыли. Он снял сапоги и остался в одних носках, которые все в дырах, так что пальцы торчат наружу. Под головой у него две подушки в очень грязных наволочках, но в отверстия прошивки видна сама подушка, покрытая шёлком, расшитым золотом.
Приходят новые пассажиры и располагаются в проходе возле армянина. Это кавказские татары. У их женщин лица закрыты покрывалами, они одеты в одноцветные красные бумажные платья и сидят тихо и безмолвно. Мужчины со смуглыми лицами, рослые, в серых плащах поверх своих бурнусов и с разноцветными шёлковыми шарфами вокруг талии. За шарфом они носят кинжалы в ножнах, рукоятки кинжалов выложены серебром.
Теперь наш локомотив отапливается нефтью из Баку, и запах этого топлива в сильной жаре гораздо неприятнее каменноугольной гари.
Мы вдруг останавливаемся на крошечной станции среди степи. Мы должны ждать встречного поезда из Владикавказа. В ожидании мы выходим, чтобы поразмяться немного. Тихо и жарко, множество пассажиров толпятся тут, слышатся разговоры и пение. Тут снова появляется гвардеец. Он уже не грустит больше, несколько часов, проведённые им в полном одиночестве в его купе, ободрили его; Бог знает, может быть, ему удалось даже вкусить подкрепляющего сна за эти несколько часов. Он разгуливает теперь с молодой дамой, которая курит сигаретки. Она без шляпы и предоставляет солнцу жечь свои чёрные волосы. Они говорят по-французски, и разговор их не умолкает ни на минуту, их смех так и звенит в воздухе. Но княжеская дочь, дама с брильянтовыми кольцами, стоит, может быть, в это мгновение перед алтарём с другим.
Какой-то человек спрыгивает с поезда с узлом в руках. У него совсем коричневое лицо, а волосы и борода блестящие и чёрные, как смоль. Это перс. Он выбирает себе маленькое местечко на земле, развязывает свой узел и расстилает на земле две скатерти. Потом он снимает свои башмаки. Я начинаю догадываться, что этот человек собирается показывать фокусы с ножами и шарами. Но оказывается, что я ошибся. Перс собирается совершать свою молитву. Он вынимает несколько камешков из-за пазухи и кладёт их на скатерть, потом он поворачивается к солнцу и начинает обряд. Сначала он стоит совершенно прямо, не двигаясь. С этой минуты он не видит больше никого в окружающей его толпе, он только смотрит пристально на два камня и весь погружён в молитву. Потом он бросается на колени и совершенно склоняется к земле, он делает это несколько раз; при этом он перекладывает камни на другие места: тот, который был дальше, он придвигает ближе в левую сторону. Наконец он встаёт, вытягивает руки перед собой ладонями наружу и шевелит губами. В эту минуту раздаётся грохот проносящегося мимо нас владикавказского поезда, и наш локомотив подаёт свисток; но перс не проявляет никакого беспокойства. Поезд не уйдёт без него, а если и уйдёт, – на то воля Аллаха. Он снова бросается на колени и перекладывает камешки, в конце концов он так быстро перекладывает их с места на место, что я не могу больше следить за ним. Все пассажиры уже вошли в поезд, а он всё продолжает сидеть на земле. «Торопись же!» – думаю я. Но перс и не думает торопиться, он делает ещё несколько поклонов и медленно разводит руками перед собою. Поезд начинает трогаться, в это мгновение перс снова выпрямляется и стоит, как вкопанный, повернувшись лицом к солнцу, – потом он собирает свои скатерти, камешки и башмаки и входит в поезд. В его движениях не было и следа торопливости. Некоторые зрители, стоявшие на площадке вагона, пробормотали какое-то одобрение, нечто вроде «браво», но невозмутимый магометанин не удостаивает вниманием слова «неверующих собак»; и он величественно проходит в вагон и садится на своё место.
На одной из станций, где мы долго стоим и забираем воду, я замечаю наконец поездного слугу, который должен был вывести стеариновые пятна на моей куртке. Он стоит на земле, вагона за два от меня. Я кланяюсь ему и улыбаюсь, чтобы не спугнуть его, потому что я задался целью во что бы то ни стало поймать его, и когда я подхожу к нему вплотную, то я всё ещё не решаюсь заговаривать с ним и только продолжаю добродушно улыбаться. И он также кивает мне в ответ и улыбается, а когда его взгляд падает на белую полосу, оставшуюся на моей куртке от стеарина, то он всплескивает руками и говорит что-то; потом он вдруг бросается в своё отделение в поезде. «Теперь он побежал за жидкостью для выводки пятен и горячим утюгом», – думаю я. Что он сказал, я не понял, но, по всей вероятности, его слова должны были означать нечто вроде того, что он сейчас вернётся, ваше сиятельство! И я стал ждать. Локомотив напился воды, свистнул и начал двигаться, – больше я не мог ждать...
Я несколько раз встречался с офицером, нашим будущим спутником при перевале через горы. Он совсем не узнаёт меня больше. Он обиделся на меня, – слава Богу! На одной из станций, где мы ужинали, он сидел рядом со мной. Он положил своё набитое портмоне на самом виду. Конечно, он сделал это не для того, чтобы соблазнить меня украсть его портмоне, но для того, чтобы показать мне, что на нём серебряная корона. Бог знает, была ли эта корона серебряная, и имел ли он право на эту корону. Когда я раскланивался, то он не сказал ни слова и не предложил своих услуг; но другой господин, сидевший рядом со мною по другую сторону, обратил моё внимание на то, что я получил слишком мало сдачи. Он говорит лакею, что произошла ошибка, и я тотчас же получаю свои деньги обратно. Я встаю, кланяюсь господину и благодарю его.
Мы решили не брать офицера в спутники и скрыться от него во Владикавказе.
В девять часов вечера становится совершенно темно. Среди непроницаемого мрака кое-где в степи в деревнях светятся огоньки, больше ничего не видно. Время от времени мы совсем близко проносимся мимо одинокого огонька в крытой соломой избушке, в которой, наверное, живут крайне бедные люди.
Вечер мягкий и тёмный, душный и тёмный. Я стою в коридоре у открытого окна, а кроме того держу дверь на площадку вагона полуоткрытой, и всё-таки так невыносимо жарко, что я должен всё время держать платок в руке и вытирать им лицо. Из соседнего вагона до меня доносится пение армянских евреев. Это поют необыкновенно тучный старый еврей и жирный скопец, они поют нечто в роде дуэта. Это продолжается довольно долго, часа два; изредка пение прерывается смехом, и затем они снова начинают тянуть свою заунывную песню. Голос скопца скорее птичий, чем человеческий.
Ночью мы проезжаем мимо большого города Ростова, где мы почти ничего не видели вследствие тьмы. Здесь многие из пассажиров сходят.
На платформе мне удалось увидать толпу киргизов. Как они попали сюда из восточных степей, я не понимаю; но я слышал, что их называют киргизами. На мой взгляд они немногим отличаются от татар. Это кочевники, которые гоняют своих баранов и коров с одного места на другое в степи, где пасут свой скот. Бараны – это их денежная единица, другой у них нет: за жену они платят четыре барана, а за корову восемь баранов. За лошадь они дают четыре коровы, а за ружье три лошади. Это я где-то читал. Я смотрю на этих коричневых людей с раскосыми глазами и киваю им. Они улыбаются мне и тоже кивают. Я даю им немного мелочи, и они очень радуются и благодарят меня. Мы стоим вдвоём ещё с одним европейцем и смотрим на них, другой европеец может кое-как объясняться с ними. Красивыми их назвать нельзя по нашим понятиям, но у них детский взгляд и чрезвычайно маленькие руки, которые производят какое-то беспомощное впечатление. Мужчины одеты в тулупы, а на ногах у них зелёные и красные высокие сапоги; у них кинжалы и палки. Женщины в пёстрых бумажных платьях; на одной из женщин соломенная шляпа, опушённая лисьим мехом. У них совсем нет украшений, и они кажутся очень бедными. Европеец, стоящий рядом со мной, даёт им рубль, и они снова благодарят и завязывают серебряную монету в платок.
Прекрасное ясное утро в степи; высокая и пожелтевшая трава тихо шелестит на ветру. Необозримый простор со всех сторон.
Есть три рода степей: травяные степи, песчаные и солончаковые; здесь только травяные степи. Только раннею весною трава здесь может служить кормом для скота, уже в июле она твердеет, деревенеет и становится негодной для корма. Но вот наступает осень, как теперь, и случается, что в это время идут проливные дожди, а солнце не так уже жжёт, и вот вдруг между сухою, увядающей степной травой вырастает мягкая зелёная трава и расцветает множество прекрасных цветов. Насекомые, животные и птицы снова оживляются и собираются сюда; далеко в степи раздаются разнообразные трели и свист перелётных птиц, а бабочки снова порхают и кружатся в мягком воздухе. Но если не обратить на это внимания, то и не увидишь ничего, кроме жёлтой сожжённой травы на целые мили кругом. Поэтому в это время года степь не похожа на море, а скорее на пустыню с жёлтым песком.
Из поэзии всех степняков казацкая наиболее прочувствованная, и она воспета лучше других. Ни о калмыцких, ни о киргизских или татарских степях не было сказано таких прекрасных и задушевных слов, как о казацких. И всё-таки степь более или менее одна и та же у всех этих народов в обширной русской земле. Но казаки сами отличаются от остальных степняков. Во-первых, степь – настоящая родина казаков, где они жили из поколения в поколение, тогда как другие лишь пришельцы, – одни остатки «Золотой», другие – «Синей» орды. Кроме того, казаки – воины, тогда как другие – пастухи и землепашцы. Казаки никогда не были в рабстве у ханов, панов или бояр, тогда как остальные находились в рабстве. Я читал где-то, что «казак» – это означает «свободный человек».
Казаки населяют свою собственную землю. Им принадлежит огромная площадь чрезвычайно плодородной земли. Они освобождены от податей, но в военное время обязаны снаряжаться на свой собственный счёт. В мирное время они обрабатывают поля и возделывают кукурузу и пшеницу, а также и виноград, а кроме того они охотятся на зверей в степи. Но в военное время они представляют собою сказочно храбрый контингент в храбром русском войске.
Теперь мы едем по земле казаков...
Здесь, в глуши, вдали от всех станций я вдали от всех городов, мы видим телегу с офицером, у которого на голове фуражка с красным околышем. С ним конвой казаков. Он едет по степи наперерез нам. Может быть, он направляется в какой-нибудь город, или в какую-нибудь станицу, казацкое местечко, или вообще в какое-нибудь другое место в степи, но мы этого не увидим, потому что земля – шар. Час спустя мы проезжаем мимо татарского аула. Его палатки напоминают стога сена. Татары живут повсюду в южной России, даже здесь, в земле казаков. По большей части это пастухи; это очень ловкие и очень даровитые люди, все они без исключения умеют читать и писать, но я читал, что не все казаки грамотны.
Один из армянских евреев говорит мне что-то, но я понимаю только слово: «Петровск». «Нет, – отвечаю я на прекрасном русском языке, – нет, Владикавказ, Тифлис». Он кивает, оказывается, что он понял каждое слово. Итак, я могу вести беседу по-русски; послушал бы меня кто-нибудь из моих соотечественников! Мне вдруг приходит в голову, что еврею хочется посмотреть на офицера, который едет по степи в телеге, и я протягиваю ему свой бинокль. Он отрицательно качает головою и не берёт его. Потом он снимает с себя серебряные часы на длинной серебряной цепочке, держит их передо мною и говорит: «Восемьдесят рублей!». Я раскрываю свой словарь и вижу, что он спрашивает с меня восемьдесят рублей. Ради забавы я рассматриваю часы, – они большие, толстые, и похожи на старинную луковицу. Я прислушиваюсь, часы стоят. Тогда я вынимаю из кармана мои золотые часы и хочу уничтожить еврея этим зрелищем. Но он не проявляет ни малейшего признака изумления, точно он догадался, что часы эти я держу при себе только для того, чтобы в случае надобности заложить их. Я прикидываю мысленно: сколько я мог бы получить под его часы? Может быть, десять крон. Но под мои часы мне приходилось получать до сорока крон.
Нечего было и сравнивать! «Нет!» – говорю я решительно и отвожу его руку с часами. Но еврей продолжает держать часы перед собою, медлит их спрятать и наклоняет голову набок. Тогда я беру их ещё раз в руку и показываю ему, какие они старые и плохие, я прикладываю их к уху и даю ему понять, что они стоят. «Стоят!» – говорю я односложно, потому что у меня нет никакого желания вступать с ним в разговоры. Еврей улыбается и берёт свои часы назад. Он даёт мне понять, что теперь сделает что-то. Он открывает вторую крышку и показывает мне, какой вид имеют часы внутри. И действительно, внутри часы резные, но ничего особенного в них нет. Но еврей просит меня посмотреть, что будет дальше. Он открывает также и резную крышку и даёт мне посмотреть внутрь. Оказывается, что на внутренней крышке в высшей степени неприличная картинка. Но эта картинка, по-видимому, забавляет его, он смеётся и склоняет голову набок и смотрит на картинку. И он всё время заставляет меня следить за тем, что он будет делать дальше. И вот он всовывает ключик в отверстие и поворачивает его на полуоборот – часы идут. Но идут не одни часы, картинка также приходит в движение, на ней всё движется.
Мне в то же время становится ясно, что эти часы стоят гораздо дороже моих. Конечно, найдутся люди, которые дорого заплатят за них и оценят их по достоинству.
Тут еврей смотрит на меня и говорит:








