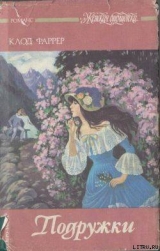
Текст книги "Подружки"
Автор книги: Клод Фаррер
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 15 страниц)
Глава семнадцатая
Честь этого требует…
Фарфоровые часы в ресторане «Цесарка» пробили один раз. Стрелки показывали половину двенадцатого.
Главный большой зал, ослепительно освещенный гроздьями электрических лампочек, протянувшихся под расписным потолком вдоль всего фриза, был наполовину пуст, оттого что четверг не считается в Тулоне подходящим днем для «элегантного времяпрепровождения». Поэтому здесь было всего десятка три мужчин, разговаривавших за стаканом вина и сидевших небольшими группами, и две-три женщины, торопливо доедавшие последние сандвичи наедине со своими любовниками, перед тем как уйти с ними. Было почти тихо. Сквозь желтые и синие стекла, отделявшие главный зал от зала, ближнего к выходу, видно было, как за маленькими круглыми столиками сидели торопливые люди, которые забежали сюда на четверть часа, чтобы только утолить жажду; а вокруг них на скамейках вдоль стен восседали девицы последнего сорта, бедные странницы, которые каждый вечер ждут, чтобы какой-нибудь праздношатающийся прохожий бросил платок которой-нибудь из них…
Итак, часы пробили один удар. Дверь, выходящая на бульвар, приоткрылась, и на пороге появилась женщина в непромокаемом пальто. С ее зонтика струилась вода. Быстрыми шагами она вошла в главный зал и остановилась, пытливо, пара за парой, осматривая всех присутствующих, прищуриваясь, чтобы лучше видеть.
Лакей в зеленой ливрее – лакей из «Цесарки», очень известная в Тулоне личность – розовый и белокурый херувим с детскими глазами и девичьими волосами, тихо скользнул к новоприбывшей даме и таинственно спросил:
– Мадам Мандаринша ищет кого-нибудь?
Он протянул руку к ее зонтику, с которого все еще струилась вода; но она не выпустила зонтика из рук.
– Да. Я разыскиваю мадам Селию. Она сегодня с гардемарином Пейрасом. Вы, наверно, уже видели их после обеда? Я думаю, они еще не ушли? Или…
Херувимчик, однако, не разжимал рта и подозрительно смотрел на молодую женщину. Мандаринша ищет Селию? Что это значит? Война или мир? Этого не угадаешь заранее. Еще так недавно в этом же самом зале Селия искала Жолиетту. И лакей из «Цесарки», этот розовый и белокурый херувимчик, мог бы многому научить самых смелых психологов, занимающихся изучением женской психологии. К тому же, когда дамы начинают драться, всегда страдает посуда учреждения.
Успокоенный своими наблюдениями, он кивнул головой на столик в дальнем конце зала.
– Нет, господин Пейрас и мадам Селия еще не ушли, они еще здесь. Кушают. Я повешу ваше мокрое пальто.
Мандаринша спокойно освободилась от макинтоша, блестевшего от дождя, и подставила грязные ботинки под тряпку лакея.
За тем же столиком, за которым полтора месяца тому назад Жолиетта ужинала с Пейрасом, Пейрас ужинал теперь с Селией.
Они молча сидели друг против друга. Гардемарин через накрытый стол держал руку своей любовницы. И Селия, облокотившись другой рукой о стол и опершись на нее щекой, смотрела на Пейраса долгим и неподвижным взглядом. Дойдя до них, Мандаринша еще раз остановилась, изумленная необыкновенным блеском ее глаз. Она часто восхищалась глазами Селии, которые походили на две черные лампады. Но сегодня эти лампады пылали сквозь темное стекло необыкновенно ярким светом, и блеск их освещал все ее лицо. Казалось, что под ее матовой кожей уже не кровь струится по тонкой дрожащей сети вен и артерий, а ласковый горячий огонь, тот самый огонь, который как будто опалил лицо Мандаринши, когда она еще ближе подошла и тоже облокотилась о стол между обоими любовниками.
Но и тогда Селия не заговорила. Она продолжала смотреть на Пейраса и видела только его одного. Пейрас, заразившись ее молчанием, молча же поклонился и подвинулся, чтобы дать Мандаринше место за столиком.
И Мандаринша заговорила первая.
– Привет вам обоим, – спокойно сказала она.
Тогда Пейрас отвечал:
– Добрый вечер.
При звуке его голоса Селия, казалось, пробудилась от своего сна.
– Здравствуйте, дорогая!..
И она улыбнулась. Мандаринша никогда не видала у нее такой веселой и такой нежной улыбки.
Теперь Селия приподнялась и взяла руку своего старшего друга.
– Как хорошо, что вы именно сегодня, несмотря на такой дождь, зашли в «Цесарку», ведь вы бываете здесь не чаще, чем раз в неделю. Садитесь же скорее. Остался еще кусочек холодной куропатки и большая трюфель.
– Спасибо, – сказала Мандаринша, – но я не голодна: я уже поела там.
– Где там?
– Там!.. у вас! на вилле Шишурль. Ведь сегодня четверг, Селия, а у вас по четвергам чай и сандвичи.
Мгновенно таинственный огонь во всех венах и всех артериях Селии как бы погас под ее матовой кожей. И вместо него опять заструилась темная кровь. Мандаринша почувствовала, как у нее странно защемило сердце.
– Это правда, – прошептала Селия, – сегодня четверг…
Она дважды провела рукой по лбу. А ее любовник, по-прежнему беспечно державший ее протянутую руку, склонил голову набок и посмотрел в ее черные, теперь уже не такие сияющие, глаза.
Потом Селия спросила изменившимся голосом:
– Значит… вы пришли оттуда?
– Да, – сказала Мандаринша. И обе замолчали.
Тогда Бертран Пейрас непринужденно встал. Он вежливо улыбнулся Мандаринше и, наклонившись к Селии, еще раз посмотрел ей прямо в глаза. Ни он, ни она не отпустили руки друг друга. Он высоко поднял ее руку, поднес ее к губам и медленно поцеловал в ладонь. Потом сказал очень спокойно:
– Извините меня, прекрасные дамы, я оставляю вас на пять минут. К умывальнику только что прошел человек, – один человек, с которым мне нужно перекинуться несколькими словами.
И он удалился, скромно и неторопливо.
Оставшись одни, они помолчали еще мгновение. Потом Селия повторила:
– Вы пришли оттуда?
И Мандаринша тоже повторила:
– Да.
Селия колебалась. Наконец еще тише, и каким-то хриплым голосом, она сказала:
– Мандаринша… Там, очень… Там, очень… очень сердятся?
Мандаринша ясно и определенно мотнула головой справа налево:
– Нет.
– Вот как! – сказала Селия.
И тотчас же устремила вопросительный взгляд на подругу:
– А вы… вы сердитесь?
– Да, – сказала Мандаринша.
Теперь они сидели обе, облокотившись на стол и близко наклонившись друг к другу; Мандаринша слушала, упорно не поднимая глаз…
– Что поделаешь!.. Он пришел и сказал мне, что он любит меня, как прежде, и даже больше; что он в этом вполне уверен, что он успел обдумать все это во время плавания; и что в продолжение всего этого плавания он думал обо мне, только обо мне, а не о ней, знаете – той, с которой мы подрались. Он сказал мне, что с того самого дня он почувствовал, что любит меня, именно меня, а не ее, оттого что в тот миг, когда мы сцепились и все выбежали нас разнимать, он всей душой желал победы мне, а не ей, и он клялся, что чуть не умер от радости, когда увидел, что она упала и запросила пощады. Вы понимаете, он вынужден был отвезти ее домой: я чуть не убила ее, эту женщину; она была вся в крови, а ее тело было сплошной раной. Он не мог не позаботиться о ней, оттого что, сказать правду, досталось ей от меня только из-за него. И клянусь вам, что я била как следует. Конечно, она тоже защищалась, и мне тоже от нее попало; но я отлично помню, что больше всего у меня болели кулаки и колени, они прямо почернели от синяков, так больно я ими колотила ее. Наконец он дал честное слово, что с того самого дня он не провел с ней ни одной ночи и что теперь настала ее очередь плакать, как я плакала. И тогда я все ему простила.
Она помолчала немного и заговорила более серьезным тоном:
– Видите ли, я знаю все, что вы можете мне сказать, – что он снова станет меня обманывать, что опять станет причинять мне страдания. Ну что ж, – тем хуже! Я вознаграждена заранее… Хотя бы той радостью, которая меня охватила, когда он снова обнял меня вчера, это вознаградило меня за все. Может быть, и существуют женщины, которые могут жить без любви, а я не могу. Им нужны дома, автомобили, наряды. А я всегда мечтала только о том, чтобы кто-нибудь полюбил меня. И говорил мне всякие нежные вещи, сжимая меня в объятиях. Когда я, четыре месяца тому назад, повстречала его, я сразу же влюбилась в него, оттого что он напомнил мне одного человека, которого я знала когда-то и который причинил мне много зла. Этот человек тоже умел говорить те вещи, которые нам нужны, те слова, которые входят в сердце и от которых нас бросает то в жар, то в холод. И вот четыре месяца тому назад мне показалось, что я слышу тот прежний голос. И в ту ночь я услышала те же самые слова, и мы провели всю ночь на берегу моря, на песке, на пляже подле виллы. И вчера я снова услышала те же слова.
Она остановилась еще раз, чтобы взглянуть Мандаринше в глаза. Но глаза Мандаринши все еще смотрели вниз.
– Нет! Не сердитесь на меня!.. Вы видите, я не виновата. Ведь я сделала это не нарочно. Я просто не могла поступить иначе, я была не в силах. И потом, вспомните, Мандаринша, вы сами когда-то сказали мне это, что мне следовало бы жить очень скромно и цивилизоваться понемногу, дожидаясь того дня, когда он вернется ко мне, ну вот, ведь я сделала все, что вы мне сказали: я жила очень скромно. Старалась не быть такой дикой. И ждала того дня, когда он вернется ко мне. Он вернулся, как вы мне сказали. Отчего же вы сердитесь? Вы не должны сердиться. Мандаринша, прошу вас, не сердитесь. Посмотрите на меня. Покажите мне ваши глаза. Ведь я не виновата. Вы видите, я не могла, я не могу поступить иначе!..
Она обхватила обеими руками голову своего друга и поворачивала к себе прекрасное лицо с такими строгими чертами, серьезные светлые глаза, которые скрывали теперь лиловатые веки, и точеный рот, красный, как коралл, – сейчас такой молчаливый. И она дважды повторила:
– Я не могу… я не могу…
Тогда Мандаринша медленно произнесла:
– Нет. Вы можете. Вы должны.
И прибавила коротко:
– Я пришла сюда, чтобы разыскать вас и вернуть вас туда.
Теперь говорила Мандаринша, а Селия только слушала, низко опустив голову…
– Я сержусь? Нет… Я больше не сержусь, оттого что я вас поняла. И все-таки вы должны поступить так, как я вам сказала. Вы должны вернуться со мной туда. О, я знаю, что требую от вас немало. Еще совсем недавно, уезжая от вас, я не знала… я еще не отдавала себе отчета… А теперь я знаю. Вам будет очень больно, бедная моя девочка. Но вы должны, должны!.. Вы в него влюблены, но это еще ровно ничего не значит. Я могла бы выложить все, что я хотела сказать вам, чтоб вас убедить, все то, что я придумала по дороге сюда: что бесчестно бросать Рабефа, едва он успел заплатить ваши долги, бесчестно и непорядочно, такие женщины, как вы, так не поступают; что Рабеф вел себя очень хорошо по отношению к вам, что вам не в чем его упрекнуть, что через шесть недель он покидает Францию. И что вы просто обязаны пробыть с ним эти шесть недель!.. Но к чему говорить это? Мне не приходится ничего объяснять вам: вы все знаете сами. Я поняла это. Вы правы, вы не виноваты ни в чем, вы сделали все это не нарочно.
Теперь она в свою очередь протягивала руки к Селии и старалась поднять бедное личико, перекосившееся от горя и уже мокрое от слез.
– Нет, я не стану говорить вам всего этого. Ни к чему; вы все та же Селия, которая была моим другом. И я скажу вам поэтому нечто другое. Слушайте…
Она вздрогнула и быстро обернулась, чтобы взглянуть на фарфоровые часы: часы пробили полночь. И Мандаринша заговорила быстрее:
– Слушайте!.. Любовь… Ну да, – что может быть лучше. И наряды, и виллы, и экипажи, все это тлен и суета по сравнению с ней. И все же, когда вот так возьмешься обеими руками за голову и подумаешь хотя бы пять минут, тогда все проясняется и начинаешь соображать. Любовь, видите ли, даже настоящая, прекрасная, великая любовь, не занимает большого места в жизни. Влюблена была и я; влюблена так же, как вы, всем сердцем, всеми силами, всеми чувствами. И что осталось у меня от этого? Горечь. Такая же горечь, как та, что остается во рту, когда выкуришь трубку! Влюблена!.. Но ведь и вы были уже влюблены, ну и что же, что дало вам это? Только вот что! – И она указала на следы от когтей Жолиетты, еще заметные на щеках Селии. – Да, это! И душевные раны. Ну скажите!.. А тот, другой, первый, которого вы когда-то любили, который причинил вам столько зла. Черт возьми, вы сами же только что говорили про него. Ну вот, этот самый, приятно вам о нем вспоминать?
Две слезы скатились по исцарапанным щекам. Селия ничего не ответила.
Мандаринша грустно закончила:
– Ах, любовь!.. Одни лишь пышные фразы. Ловкие поцелуи, и пресловутый холодок, пробегающий по спине. Ну а тот же Пейрас? Как вы думаете, через скольких женщин он должен был пройти, пока научился так великолепно ласкать, целовать и кстати говорить красивые слова… Что? Я причиняю вам боль? Плачьте, бедняжка, плачьте. А теперь утрите глаза – и едем!
Она не приказывала, она просила. Но Селия еще раз решительно и быстро качнула головой в знак отрицания; тогда Мандаринша пустила в ход последний довод:
– Вы все-таки поедете!.. Не отказывайтесь. Я знаю, что вы поедете, – оттого что я должна сказать вам вот еще что: вы поедете, так как Рабеф вас любит. Да! Он вас любит, любит больше и сильнее, чем вы полагаете. Вы поедете, оттого что вы уже сделали ему достаточно зла, и вы не решитесь причинять ему новые страдания.
– Замолчите! – сказала вдруг Селия.
Быстро, быстро она стала вытирать глаза и напудрила покрасневшее лицо: Бертран Пейрас выходил из коридора, который ведет к умывальникам.
Он остановился, чтобы закурить, – ровно на такое время, чтоб женщины успели закончить свои тайные переговоры. Потом, подойдя к ним, он снова сел на свое место и взглянул на часы:
– Ого! – сказал он. – Знаете ли вы, что уже почти половина первого!
Селия молча склонила голову. Мандаринша встала:
– Прощайте, – сказала она.
Тем не менее она не двигалась с места. Гардемарин тоже встал.
– Не уходите одна! – вежливо попросил он. – Вы возвращаетесь домой, на улицу Курбе? Мы доведем вас до ваших дверей. Мы живем в гостинице Сент-Рок, это рядом… – Он держал ее за рукав.
– Нет! – ответила она. – Я не еду на улицу Курбе. Я возвращусь в Мурильон с последним трамваем.
– Вот как? – удивленно сказал он.
И посмотрел ей прямо в лицо. Она ответила ему таким же взглядом и не опустила глаз.
– Пейрас! – сказала она вдруг. – Я убеждена, что в душе вы вполне порядочный человек.
Он засмеялся и, по своему обыкновению, пошутил:
– В душе? Черт возьми! значит, наружность далеко не столь элегантна?
Она сделала вид, что не слышит.
– Да, вполне порядочный. И поэтому всего проще будет сразу же рассказать вам все.
Селия вскочила со своего стула:
– Мандаринша!
– Молчите! Говорю я, а не вы. Пейрас! заставьте ее замолчать, если хотите, чтоб я могла кончить. Так вот, знаете ли вы, что она, ваша Селия, всю прошлую неделю жила с Рабефом? С доктором Рабефом? Но вы, наверно, не знаете того, что Рабеф взял ее на шесть недель. В мае он отправляется в дальнее плавание, этот Рабеф, – нет, но вы, разумеется, не знаете, что он взял Селию на все это время, и вперед заплатил все ее долги, три тысячи франков долгу, и по счетам, и по распискам, и за взятое в кредит у торговцев, одним словом, за все, за что только можно было заплатить.
Гардемарин насупил брови и больше не улыбался.
– Вот оно что! – спокойно сказал он, когда она остановилась. – Разумеется, я ничего этого не знал. Благодарю вас, дорогой друг, за то, что вы были в этом так уверены.
Он раздумывал. Мандаринша заговорила снова:
– Я только что была там, там, в вилле Шишурль. У них… Он ждал ее, без жалоб и упреков. Я поехала сюда против его воли – он ни за что не хотел отпустить меня сюда.
– Вот как! – сказал еще раз Бертран Пейрас. Селия снова уселась и плакала теперь, закрыв лицо руками.
Фарфоровые часы пробили один удар. Стрелки показывали половину первого. Прошел ровно час с того мгновения, как Мандаринша переступила через порог «Цесарки».
Мандаринша сделала шаг по направлению к двери:
– Прощайте, – повторила она. – Нужно торопиться к последнему трамваю.
Но Бертран Пейрас все еще держал ее за рукав.
– Нет! Уже слишком поздно: последний трамвай отходит как раз сейчас. Я усажу вас в экипаж на театральной площади.
Он смотрел на плачущую Селию; и Мандаринша почувствовала, что и сам он близок к тому, чтобы расплакаться. Он повторил:
– В экипаж, вместе с этой девочкой. И постарайтесь как-нибудь утешить ее во время пути, чтобы она явилась туда с не слишком распухшими глазами, оттого что она должна вернуться туда – этого требует честь, и чтобы я отправился в другое место, в другое место, один, этого тоже требует честь.
Глава восемнадцатая,
в которой ведут философические разговоры при лунном свете
– Так, значит, – сказал Л'Эстисак, – вот уже три недели прошло со дня ее побега, и все это время ваша Селия ведет себя, как примерная девочка?
– Да, – ответил Рабеф, – и такое поведение заслуживает награды. Я уже подумываю об этом.
Они шли вдвоем по темной улице, совсем пустынной и темной.
Тулон спал. Между крышами высоких темных домов виднелись прямоугольные просветы звездного неба. Шаги гулко раздавались на сухой мостовой. И вдоль высоких канав сидели и ужинали водяные крысы, мирно приютившись небольшими группами у каждой мусорной кучи.
Л'Эстисак и Рабеф возвращались пешком с виллы Шишурль, направляясь к военному порту, где оба должны были провести остальную часть ночи; лейтенант нес ночное дежурство – его броненосец чинился в доке, а доктор, чей отпуск окончился накануне, шел в госпиталь, чтобы сменить перед полночью одного из приятелей.
Они шли рядом, прерывая разговоры длинными паузами, оттого что их давняя дружба им позволяла разговаривать только тогда, когда было что сказать друг другу. Зато когда они говорили, то вполне искренне, оттого что они слишком хорошо знали друг друга, чтобы притворяться.
– У вас было сегодня очень мило, – сказал герцог. – Ваша подруга становится хорошей хозяйкой.
– Она старается быть ею, – ответил доктор. – Она скоро заметила, как мы ценим мелочи домашнего уюта. И бедная девочка старается вовсю, чтобы доставить нам всем удовольствие.
– Всем. И вам прежде всего.
– Да, прежде всего мне: это очень забавно, но это действительно так: она чувствует ко мне какую-то нелепую благодарность за то, как я принял ее в тот вечер, когда она возвратилась после побега, о котором вы только что упоминали.
– Нелепую? Почему нелепую?.. Вы были очень добры к ней, старина!..
– Вы поступили бы точно так же, как я. Подумаешь, как трудно! И примите во внимание, что в моем возрасте заслуга не так велика, как была бы в вашем. Мне сорок шесть лет, Л'Эстисак. Вы понимаете, что не мог же я, будучи сорока шести лет, обижаться на девочку – и на такую прелестную девочку, такую добрую и ласковую, – за то, что она предпочла мне на две ночи гардемарина, который еще моложе, чем она сама, и который хорош собой, как херувим.
– Но многие другие очень сердились бы на нее за это.
– Возможно. Я предпочитаю быть самим собой, чем этими «многими другими». Папиросу? У нас ровно столько времени, сколько нужно, чтоб докурить ее до половины, пока мы дойдем до главного входа.
– Пожалуй…
Они остановились и закурили на углу Торговой улицы и переулка Лафайетта. Над их головами легкий ветерок шелестел листьями начинавших уже зеленеть платанов.
– Хорошо бродить в такую ночь, – сказал Л'Эстисак. – Весенняя земля благоухает, как надушенная женщина.
– Да, – сказал врач.
Они пошли дальше. Пройдя несколько шагов, Рабеф задумчиво пробормотал:
– Эти несколько недель, которые мы с вами сейчас провели здесь, наверное будут одним из лучших воспоминаний моей жизни.
– И моей, – как эхо повторил герцог.
Они пересекали старинную площадь в рыбачьем квартале, которая сменила свое старое название площади святого Петра на более звучное – площадь Гамбетты. В конце узкой и короткой улицы в бесконечной стене виднелась огромная дверь – и стена, и дверь принадлежали Военному порту.
Л'Эстисак, обогнав своего спутника, поднял молоток, и тот упал со звуком, напоминавшим выстрел.
– Древняя и торжественная – нет; наша ежедневная и будничная церемония, – сказал Рабеф.
Они стали терпеливо ждать. За дверью послышались медленные шаги. Кто-то не торопясь открыл решетчатое окошко в двери. Показалась голова туземца. Часовые из провансальцев и корсиканцев бывают очень недоверчивы.
И завязался обычный диалог:
– Кто идет?
– Офицеры.
– Корабль?
– «Экмюль».
Заскрипели ржавые петли. Приоткрылась дверца, прорезанная в створке ворот.
За ней, под высоким фронтоном, находилось нечто вроде огромного коридора, который разделял две караульни и выходил на открытый плац, где среди высоких платанов неясно виднелись целые геометрические фигуры из бесконечных зданий, построенных вдоль широких мощеных и рельсовых путей, уходящих в ночь и теряющихся в бесконечной дали. Все это пространство – Тулонский морской порт, занимающий три квадратных лье[35]35
Льe – устаревшая французская мера длины, равная 4,5 км.
[Закрыть] моря и суши, – было пустынно и темно, гораздо более пустынно и гораздо более темно, чем тулонские улицы, с которых только что пришли Рабеф и Л'Эстисак. И теперь, шагая друг подле друга, они так погрузились в эту темноту и в это молчание, что не произнесли ни слова, пока не прошли почти километр.
Наконец, когда они добрались до набережной гавани, окруженной стенами, где стояли огромные разоруженные суда, зловещие, как развалины, их остановил патруль, невидимый в своем прикрытии:
– Стой! Кто идет?..
– Офицеры.
– Пароль?
Они шли друг за другом. Солдат ждал их с ружьем наперевес. Л'Эстисак тихо сказал пароль и заставил его отвести голубую сталь штыка, направленного ему прямо в грудь.
– Фонтенуа.
Солдат снова водрузил ружье на плечо, и оба офицера прошли мимо него. Тонкин серп луны сиял в небе, где чернел воздушный силуэт подъемного крана.
Л'Эстисак снова начал думать вслух:
– Как странно меняется вся жизнь, когда в доме есть женщина.
– Еще бы! – ответил Рабеф с горечью. Герцог взглянул на него.
– О чем вы думаете, старина?
– О себе, – сказал врач. – Это не особенно интересная тема.
Л'Эстисак все смотрел на него:
– Но ведь маленькая Селия вам все-таки нравится?
– Нравится. Но я-то не нравлюсь ей.
Герцог слегка пожал плечами:
– Вы слишком многого требуете от нее, друг мой!.. Что ж – вам, значит, хочется любви? Взаимной любви? Ах, лекарь! Не будем искать философского камня. Вы сами только что сказали, что я моложе вас: а я уже отказался от мысли делать золото. И все же я чаще, чем полагалось бы мне, плакал во время второго акта Тристана. В жизни бывает так мало дуэтов, даже вагнеровских. Нет! Я больше не жду Изольды. Я даже не пытаюсь мечтать под тенистыми дубами сказочного леса; с меня довольно и прозы. Я покорился этому. И благодарил бы Бога, если бы мне было дано, как и вам – без всякой оглядки, – занять мягкое хозяйское кресло на вилле Шишурль и долго отдыхать там, сколько захочется, до самого конца. Рабеф поднял брови:
– Кто же вам мешает?
– Кто? Весь мир и я сам. Разве я свободен? Разве имя, которое я ношу, принадлежит мне? Имя, титул, состояние и все прочее, все, что унаследовал от моего отца, моего деда, моего прадеда и прочих моих предков? Разве зря передали они мне наследство, в ожидании того, что и я передам его моему первенцу? Оно принадлежит мне не больше, чем «Экмюль», когда я стою на вахте от четырех до восьми и передаю его на следующие четыре часа другому офицеру. Нужно держать курс, сохранять скорость, справляться с судовой книгой, нужно подчиняться приказу! А для герцога де ла Маск и Л'Эстисак приказ таков: жениться на равной по рождению и передать потомству неповрежденной и возросшей мощь и силу двух герцогств. Кому нужна эта сила и мощь? Я этого не знаю. Ну так что ж? Она есть сила, которую я должен хранить, она есть гиря, которая лежит на чаше каких-то мировых весов. А если это равновесие будет нарушено по моей вине, что скажет Великий Зодчий герцогу Хюгу, пятому по счету, вашему приятелю и покорному слуге? Лучше не думать об этом. Лучше, как говорят наши друзья азиаты, не нарушать нашу карму. Когда камень брошен в воду, никто не знает, как пойдут от него круги. Ваш камень не так тяжел, Рабеф, и вы можете бросить его, куда захотите. А я все время чувствую свой камень на моей шее.
Они шли теперь по низкой траве, на которой валялись местами куски железа странной формы. Проходя мимо них, Л'Эстисак ударил тростью по ржавому котлу, который в ответ уныло зазвенел.
– Мой камень, – сказал Рабеф, – слишком легок. Легок, как губка! Я его не чувствую. Это хуже, чем все время ощущать его. Вы, старина, жалеете, что вы несвободны. А я жалею, что нахожусь вне закона. Ваш приказ? Я был бы рад иметь такой приказ. Он ведет вас к счастью. Ну что ж – жениться на равной по рожденью, то есть на женщине одного с вами круга, одних взглядов, одной культуры, на женщине, с которой так легко будет сговориться и установить согласие, даже независимо от любви – и иметь от этой женщины детей. Что может быть лучше? Может ли быть более логичная жизнь? Может ли быть более реальное бессмертие, чем передать свою душу существам, родившимся от тебя? Сравните вашу правильную, предустановленную, гармоничную участь с моей: я – мужик и сын мужика, и я случайно выбился из родной колеи. Я оторвался от моего места и не нашел другого, чтобы прилепиться к нему. И вот я обречен на вечное изгнание и вечное странствие, как единственный из моих предков, кого я могу признавать, как Агасфер! Я не могу жениться ни по необходимости, как вы, ни по какой-либо другой причине: женщины, на которых я хотел бы жениться, за меня не пойдут, а те, которые согласились бы, не удовлетворяют меня. И виноваты в этом именно вы, Л'Эстисак, вы и подобные вам товарищи: вы слишком близко подпустили меня к себе. Я стал жить так же, как и вы, оттого что привык видеть, как вы живете. И теперь я ничем почти не отличаюсь от вас. Ну что же? Как мне выйти из этого положения? Жениться на крестьянке, на той, которую выбрала бы для меня моя мать, – это, пожалуй, мне не подходит, не так ли? Жениться на мещанке, которая прельстилась бы моими нашивками, – это подходит мне не больше чем первое: вообразите меня в роли мужа честной провинциалки, которая каждое воскресенье ходит причащаться и берет ванну по субботам. Вы понимаете, это невозможно – все это невозможно. Мне, почти старику, скромному докторишке, Рабефу, мне, почти нищему, – нужна женщина, которая могла бы без малого приходиться сестрой вашей жене, Хюг де Гибр, пятнадцать раз миллионер и дважды герцог!.. Нет, старина, выхода нет. Для меня брак невозможен. Для меня – дальнее плавание, крейсера, блуждающие между островами святой Елены и Пасхи, а в промежутках мечтания о какой-нибудь вилле Шишурль, о какой-нибудь Селии. Не завидуйте мне, старый друг, за такие мечтания.
Они продолжали идти, несколько замедлив шаг. Теперь они проходили какой-то обширный пустырь, на котором была сложена в самом странном беспорядке целая гора рельсов, отражавших лунный свет. Тут же валялись старые остовы вагонов. А под ногами хрустел балластный гравий.
Внезапно в конце пустыря вырос во тьме огромный силуэт «Экмюля», стоявшего в ремонтном бассейне. Броненосец, выкрашенный в светло-голубую краску, смутно вырисовывался на голубоватом тумане горизонта. И чудовищные леса вокруг его корпуса и всех сооружений, над палубами и мостиками, над башнями и пушками, над трубами и кранами, над мачтами и реями, над бранбалками и такелажем, сливались с менее фантастическими сооружениями из небесных туч, которые нагромождал ночной ветер. Это напоминало какой-то волшебный дворец – чудесное обиталище фей, – чьи башни и шпили, казалось, пронзали небосвод и раздирали своими острыми шпилями туманную завесу, за которой прячутся звезды. Рабеф и Л'Эстисак остановились и молча смотрели на все это.
Рабеф протянул руку к чудесной облачной постройке и прошептал так тихо, что Л'Эстисак едва расслышал его:
– Ну что ж? Жить там, даже одному, вечно одному, это не так уж плохо. Не надо жаловаться.
Л'Эстисак нежно положил свою широкую руку ему на плечо:
– Да, старина! Вы сказали мудрую вещь!.. Жениться? Зачем? Разве в этом счастье? Жить вдвоем, не любя друг друга? Или уже не любя? Потому что самый яркий огонь недолго горит в сердце мужчины или женщины, а мы всего только люди… Эрос был милостив, когда после первого же поцелуя упокоил под одним надгробным камнем Ромео и Джульетту. Жить вдвоем, не любя друг друга, жить всю жизнь?.. Лучше жить одному, вечно одному – даже не там, а здесь.
Рабеф в задумчивости сделал еще один шаг:
– Может быть, – устало сказал он. – Может быть! И все же я сажусь каждый вечер «в хозяйское кресло», как вы сказали, на вилле Шишурль, и сижу в нем долго, долго… Не так долго, как мне хотелось.
– Не так долго? Почему?
– Потому что в один прекрасный день эта маленькая девочка, которая меня не любит и не может любить, забудет о той благодарности, с которой, как она вообразила, ей должно ко мне относиться. И в этот самый день…
Л'Эстисак покачал головой:
– Нет, старина! Она лучше, чем вы о ней думаете! Она не забудет.
Рабеф смотрел на землю:
– Она не забудет. Пусть так. Но все-таки, рано или поздно, какой-нибудь Пейрас снова встанет на ее пути. И что тогда удержит ее от желания пойти за ним.
Он замолчал. Неподвижно и все так же опустив глаза, он продолжал смотреть на землю. Л'Эстисак так же молча посмотрел туда же.
– Прощайте! – сказал вдруг Рабеф.
Он схватил руку Л'Эстисака и крепко пожал ее:
– Прощайте, спокойной ночи! Вот вы уже и у себя, а мне нужно торопиться, чтобы поспеть в госпиталь к полуночи. Желаю вам спокойного дежурства, друг; спите, и да не посетят вас дурные сны.
Не говоря ни слова, герцог ответил ему таким же крепким дружеским рукопожатием. И он услышал, как доктор гулко удаляется в темноте своими грузными шагами; он прислушивался к ним долго, пока полная, почти сверхъестественная тишина не воцарилась опять во всем спящем порту и вокруг броненосца, чей туманный силуэт все еще сливался с тучами, которые нагнал ночной ветер.








