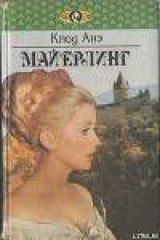
Текст книги "Майерлинг"
Автор книги: Клод Анэ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 11 страниц)
Клод Анэ
Майерлинг
ПРОЛОГ
Просторная, с высоким потолком, обставленная богатой мебелью комната двумя окнами выходила в парк, вплотную подступавший к зданию. Часть комнаты была отгорожена ширмой, едва скрывавшей постель, на которой лежала молодая женщина. Тщательно заплетенные темные волосы, откинутые на подушку, ореолом окружали голову. Лицо, несмотря на искаженные мукой черты, было прекрасно; сдвинутые брови образовывали одну прямую линию. Время от времени из тонких, красивого рисунка губ вырывался стон, а тело, покрытое простыней, напрягалось. Постель окружала группа полных сосредоточенного внимания людей: старик во фраке с орденом на груди, мужчина помоложе, с умным лицом, облаченный в белую блузу, и две сестры милосердия. В те самые мгновения, когда каждая женщина имеет право быть оставлена наедине со своей мукой и стыдом, рядом с этой страдалицей стояло несколько человек. Она принадлежала к той касте людей, ни боль, ни радость которых не могут оставаться в тайне; вот почему двадцатилетняя императрица Австрии Элизабет вынуждена была рожать в присутствии публики.
Возле одного из окон стоял приземистый, кругленький, коротконогий человек – Его Императорское и Королевское Высочество эрцгерцог Ренье. Он вполголоса переговаривался с тайным советником Карлом-Фердинандом, графом Буол Шауэнштейнским. Трое других в военных мундирах молча рассматривали парк и его прямые аллеи, уже схваченные сумерками. Две дамы шептались в углу. Мужчина лет тридцати в темно-зеленом мундире генерала уланов прислонился к камину. Он был среднего роста, худощав, длинноног; лицо обрамляли белокурые бакенбарды, сливавшиеся с густыми усами. Коротко подстриженные волосы поредели на висках, кончик носа был тяжеловат, глаза невыразительны. Как он ни владел собой – а жизнь научила его контролировать и скрывать свои чувства с тех пор, как десять лет назад он стал императором Австрии и королем Венгрии, – сейчас ему не удавалось побороть нервное напряжение, и он ударял пальцами левой руки по ладони правой. Когда звук становился слишком сильным, он спохватывался и, нервно пощипывая усы, быстрым шагом направлялся от камина к окну. Паркет поскрипывал под его сапогами. Наконец этот скрип стал раздражать роженицу, и рукой она сделала мужу знак остановиться. Он тотчас же замер.
– Прошу прощения, дорогая, – прошептал он.
На цыпочках, как застигнутый врасплох ребенок, он вернулся к камину.
Прошел еще час. Наступила ночь, и неловкость, которую испытывали присутствующие, возрастала, становясь почти невыносимой. Не было необходимости вслух выражать то, что каждый понимал и так: он являлся не просто участником дворцового церемониала, а свидетелем одной из самых волнующих человеческих драм. Нарядные одежды и военные мундиры, казалось, наносили оскорбление этому несчастному, корчившемуся в муках женскому телу. Тишину нарушали лишь стоны, которые все чаще доносились с постели роженицы. Императору, по-прежнему стоявшему у камина, было все труднее сдерживаться, и временами слышался скрип его сапог. Невозмутимые слуги в пестрых ливреях внесли канделябры с зажженными свечами. Сверкнули бриллианты на орденах, осветилась позолота деревянных инкрустаций.
Врачи вокруг постели засуетились. Один из них наклонился к молодой женщине, которая корчилась в последних схватках. Прошло несколько мгновений, и еще более громкий стон заставил вздрогнуть свидетелей этой драматической сцены. Император, не вынеся напряжения, едва промолвил умоляюще: «Боже мой» и обхватил голову руками. Снова пронесся вопль, за которым наступила такая тишина, что каждый слышал биение собственного сердца. И вдруг раздался крик новорожденного, такой простой и человеческий, такой свежий, такой, вопреки всему, неожиданный, что глаза присутствующих наполнились слезами.
– Это мальчик! – громко сказал врач.
– Слава Господу! – ответил император, выпрямляясь.
Пока доктора за ширмой занимались роженицей, в соседний салон широко распахнулись двери, и была сообщена радостная весть. Объявили имя наследника. Он был назван Рудольфом в честь основателя тысячелетней «Соколиной"[1]1
Правильней было бы «Ястребиной»: название происходит от одноименного замка, построенного в XI веке в Швейцарии и называвшегося тогда «Habichtsburg», что означает "Ястребиный замок". – Прим. переводчика.
[Закрыть] династии, покинувшей когда-то Швейцарию, чтобы отправиться парить над Австрией. Спустя час, когда новорожденный был окрещен, а свидетельство о рождении составлено по всей форме и помечено 21 августа 1858 года, в замке Лаксенбург оставались лишь врачи и дворцовые слуги.
Императрица попросила принести ей ребенка. Его только что искупали, и кормилица протянула матери младенца, завернутого в нагретые пеленки. Императрица долго смотрела на сына. Он был так хрупок, так тщедушен, что, казалось, был не способен жить. Только что пережитое пришло ей на память. Столько помпезности, столько корысти, столько тщеславия окружало ее – и вот появилось на свет существо, как бы состоящее из одного дыхания. Она чувствовала давящий на него груз тяжелого и трагического наследия. Он принадлежал к той пылкой и слабой породе людей, которым тяжело нести не только бремя власти, но и бремя самой жизни; к той породе меланхоликов, которые не способны противостоять уготованной им судьбе и иногда отгораживаются безумием от окружающего их мира. Что подарила она этому плачущему существу, произведя его на свет? Много позднее на него ляжет тяжкая ответственность. Не раздавит ли она его?
В этот момент послышались шаги императора. Он приблизился и, наклонясь к жене и ребенку, глухо сказал:
– Наш сын великолепен. Это будет счастливый мальчуган.
Но глаза матери наполнились слезами. В страстном порыве она прижала малыша к своему сердцу.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
ПРИНЦ-НАСЛЕДНИК
Тридцать лет спустя по аллеям Пратера, на деревьях которого уже начинали набухать почки, скакал галопом офицер на чистокровном коне. Несмотря на молодость, он носил повседневный мундир генерала драгунов. Достигнув конца аллеи, он перевел коня на мерный шаг. Это был стройный, среднего роста, хорошо сложенный человек с красивыми глазами и длинными усами. Встречавшиеся на пути всадники почтительно его приветствовали. Он вежливо отвечал на поклоны.
Он спешился в том месте, где главная аллея выходила на окруженную домами площадь, которая называется Звезда Пратера. Передав поводья груму, он остался в одиночестве на тротуаре в ожидании фаэтона, который должен был забрать его. Вскоре он заметил повозку на другой стороне площади и пошел навстречу. В тот момент, когда он проходил мимо модного ателье, из него бегом высыпала стайка работниц. Одна из них налетела на молодого человека и чуть было не упала. Он поддержал ее, помог встать на ноги, ласково ей улыбнулся и продолжил путь. Молоденькая работница ошеломленно глядела ему вслед.
Другие начали насмешничать.
– Так вот каким образом ты виснешь на мужчинах!
Работница постарше, проводив взглядом офицера, сказала ей с упреком:
– Тебе не стыдно, Грета? Ведь ты толкнула принца-наследника!
Все девушки оцепенели. Потом стали оглядываться, чтобы получше рассмотреть принца, знаменитого на всю Вену.
Был ли это действительно он? Каким чудом появился среди них? Неподалеку сказочный герой усаживался в фаэтон, и кучер протягивал ему вожжи. Лошади поднялись на дыбы и пустились вскачь. Когда экипаж поравнялся с работницами, застывшими на тротуаре с полуоткрытыми ртами, принц поклонился. Поднялись приветственно руки, молодые лица осветились улыбками.
– Как он красив! Как любезен! – слышалось со всех сторон.
– Вы желали бы исповедоваться, мадам? – С этим вопросом отец Бернсдорф, настоятель иезуитских колледжей Австрии, обратился к высокой полнотелой даме, одетой не слишком элегантно. Перед ним была не кто иная, как Ее Императорское и Королевское Высочество принцесса Стефания, жена наследного принца.
Она находилась в кабинете отца Бернсдорфа, в иезуитском монастыре на улице Бернардинс. Скромная комната со стенами, покрашенными белой краской, с полом из красного кирпича. Деревянный стол, два покрытых репсом кресла, два соломенных стула, скамеечка для молитвы – вот и все убранство кабинета.
На вопрос иезуита принцесса ответила с некоторым замешательством:
– Нет, отец мой, я пришла просто побеседовать с вами.
Она села в кресло и показала отцу иезуиту на другое. Их разделял стол.
Похоже, принцесса собралась затронуть щекотливый вопрос, поскольку она некоторое время колебалась, не решаясь заговорить. Видя это, ее собеседник пришел ей на помощь и принялся расспрашивать о принце-наследнике. Здоров ли он?
– Он не щадит себя, – сказала принцесса. – Как он это выдерживает? Вы ведь знаете, отец мой, сколько страсти он вносит во все – в работу, охоту, верховую езду. И так каждый день…
– Его здоровье дорого нам всем, – сказал иезуит. – Но не могли бы вы оказать на него доброе влияние и добиться, чтобы он больше отдыхал?
Лицо принцессы напряглось.
– Я никогда его не вижу.
Она внезапно замолчала, будто пожалев, что сказала слишком много. По тону этой короткой фразы иезуит понял все, но не показал виду и заметил:
– Но вечером, однако…
– Вечерами, – сказала принцесса смущенно, – мы обычно выезжаем. Если он везет меня в Оперу или в Бургтеатр, то не остается рядом: идет в фойе, за кулисы. Потом ужинает с друзьями… Меня он почему-то не приглашает.
Глаза принцессы блеснули гневом. Но монах продолжал расспрашивать бесстрастным тоном:
– А затем?
Ответом на этот в лоб заданный вопрос было молчание. Следовало узнать все до конца, и после секундной паузы он спросил:
– Как давно?
Снова тишина, никем не прерываемая. Монах, говоривший до этого с опущенными глазами, поднял их. И увидел перед собой смущенную женщину, которая краснела и избегала его взгляда. Прошла медленная и тягостная минута. Наконец принцесса, опустив голову, прошептала:
– Уже год.
Хотя иезуит владел собой, он не мог сдержать удивления. Уже год длится ссора в семье наследного принца – вещь серьезная, со всевозможными последствиями… Надо подумать об этом в спокойной обстановке, прикинуть… Когда он вновь заговорил, голос его ничем не выдал внутреннего беспокойства.
– Почему вы не сказали мне об этом раньше? – спросил он.
– Но это такой деликатный вопрос, отец мой, – сказала принцесса, не в состоянии преодолеть смущение. – Положение могло измениться в любой день. Между нами, вы понимаете, не произошло ничего такого, что бы могло нас разъединить. Каждый вечер я ждала: быть может, Рудольф зайдет ко мне…
Теплота, прозвучавшая в этих словах, все сказала о чувствах, которые питала принцесса к своему неверному мужу.
– Целый год, – повторял ее собеседник, покачивая головой, – целый год. А сколько лет вашей дочери, дитя мое?
Впервые сегодня он так обратился к ней.
– Ей скоро исполнится пять, отец мой. Иезуит размышлял.
– Я разделяю ваше беспокойство, – промолвил он наконец. – У короны нет наследника… Но пути Господни неисповедимы. В час, который Он выберет, Он возвратит вам вашего мужа. Господь не оставит эту империю, которую Он особо оберегает, тому есть доказательства. Терпение, дитя мое. Вы сумеете вести себя как истинная христианская супруга, не показывать недовольства. – Он проронил эту фразу как бы невзначай. – Будьте великодушны. Так вы поможете Богу. А также надо молиться. Здесь я могу вас поддержать… – Его голос окреп, он как бы черпал уверенность в мысли о той помощи, которую может оказать. – Я отдам распоряжение о девятидневном молитвенном обете во всех наших учебных заведениях, чтобы древний дом Габсбургов украсился молодым наследником…
Однако на принцессу, казалось, не произвела впечатления важность предлагаемой помощи, на что надеялся иезуит. Поблагодарив его тем не менее, она добавила:
– Я хотела бы просить вас, отец мой, повидать принца и поговорить с ним.
Монах в ужасе отшатнулся.
– Это трудно, дитя мое, вопрос столь щепетилен…
– Для вас нет ничего трудного, отец мой, – настаивала принцесса.
– Надо просить аудиенции и указать причину… Я не могу…
– Для вас не составит труда найти повод увидеть принца, – сказала она. – Вы не хуже меня знаете, что ставится на карту.
Иезуит с минуту раздумывал.
– Вы правы, дитя мое, – согласился он. – Я повидаюсь с принцем.
Несколько мгновений спустя принцесса с фрейлиной усаживались в карету.
На челе отца Бернсдорфа, когда он вернулся в свой кабинет, лежала печать озабоченности. „Год, – думал он, – уже целый год! Почему она скрывала это от меня? Кто эта женщина, которая смогла подчинить себе принца? Он еще более слаб, нежели это предполагают. Сколько интриг вокруг него! Сколько гибельных соблазнов! Неужели место уже занято?“ Он пожал плечами: „Я попытаюсь узнать… а там будет видно“.
В тот же день ближе к полудню два человека беседовали в небольшой комнате, смежной с кабинетом директора газеты „Нойес винер тагблатт“. Один из них, господин Шепс, – среднего роста, худой, с короткими и уже седыми волосами, несмотря на далеко не преклонный возраст, с нездоровым цветом лица, – был главным редактором газеты. Единственной мясистой частью его костлявого лица был кончик носа с горбинкой, выдававшей его еврейское происхождение. Будучи известным в Вене журналистом, он достаточно ловко для этого трудного времени руководил либеральным оппозиционным органом, противостоящим консервативному и автократическому правительству графа Тааффе. Его коллеги и хорошо информированные люди из правительственных кругов не переставали удивляться тому, что „Нойес винер тагблатт“ время от времени публиковала достоверные и неожиданные сведения, касавшиеся острых политических вопросов. Но эти публикации подавались в такой умеренной и безобидной форме, что цензура не находила предлога, чтобы обрушить свой гнев и закрыть газету. „В какой преисподней добывает Шепс свою информацию?“ – такой вопрос задавали себе многие. Для тех, кто понимал в этом толк, было над чем поломать голову. Но удовлетворительного ответа не находилось. Вот почему, несмотря на малый тираж газеты, Шепс пользовался авторитетом и влиянием.
В этот день он беседовал со своим единоверцем, стариком Блюмом, директором и собственником газеты „Нойес винер тагблатт“, от которого у него не было секретов. Речь шла об одной из сложных проблем внутренней австро-венгерской политики. Собеседники обсуждали ее со всеми нюансами, с той склонностью к диалектике, которая свойственна их нации. Разговор коснулся и императора. Надежды на благоприятные изменения при его жизни не было никакой.
– Он уже выглядит стариком, – сказал Шепс.
– Ему, однако, только пятьдесят восемь, с десяток лет он еще сможет прожить, – возразил Блюм. – Он не отличается умом и ничего не понимает в тех проблемах, которые нас волнуют, но в ловкости ему не откажешь, и с тем малым багажом, которым он располагает, ему удается проводить чуждую нам линию и добиваться своих целей, обходя возникающие препятствия.
– К тому времени, когда его не станет, – сказал Шепс, – страна будет в таком состоянии, что можно ожидать самого худшего – революции, крови, сепаратистского движения, которое разрушит империю. И когда я думаю о том, кто рядом с ним, о его восхитительном сыне!.. Ах, Блюм, такого наследного принца Австрия никогда не имела и, осмелюсь сказать, она его не заслуживает. У нас был бы наконец современный монарх, способный к восприятию самых передовых, самых плодотворных идей. Какое будущее ожидает Европу! Фридрих III на германском троне, Рудольф на австрийском и венгерском – это был бы конец реакции во всем мире. Даже в России… Какое будущее, но также и… – он понизил голос, – какие опасения! Великое будущее, но связанное с жизнью всего лишь одного человека!.. Меня многое беспокоило. Он несчастлив в семье, его жизнь – постоянный конфликт с женой, ограниченной, обладающей тяжелым характером. Ему необходим покой, повседневная благожелательная поддержка. А вместо этого – бесконечные ссоры, слух о которых просочился и через толстые стены Хофбурга. А в итоге? – Он еще более понизил голос. – Принц ищет забвения в распутстве…
При этих словах Блюм расхохотался и прервал Шепса.
– Ну есть ли от чего, дорогой мой, приходить в ужас? Разве это первый принц-наследник, которому хочется поразвратничать? В годы бурной молодости Генрих V Английский позволял себе в тысячу раз больше, чем Рудольф, что не мешало ему стать великим сувереном. Да они не первые и не последние. Это почти обязательная школа для тех, кто готовится царствовать. Все это доказывает, что наш наследник – нормальный человек и живет соответственно.
– Но может разразиться скандал, – возразил Шепс, которого не убедили эти доводы.
Блюм рассмеялся снова.
– Никто лучше хозяев Хофбурга не умеет тушить скандалы. Они не первоклашки. Пусть наш друг забавляется в свое удовольствие, пока МОЛОД… gaudeamus igitur juvenes dum sumus,[2]2
Итак, будем радоваться, пока молоды (лат.). – Прим. переводчика.
[Закрыть] – пропел старик. – А так как у нас есть возможность быть все время в курсе дел, последим за ним, чтобы кто-нибудь нежелательный не втерся к нему в доверие. Пока он ограничивается тем, что ужинает с молоденькими красотками, опасность невелика. А вот если он попадет под каблук какой-нибудь ловкой женщины, тогда забьем тревогу… Он никогда не беседовал с вами о своей частной жизни?
– Никогда, да я того и не желаю. Это опасная почва, на которую я бы не рискнул ступить.
– Попытайтесь все же узнать при случае. Когда вы рассчитываете его увидеть?
– Завтра он едет в Будапешт, а по возвращении назначит мне встречу… Ах, эти свидания в Хофбурге, с какой радостью, но одновременно с каким страхом я иду на них… Представьте себе, какой страшный шум поднялся бы, если бы меня встретили и узнали. Но принц – ловкий человек, да и я каждый раз принимаю все меры предосторожности. В следующую встречу надену темные очки…
II
ХОФБУРГ
Почему в облике королевских дворцов нередко проглядывает нечто печальное? Быть может, дело в обезличенности и монотонности фасадов, которые надежно скрывают проходящую там жизнь? Или в повторяющейся череде одинаковых окон, считающейся признаком высокого искусства? Или в отсутствии всякой фантазии и малейшей индивидуальности? Кто знает? Хофбург, где воспитывался и жил Рудольф, был, возможно, одним из самых сумрачных королевских дворцов Европы. Все комнаты его выходили в более или менее просторные внутренние дворы без единого деревца, без единого цветка, без зелени. Сюда не проникал ветер, не залетали птицы, и, так как ни одно окно не открывалось и никто не бросал им крошек, даже вездесущие воробьи никогда не оживляли своим писком высокие стены Хофбурга.
Жизнь, которую вели его августейшие обитатели, не могла ни развеселить, ни украсить дворец. Император и императрица занимали два апартамента, выходивших окнами во двор, названный Франценсплацем. Комнаты императора, куда попадали через большую дверь под аркой, ведущей к Михаелерплацу, представляли собой анфиладу схожих салонов, отделанных белыми с золотом деревянными резными панелями в стиле рококо, с тяжелой мебелью, украшенной преимущественно золотой отделкой. В углу каждой комнаты стояла большая фаянсовая печь, от которой исходило умеренное и постоянное тепло. В апартаментах имелись также: салон для адъютантов; два – для посетителей высокого ранга, допущенных к высочайшей аудиенции; личный кабинет императора с двумя окнами, в нем стояли конторка и обычный письменный стол; спальня с узкой медной кроватью; еще один салон с окнами, обращенными на юг, который замыкал это крыло дворца.
Под прямым углом и не совсем на том же уровне располагались апартаменты императрицы. Лестница в четыре ступени соединяла их с комнатами императрицы. Из спальни был проход в салон для приемов, затем в салон придворных дам и столовую, меблировка которых отличалась большим вкусом и изяществом, чем императорские покои. Но все помещения были таких огромных размеров, что ни цветы, ни иные растения, их украшавшие, не могли придать им более интимный и приятный вид. В противоположной стороне дворца находились помещения для больших приемов, покои эрцгерцогов и гостей.
Императору исполнилось пятьдесят восемь лет. Жизнь, наполненная нелегкими обязанностями, преждевременно его состарила. Волосы побелели, а лоб и макушка были совершенно лысыми. Лицо покрылось морщинами, а нос стал казаться еще крупнее. Однако он сохранял легкость движений, имел длинные и худые ноги всадника. Теперь у него появились привычки старого бюрократа: выработался вкус к ежедневной, методичной и регулярной работе, он ни на кого не полагался в делах, которые считал своей прерогативой. Рано ложась спать, он уже на заре погружался в досье, и полуночники, проходившие зимой через Франценсплац, видели, как уже в пять утра освещалось окно в императорских апартаментах. Лампу ставили на письменный стол одной из комнат Франца Иосифа, и дежурный адъютант – который, возможно, только что возвратясь с бала, так и не ложился, – выслушивал, склонясь в поклоне, приказы Его Величества. Летом император принимался за работу – чаще всего он жил в Шенбрунне – с четырех утра. Он тщательнейшим образом изучал документы, которые приносили ему по очереди то адъютант, то начальник какой-либо из служб, внимательно прочитывал каждую страницу и неторопливо ставил свою подпись внизу официальной бумаги. Чаще всего он работал, стоя за конторкой у окна.
В более поздние утренние часы приходили то премьер-министр, то специально вызванный министр или префект полиции и обязательно каждый день высшие офицеры – начальник его военного кабинета и начальник генерального штаба. Будучи прежде всего солдатом, он самым незначительным вещам, касавшимся армии, придавал первостепенное значение. Затем начинались частные аудиенции, как правило, немногочисленные и короткие. Император принимал допущенных к августейшей аудиенции лиц с большой простотой, но без всякой фамильярности, в каких бы отношениях с приглашенными он ни состоял. Это искусство держать людей на расстоянии, не обнаруживая при этом высокомерия и не прибегая к лицедейству, являлось отличительной чертой Франца Иосифа. Он производил впечатление доброго человека, но ни на йоту не отступал от раз и навсегда установленных, разработанных им до мельчайших деталей правил. Глава дома Габсбургов, он руководил своей семьей на диктаторский манер и так же искусно управлял эрцгерцогами, как капрал солдатами. Ему была свойственна такая строгая пунктуальность, что посетители всегда приходили на четверть часа раньше из-за боязни опоздать. Если он собирался на официальную церемонию, накануне в конюшни поступал приказ заранее проделать предполагаемый путь в карете тем же аллюром, что и на императорских лошадях, и замерить время пути.
Точно так же протекали дни и в Шенбрунне, летней императорской резиденции. Император покидал свой дворец только для того, чтобы принять участие в официальных церемониях, на которых он считал нужным присутствовать, в военных маневрах или в охоте и поездках по государствам, входившим в его империю. Иногда в Хофбурге устраивали прием – обед в честь иностранного гостя или бал для местной знати. Все эти празднества проходили, согласно самому строгому придворному этикету, по испанскому образцу: на них приглашались в соответствии с тщательно отработанным порядком старшинства лишь те, кто мог доказать свое высокое происхождение до шестнадцатого колена. Любили рассказывать, даже с некоторым оттенком тщеславия, анекдот о великом русском князе, который, будучи на придворном балу в Будапеште, попросил, чтобы ему представили жену его друга, командующего австро-венгерской армией. Ему вынуждены были сказать, что эта дама, хотя из весьма достойной семьи, не принадлежит по рождению к высшему свету и, несмотря на высокий пост своего мужа, не имеет никакой возможности быть принятой ко двору.
Так проходила жизнь императора, жизнь достаточно монотонная и еще более тягостная из-за лежавшей на его плечах ответственности. Он был единственным повелителем двойной монархии, он один должен был решать наисложнейшие проблемы десяти государств, состоявших из отдельных частиц и кусочков, где происходили яростные столкновения различных национальных и партийных интересов, где личное противостояние противников усугублялось принадлежностью к различным нациям. Для этих народов он был живым связующим звеном империи.
Наследственный инстинкт царствования, врожденный и острый вкус к политической игре компенсировали далеко не блестящие личные свойства этой натуры. Он справлялся со своими тяжелыми и изнуряющими обязанностями с немалой ловкостью, которая иногда вызывала удивление самых одаренных государственных мужей. Но к концу дня он чувствовал себя настолько уставшим, что впадал в прострацию, и ничто больше не доставляло ему удовольствия. Воображением он никогда не отличался. Как только покидал свой кабинет, не находил, чем бы заняться, бродил, скучая, по Хофбургу или отправлялся поскакать верхом в Пратер.
Женился он по любви, довольно романтически, на совсем молоденькой девушке, своей кузине Элизабет, дочери герцога Максимилиана Баварского. Ей было пятнадцать лет, когда он влюбился в нее с первого взгляда. Но из-за неловкости и эгоизма не сумел вызвать ответного чувства. Она обладала той красотой, к которой по редкому, но все же не единичному совпадению, подходит эпитет „царственной“. Восхитительное сложение, гордая осанка, божественная походка, благородного овала лицо, огромные темные глаза, чуть высокий лоб, прямые брови, нечто величественное во взгляде и самые прекрасные на свете волосы – такой она предстала в шестнадцать лет перед ослепленными жителями Вены, подобно Диане, спустившейся на землю. Но она была еще ребенком.
Элизабет происходила из меланхоличного, но в то же время пылкого рода Виттельсбахов. Увлекающаяся искусством, склонная к одиночеству, она скоро почувствовала, что почести официального мира не смогут утолить потребности ее души. Она понемногу отдалилась от Франца Иосифа, который был неспособен ее понять. Можно сказать с уверенностью, что, как только Элизабет стала сама собой, исчезла и сердечная привязанность между супругами. Она служила ему в той же мере, в какой и он зависел от нее, так как понимала повинности ранга, на который он поднял ее, хотя и жалела, что судьба вознесла ее так высоко.
Когда родился Рудольф, она сочла, что выполнила свой долг по отношению к императору и монархии, дав им наследника. Отныне Элизабет все реже появлялась на дворцовых церемониях. Она погибала в ледяной атмосфере Хофбурга. Как могла она выносить его мертвящую скуку, поверхностность, пустячность, условность, которые регламентировали каждый ее жест, каждое ее слово? Императрица мечтала о свободной и прекрасной жизни, о возможности всестороннего развития души и тела, о путешествиях верхом, о чтении „Одиссеи“, о физических упражнениях и общении через книги с великими людьми прошлого и настоящего. Она обладала оригинальным и смелым вкусом. Почти единственная в Германии она увлекалась лирическими стихами и сарказмами Генриха Гейне. Императрица любила природу, небо в облаках, тишину лесов, жалобу ветра, шепот вод, все истинные голоса земли. Но можно ли было услышать их сквозь толстые стены Хофбурга? Излишне крупные уши императора были лучше приспособлены к тому, чтобы внимать чтению доклада.
В Вене, в испанском манеже, который располагался внутри дворца, Элизабет демонстрировала такую высокую школу верховой езды, что ей завидовали самые опытные профессиональные наездницы. Для нее готовили несколько самых прекрасных лошадей из имперских конюшен породы „Изабель“, которые вели происхождение по прямой линии от коней Карла V. Но она предпочитала скакать по полям и лесам в сопровождении одного лишь берейтора. Лучшим временем в году для нее было короткое пребывание в замке Геделле, в лесах северной Венгрии. Минимум официальщины. Ничего не разделяло ее с природой. Ссылаясь на состояние здоровья, которое временами действительно вызывало беспокойство, императрица покидала Австрию, жила на Мадере, на Корфу, на юге Франции, в Англии и Нормандии.
В Хофбурге ей не удавалось избегать императора. Как только у него случался свободный момент в перерыве между двумя аудиенциями, он приходил к ней. Она слышала, как его сапоги скрипят на четырех ступенях лестницы, разделявшей их апартаменты. Он входил, она уже едва выносила его гибкую походку старого офицера. Он начинал говорить, и один его голос, глухой, невыразительный, без всяких модуляций – он следил за тем, чтобы никогда не повышать тона, – уже внушал императрице непреодолимую скуку. Однако она ничем себя не выдавала. Покорно слушала, как муж обсуждает даты тех или иных поездок, рассказывает услышанный анекдот или жалуется на непрекращающиеся хлопоты, которые доставляло ему управление огромной империей, монархией Габсбургов, где соседствовало и враждовало сорок миллионов человек различных наций. Она терпеливо внимала мужу, никогда не показывала своего настроения, проявляла интерес, делилась своими соображениями, если он в таковых нуждался. Когда император покидал ее, она возобновляла прерванное чтение, поэму Генриха Гейне или только что вышедший роман Достоевского, переносилась на набережную Невы или в село Степанчиково к Фоме Фомичу. Эти персонажи были для нее реальнее, чем камергеры в золотых ливреях, которые склонялись, когда она проходила через салоны Хофбурга.
Императрица часто отсутствовала. Даже в Вене она принимала ограниченное участие в каждодневной жизни своего мужа. В общем, он вызывал у нее скуку, но в это же время и жалость. Она видела в нем мученика поневоле, прикованного к тяжелым, неизбывным заботам, всю меру суетности которых она не могла не чувствовать. Вот тогда-то, за несколько лет до того момента, с которого начался этот рассказ, и пришла ей в голову необычная идея. Она решила найти подругу для стареющего императора, нуждавшегося в развлечениях в свободные часы. „Ему нужна молодая женщина, с которой он мог бы расслабиться и забыть о бремени власти, какая-нибудь здоровая и свежая хохотушка“, – говорила она себе.
Но как найти женщину, которая будет знать свое место, не пустится в интриги и не станет орудием заговора? Задача казалась неразрешимой, тем более внутри дворцового круга. Каждый здесь проникнут честолюбием, желанием успеть. Буржуазные круги императрице не были известны. Оставался аристократический мир, всегда благожелательно принимаемый Веной, вхожий во многих случаях в высшее общество. Императрица вспомнила об одной актрисе Бургтеатра, которую ей представили во время благотворительного праздника. О мадам Шратт говорили много хорошего. Она была молода, красива, с живым характером. Императрица пригласила ее к себе и нашла очаровательной. Она устроила так, чтобы та встретилась с императором. Простота, естественность, красота мадам Шратт завоевали сердца обоих супругов.








