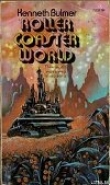Текст книги "Планета Шекспира"
Автор книги: Клиффорд Дональд Саймак
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
У него не было возможности определить, долго ли это продолжалось. Он бессильно висел, охваченный этим, и это поглотило, казалось, не только его самого, но и его чувство времени – словно оно могло орудовать временем на свой лад и для своих целей, и у него промелькнула мысль о том, что если оно на это способно, то перед ним ничто не устоит, так как время – самая неуловимая составляющая Вселенной.
Наконец это кончилось и Хортон с удивлением обнаружил себя скорчившимся на полу, закрывающим голову руками. Он почувствовал, что Никодимус подымает его, ставит на ноги и поддерживает. Разгневанный своей беспомощностью, он оттолкнул руки робота и, шатающимся шагом подойдя к большому каменному столу, отчаянно ухватился за него.
– Опять было плохо, – сказал Никодимус.
Хортон потряс головой, пытаясь прочистить мозги.
– Плохо, – подтвердил он. – Так же плохо, как в тот раз. А тебе?
– Так же, как прежде, – ответил Никодимус. – Слабый психический удар, только и всего. Это сильнее воздействует на биологический мозг.
Как сквозь туман Хортон услыхал патетическую речь Плотоядца.
– Что-то там, наверху, – говорил он, – похоже, интересуется нами.
13
Хортон открыл книгу на титульном листе. У его локтя дымила и оплывала самодельная свеча, смутный и мерцающий свет. Он нагнулся поближе, чтобы можно было читать. Шрифт был незнакомый и слова, казалось, выглядели неправильно.
– Что это? – спросил Никодимус.
– Я думаю, это Шекспир, – ответил Хортон. – Что же еще? Но правописание совершенно иное. Странные сокращения. И некоторые буквы другие. Однако взгляни сюда – это должно означать: «Полное собрание работ У. Шекспира». Вот как я это понимаю. Ты со мной согласен?
– Но здесь нет даты публикации, – сказал Никодимус, заглядывая Хортону через плечо.
– Я бы предположил, издано после нашего времени, – сказал Хортон.
– Язык и правописание изменились с течением времени. Даты нет, но напечатано в – ты можешь прочесть это слово?
Никодимус нагнулся поближе.
– Лондон. Нет, не Лондон. Где-то еще. Я никогда не слышал об этом месте. Может быть, и не на Земле.
– Ну, во всяком случае, мы знаем, что это Шекспир, – сказал Хортон.
– Вот откуда взялось его имя. Он это затеял, как шутку.
Плотоядец проворчал с другой стороны стола:
– Шекспир полон шуток.
Хортон перевернул лист и увидел чистую страницу, заполненную от руки неразборчивым почерком. Писали карандашом. Он нагнулся над страницей, разгадывая написанное. Он видел что оно состояло из того же странного написания и организации слов, которые он нашел на титульном листе. Мучительно складывал он несколько первых строчек, переводя их почти так же, как переводил бы с чужого языка:
Раз вы читаете это, то есть вероятность, что вы могли натолкнуться на это чудовище, Плотоядца. Если вышло именно так, то не верьте ни на мгновение этому несчастному сукину сыну. Я знаю, что он собирается меня убить, но я намерен еще в последний раз над ним посмеяться. Легко смеяться последним тому, кто знает, что он в любом случае близок к смерти. Замедлитель, который у меня был с собой, теперь почти на исходе, а когда его у меня не будет, пагуба начнет въедаться в мой мозг. И я убежден, пока не пришла последняя смертная боль, что смерть от этого слюнявого чудовища будет легче, чем от боли…
– Что там говорится? – спросил Никадимус.
– Я не уверен, – ответил Хортон. – Это дело трудное.
Он отодвинул книгу в сторону.
Он говорил с книгой, – упрямо повторил Плотоядец, – своей волшебной палочкой. Он мне никогда не рассказывал, что он говорит. Вы мне тоже не можете этого сказать?
Хортон покачал головой.
– Вы должны быть в силах это сделать, – настаивал Плотоядец. – Вы точно такой же человек, как он. Что говорит один человек палочковыми знаками, то другой должен понять.
– Все дело во времени, – сказал Хортон. – Мы были в пути по меньшей мере тысячу лет, чтобы сюда попасть. А может быть, куда дольше тысячи лет. За тысячу лет или даже поменьше должно было произойти множество изменений в символах, которые делаются знаковой палочкой. И к тому же его написание символов не из лучших. Он писал дрожащей рукой.
– Не попытаетесь ли вы снова? Чрезмерно любопытно узнать, что говорил Шекспир, в особенности, что он говорил обо мне.
– Я буду пытаться дальше, – уверил его Хортон.
Он снова притянул книгу к себе…
…легче, чем от боли. Он заявляет, что испытывает ко мне величайшую дружбу, и исполняет свою роль так хорошо, что требуются величайшие аналитические усилия чтобы раскрыть его истинное отношение. Чтобы добиться понимания его сути, необходимо вначале узнать, что он такое, и ознакомиться с его природным фоном и побуждениями. Лишь постепенно я пришел к пониманию, что он в действительности то, чем кичится – не просто закоренелый плотоядец, но и хищник. Убивать для него – это не просто образ жизни, это страсть и религия. Не он один, но вся его культура основана на искусстве убивать. Часть за частью я смог, при помощи величайшего познания его сути, приобретенного длительной жизнью рядом с ним, сложить всю историю его жизни и ее фон. Если вы его спросите, он, я полагаю с гордостью скажет вам, что принадлежит к расе воинов. Но это не скажет вам всего. Он и среди своей расы – очень особое создание, по их меркам, возможно, – легендарный герой, или по крайней мере, близкий к тому, чтобы стать легендарным героем. Дело его жизни, как я понимаю, (а я уверен, что я понимаю верно), состоит в том, чтобы путешествовать с планеты на планету и на каждой планете бросать вызов и убивать самые смертоносные из развившихся на ней видов. Подобно легендарным североамериканским индейцам Старой Земли, он ведет счет символическим победам над каждым противником, которого убивает и, как я это понимаю, теперь он достиг успеха, не превзойденного почти никем за всю историю его расы и превыше всего жаждет стать абсолютным чемпионом, величайшим убийцей из всех. Что это ему даст, я не знаю с уверенностью – может быть, бессмертие в расовой памяти, вечное захоронение в пантеоне его племени…
– Ну? – спросил Плотоядец.
– Да?
– Теперь книга говорит с вами. Так и знал. Он называл мое волшебство чертовыми глупостями, и он же им сам занимался. А меня он там не упоминает? Вы уверены, что он не упоминает меня?
– Пока нет. Может быть, немного дальше.
Но на этой отвратительной планете он попался вместе со мной. Он отгорожен, как и я, от других миров, где бы он мог разыскивать, вызывать на битву и уничтожать самые могучие формы жизни, о каких сумеет пронюхать – к вечной славе его расы. Следовательно, я уверен, что мне удалось обнаружить в его психике великого воина растущее постепенно отчаяние, и я с определенностью чувствую, что когда настанет время, и вся надежда на иные миры исчезнет, он включит меня последним пунктом в список своих побед, хотя видит бог, убийство меня сделает ему мало чести, ибо я безнадежно проигрываю ему в силе. Косвенным образом я сделал все что мог, чтобы различными тонкими способами произвести на него впечатление, что окажусь хилым и немощным противником. В моей слабости, я думал, кроется моя единственная надежда. Но теперь я знаю, что я ошибся. Я вижу, как в нем растут безумство и отчаяние. Если это будет продолжаться, я знаю, однажды он меня убъет. В то время, когда безумие услужливо раздует меня до размеров достойного его бойца, он меня получит. Какая выгода ему будет в том, я не знаю. Казалось бы мало смысла убивать, когда другие члены его расы не в состоянии об этом узнать. Но у меня каким-то образом создалось впечатление, не знаю, откуда, что даже в теперешней его ситуации затерянного в звездых просторах, убийство станет известно и отпраздновано его расой. Это далеко за пределами моего понимания, и я оставил даже попытки это понять. Вот он сидит за столом напротив от меня, когда я пишу, и я вижу как он оценивает меня, вполне, конечно, будучи осведомлен, что я – не достойный предмет для его ритуального убиения, но продолжая пытаться вбить в себя веру в противное. Когда-нибуть это ему удастся и это будет тот самый день. Но я побью его одной рукой. У меня есть туз в рукаве. Он не знает, что во мне кроется смерть, которой осталось теперь лишь краткое время, чтобы произойти. Я созрею для смерти раньше, чем он будет готов для убийства. И так как он сентиментальный слюнтяй – все убийцы сентиментальные слюнтяи – я уговорю его убить меня в виде священной службы, для отправления которой я обращусь к нему в величайшей нужде, как к единственному, кто способен выполнить это деяние последнего утешения. Таким образом я исполню две вещи: я воспользуюсь им, чтобы оборвать последнюю агонию, которая, как я знаю, должна наступить, и отниму у него его последнее убийство, так как убийство, сделанное из милости, не считается. Он не сможет справить победу надо мной. Скорее я справлю над ним победу. И когда он милостиво убьет меня, я и дальше буду смеяться ему в лицо. Ибо в смехе – последняя победа. В убийстве – для него, в схеме – для меня. Таковы мерки наших отношений.
Хортон поднял голову и сидел в ошеломленном молчании. Этот человек был безумен, сказал он себе. Безумен холодным, застывшим, морозным безумием, которое куда хуже безумия неистового. Не просто безумием мозга, но безумием души.
– Итак, – предположил Плотоядец, – он меня в конце концов помянул.
– Да. Он написал, что ты сентиментальный слюнтяй.
– Звучит не слишком приятно.
– Это слова величайшей приязни, – уверил его Хортон.
– Вы в этом уверены? – переспросил Плотоядец.
– Вполне уверен, – подтвердил Хортон.
– Так значит, Шекспир действительно меня любил.
– Я уверен, что да, – ответил Хортон.
Он вернулся к книге, перелистывая страницы. «Ричард III». «Комедия ошибок». «Укрощение строптивой ». «Король Иоанн». «Двенадцатая ночь». «Отелло», «Король Лир», «Гамлет». Все они были здесь. И на полях, на частично чистых страницах, где оканчивались пьесы, змеился неразборчивый почерк.
– Он много с ней говорил, – сказал Плотоядец. – Почти каждую ночь. А иногда и в дождливые дни, когда мы не выходили.
Слева на полях во «Все хорошо, что хорошо кончается», на странице 1038, было нацарапано:
Сегодня пруд воняет хуже, чем когда-либо. Он стал зловонным. Не просто дурно пахнущим, но зловонным. Словно что-то живое, исторгающее из себя зло. Словно в глубине его скрыто что-то непристойное…
В «Короле Лире», на правых полях страницы 1043, надпись гласила:
Я нашел изумруды, вымытые из уступа в миле или около того пониже ручья. Просто лежат, и ждут, чтоб их подобрали. Я набил ими карманы. Не знаю, зачем я побеспокоился это сделать. Вот он я – богач, и это ровно ничего не значит…
В «Макбете», страница 1207, на нижних полях:
В домах что-то есть. Что-то, что следует найти. Загадка, на которую следует ответить. Не знаю, что это такое, но я это чувствую…
В «Перикле», на странице I38I, на нижней половине листа, оставшейся чистой, так как текст там подходил к концу:
Все мы затеряны в необъятности вселенной. Потеряв свой дом, мы лишились места, куда можно пойти, или, что еще хуже, теперь у нас слишком много таких мест. Мы затеряны не только в глубинах нашей вселенной, но и в глубинах наших умов. Когда люди оставались на одной планете, они знали, где они. У них был свой аршин, чтобы мерять, и большой палец, чтобы пробовать погоду. Но теперь, даже когда мы думаем, что знаем, где мы, мы все-таки остаемся затерянными; ведь либо нет тропы, ведущей нас к дому, либо же, во многих случаях, у нас нет дома, который стоил бы времени, затраченного на возвращение. Неважно, где может находится дом – люди сегодня, по крайней мере интеллектуально, – лишенные опоры странники. Хотя мы можем называть «домом» какую-либо планету, хотя остались еще немногие, кто может называть своим домом Землю, такой вещи, как дом, в действительности больше нет. Теперь человеческая раса разбросана среди звезд и продолжает по ним распространяться. Мы как раса нетерпимы к прошлому, а многие из нас и к настоящему; у нас только одно направление – в будущее, и оно уводит нас все дальше от концепции дома. Как раса, мы неизлечимые странники и не хотим ничего, что бы нас связывало, ничего, за что мы могли бы зацепиться – до того дня, который должен когда-нибудь прийти к каждому из нас, когда мы осознаем, что мы не так свободны, как думаем, что мы, скорее, затеряны. Только когда мы пытаемся вспомнить при помощи расовой памяти, где мы были и почему мы были именно там – тогда мы осознаем всю меру нашей затеряности.
На одной планете, или даже в одной солнечной системе мы могли на нее ориентироваться, как на психологический центр вселенной. Ибо тогда у нас была шкала ценностей, ценностей, которые, как мы теперь видим, были ограниченными, но по крайней мере ценностей, дававших нам человеческие рамки, в которых мы передвигались и жили. Теперь же эти рамки разбиты вдребезги, а ценности наши столько раз расщеплялись разными мирами, на которые мы натыкались /ибо каждый новый мир давал нам либо новые ценности, либо же устранял некоторые из старых, из тех, за которые мы цеплялись/ что у нас не осталось основы, на которой можно бы было сформировать собственные суждения. У нас теперь нет шкалы, по которой мы могли бы в согласии выстроить наши потери или стремления. Даже бесконечность и верность стали концепциями, различаюцимися во многих важных отношениях. Некогда мы пользовались наукой, чтобы разобраться в месте, где мы живем, придать ему форму и смысл; теперь мы в замешательстве, ибо узнали так много /хотя лишь немногое из того, что нужно узнать/, что уже не можем привести вселенную, как мы знаем ее теперь, к точке зрения человеческой науки. У нас сейчас больше вопросов, чем когда-либо было прежде, и меньше, чем когда-либо, шансов найти ответы. Мы могли быть провинциальны, этого никто не будет отрицать. Но многим из нас, должно быть, уже приходило в головы, что в этой провинциальности мы находили удобство и определенное чувство безопасности. Вся жизнь заключена в окружающей среде, которая куда больше, чем сама жизнь, но имея несколько миллионов лет, любой род жизни в состоянии извлечь из окружающей среды достаточно осведомленности, чтобы сжиться со своим окружением. Но мы, покинув Землю, отвергнув презрительно планету нашего рождения ради более ярких, далеких звезд, непомерно увеличили свое окружение, а этих нескольких миллионов лет у нас нет; в своей спешке мы совсем не оставили себе времени.
Запись кончилась. Хортон закрыл книгу и оттолкнул ее в сторону.
– Ну? – спросил Плотоядец.
– Ничего, – ответил Хортон. – Одни бесконечные заклинания. Я их не понимаю.
14
Хортон лежал у костра, завернувшись в спальный мешок. Никодимус бродил вокруг, собирая дерево для костра, на его темной металлической шкуре плясали красные и голубые отблески языков пламени. Вверху ярко светили незнакомые звезды, а ниже по ручью что-то пронзительно сетовало и рыдало.
Хортон устроился поудобнее, чувствуя подкрадывающийся сон. Он закрыл – не слишком плотно – глаза и принялся ждать.
«Картер Хортон», – сказал Корабль у него в мыслях.
«Да», – откликнулся Хортон.
«Я чувствую разум», – сказал Корабль.
«Плотоядца?» – спросил Никодимус, устраиваясь у огня.
«Нет, не Плотоядца. Плотоядца мы бы узнали, он нам уже встречался. Устройство его разума не исключительно, он не слишком отличается от нашего. А этот отличается. Сильнее нашего и острее, проницательней, и в чем-то очень иной, хотя смутный и неопределенный. Словно это разум, пытающийся спрятаться и уйти от внимания.»
«Близко?» – спросил Хортон.
«Близко. Где-то рядом с вами».
«Здесь ничего нет, – возразил Хортон. – Поселение заброшено. Мы за весь день ничего не увидели.»
«Если оно прячется, вы и не должны были его увидеть. Вам нужно оставаться настороже».
«Может быть, пруд, – предположил Хортон. – В пруду может что-то жить. Плотоядец, по-видимому, так и считает. Он считает, что оно поедает мясо, которое он бросает в пруд.»
«Может быть, – согласился Корабль. – Мы, кажется, припоминаем, что Плотоядец говорил, будто пруд не из настоящей воды, а больше похож на суп. Вы не подходили близко к нему?»
«Он воняет, – ответил Хортон. – Близко не подойдешь.»
«Мы не можем точно указать местонахождение этого разума, – сказал Корабль, – не считая того, что он находится где-то в ваших местах. Может быть, прячется. Не слишком далеко. Не рискуйте. Вы взяли оружие?»
«Конечно, взяли», – подтвердил Никодимус.
«Это хорошо, – сказал Корабль. – Будьте настороже».
«Хорошо, – согласился Хортон. – Спокойной ночи, Корабль».
«Еще нет, – не согласился Корабль. – Есть еще одно. Когда вы читали книгу, мы пытались следовать за вами, но разобрали не все из того, что вы прочли. Этот Шекспир – друг Плотоядца, а не древний драматург – что о нем скажете?»
«Он человек, – ответил Хортон. – В этом не может быть никакого сомнения. По крайней мере, череп у него человеческий и почерк его похож на подлинный человеческий почерк. Но в нем сидело безумие. Может быть, его породила болезнь – опухоль мозга, более, чем вероятно. Он писал о „замедлителе“, ингибиторе рака, я полагаю; но по его словам, ингибитор кончался, и он знал, что когда он выйдет совсем, он умрет в страшных болях. Поэтому он и обманул Плотоядца, заставив, того убить его и смеясь над ним в то же время».
«Смеясь?»
«Он все время смеялся над Плотоядцем. И давал ему понять, что он смеется над ним. Плотоядец часто говорил об этом. Это глубоко его задевает и давит на его мысли. Я сначала подумал, что у этого Шекспира был комплекс превосходства, требующий, чтоб он каким-то образом, не подвергая себя опасности, в то же время непрерывно подкармливал свое „это“. Один из способов это делать – начать потихоньку смеяться над другими, вынашивая выдумку о надуманном и иллюзорном превосходстве. Это, говорю, я подумал сначала. Терерь я думаю, что этот человек был безумен. Он подозревал Плотоядца. Он думал, что Плотоядец собирается его убить. Был убежден, что Плотоядец в конце концов прикончит его…»
«А Плотоядец? Что вы думаете?»
«С ним все в порядке, – сказал Хортон. – В нем большого вреда нет».
«Никодимус, а ты что думаешь?»
«Я согласен с Картером. Он не предстовляет для нас угрозы. Я вам собирался сказать – мы нашли залежи изумрудов».
«Мы знаем, – сказал Корабль. – Это взято на заметку. Хотя мы и подозреваем, что из этого ничего не выйдет. Изумрудные залежи нас теперь не касаются. Хотя, раз уж так вышло, может быть и не повредит набрать их ведерко. Неизвестно. Может они где-то, когда-то и пригодятся».
«Мы это сделаем», – пообещал Никодимус.
«А теперь, – сказал Корабль, – спокойной ночи, Картер Хортон. Никодимус, а ты присматривай хорошенько, пока он спит».
«Я так и собирался», – согласился Никодимус.
«Спокойной ночи, Корабль», – сказал Хортон.
15
Никодимус, встряхнул Хортона, разбудил его.
– У нас посетитель.
Хортон выпростался из спального мешка. Ему пришлось протереть заспанные глаза, чтобы поверить тому, что он видит. В шаге-другом от него, рядом с костром стояла женщина. На ней были желтые шорты и белые сапожки, достигавшие середины икр. Больше не было ничего. На одной из обнаженных грудей была вытатуирована роза глубокого красного цвета. Росту она была высокого и вид имела гибкий и стройный. Талию ее стягивал ремень, на коем держался странноватого вида пистолет. На одном плече висел рюкзак.
– Она пришла снизу по тропе, – сказал Никодимус.
Солнце еще не взошло, но уже различался первый свет зари. Утро стояло мягкое, влажное и какое-то тонкое.
– Вы пришли по тропе, – промямлил Хортон, все еще не совсем проснувшийся. – Это значит, вы пришли через тоннель?
Она захлопала руками от удовольствия.
– Как чудесно, – прознесла она.
– Вы так хорошо говорите на старом языке. Как приятно найти вас двоих. Я изучала вашу речь, но до сих пор у меня не было шанса попрактиковаться. Я подозреваю теперь, что произношение, которому нас учили, отчасти было утрачено за эти годы. Я была поражена, а также и обрадована, когда робот заговорил на нем, но я и надеяться не могла, что найду других…
– Странно получается, что она говорит, – сказал Никодимус.
– Плотоядец говорит так же, а он узнал язык Шекспира…
– Шекспир, – произнесла женщина.
– Шекспир ведь был древним…
Никодимус ткнул большим пальцем в череп.
– Можете любить и жаловать, – сказал он. – Шекспир, или то что от него осталось.
Та посмотрела в направлении, указанном его большим пальцем. И снова захлопала в ладоши.
– Как очаровательно по-варварски.
– Да, не так ли? – согласился Хортон.
Лицо у нее было тонкое до костистости, но с печалью аристократизма. Серебристые волосы зачесаны назад и собраны в небольшой узел на затылке. Это еще более подчеркивало костистость лица. Глаза ее были пронзительно-голубого цвета, а губы тонкие, бесцветные и без следа улыбки. Хортон обнаружил, что размышляет – возможна ли у нее вообще улыбка.
– Вы путешествуете в странной компании, – обратилась она к Хортону. Хортон оглянулся. Из дверей показался Плотоядец. Он выглядел, как неприбранная постель. Он потянулся, высоко воздев руки над головой. Он зевнул, и клыки его заблестели во всей их красе.
– Я приготовлю завтрак, – сказал Никодимус.
– Вы голодны, мадам?
– Зверски, – ответила она.
– У нас есть мясо, – сообщил Плотоядец, – хотя и не свежеубитое. Я спешу приветствовать вас в нашем маленьком лагере. Я Плотоядец.
– Но ведь плотоядец – это название, – возразила та.
– Это определение, а не имя.
– Он плотоядец и тем гордится, – сказал Хортон.
– Так он себя называет.
– Шекспир так меня назвал, – сказал Плотоядец. – Я ношу иное имя, но это не важно.
– Меня зовут Элейна, – представилась она, – и я рада встрече с вами.
– Меня зовут Хортон, – сказал Хортон.
– Картер Хортон. Вы можете называть меня любым из этих имен, или обоими сразу.
Он выкарабкался из спального мешка и встал на ноги.
– Плотоядец сказал «мясо», – произнесла Элейна. – Не говорил ли он о живой плоти?
– Именно это он и имел в виду, – подтвердил Хортон.
Плотоядец постучал себе в грудь.
– Мясо – это хорошо, – заявил он. – Оно дает кровь и кость. Наливает мускулы.
Элейна вежливо пожала плечами.
– Мясо – это все, что у вас есть?
– Мы можем организовать еще что-нибудь, – предложил Хортон. – Пищу, которую мы привезли с собой. В основном дегидратированную. Не лучшего вкуса.
– О, черт с ним, – заявила она.
– Я буду есть с вами мясо. Меня удерживал от этого все эти годы всего лишь предрассудок.
Никодимус, ушедший в домик Шекспира, теперь появился наружу. В одной руке он держал нож, а в другой ломоть мяса. Он отрезал большой кусок и протянул его Плотоядцу. Плотоядец уселся на пятки и принялся терзать мясо, по его рылу потекла кровь.
Хортон заметил на лице Элейны выражение ужаса.
– Для себя мы его приготовим, – сказал он. Он прошел к груде дерева для костра и уселся, похлопав по месту возле себя.
– Присоединяйтесь ко мне, – предложил он.
– Кухарить будет Никодимус. Это займет время.
Никодимусу он сказал:
– Приготовь ей получше. Свое я приму хоть недожаренным.
– Я сначала сделаю ей, – согласился Никодимус.
Поколебавшись, она приблизилась к куче дров и уселась рядом с Хортоном.
– Это, – заявила она, – самая странная ситуация, в которую мне приходилось попадать. Человек и его робот разговаривают на старом языке. И плотоядец, который тоже хорошо говорит, и человеческий череп, прибитый над дверью. Вы двое, должно быть, с совсем глухой планеты.
– Нет, – ответил Хортон. – Мы явились прямо с Земли.
– Но этого не может быть, – сказала Элейна.
– Теперь никто не приходит прямо с Земли. И сомневаюсь, что даже там говорят на старом языке.
– Но мы оттуда. Мы покинули Землю в году…
– Никто не покидал Земли уже больше тысячи лет, – сказала она. – У Земли теперь нет базы для дальних путешествий. Послушайте, с какой скоростью вы двигались?
– Почти со скоростью света. С небольшими остановками там и тут.
– А вы? Вы вероятно, спали?
– Конечно. Я был погружен в сон.
– Почти со скоростью света, – повторила она, – невозможно подсчитать. Я знаю, что раньше были способы исчисления, математические формулы, но они в лучшем случае были грубыми приближениями и человеческая раса не путешествовала со скоростью света достаточный промежуток времени, чтобы достигнуть сколько-нибудь истинной оценки эффекта замедления времени. Были отправлены всего несколько кораблей, летевших со скоростью света или чуть менее, и вернулись из них немногие. А прежде, чем они вернулись, появились системы получше для дальних путешествий, и в то же время Старая Земля обрушилась в ужасную экономическую катастрофу, и в военную ситуацию – не в одну всепоглощающую войну, но во много средних и мелких войн – и в процессе этого земная цивилизация оказалась фактически уничтожена. Старая Земля и по сей час на том же месте. Может быть, оставшееся на ней население уже опять выкарабкивается. Никто этого, по-видимому, не знает, да никто по-настоящему и не интересуется; никто никогда не возращался на Старую Землю. Я вижу, вы ничего этого не знаете.
Хортон покачал головой.
– Ничего.
– Это означает, что вы были на одном из ранних световых кораблей.
– Одном из первых, – подтвердил Хортон.
– В 2455. Или около того. Может быть, в начале двадцать шестого столетия. Я как следует не знаю. Нас погрузили в анабиоз, а потом последовала задержка.
– Вас держали в резерве.
– Пожалуй, можно и так назвать.
– Мы не абсолютно уверены, – сказала она, – но мы думаем, что сейчас идет 4784 год. Настоящей уверенности нет. Вся история каким-то образом оказалась изгажена. То есть – человеческая история. Есть масса иных историй помимо истории Земли. Были смутные времена. Была эпоха ухода в космос. Когда-то была разумная причина уходить в космос, никто не в силах был дальше оставаться на Земле. Не требовалось великих аналитических способностей, чтобы понять, что происходит с Землей. Никто не хотел попасться в развал. В течение огромного множества лет велось не слишком-то много записей. Те, которые существуют, могут оказаться ошибочными; а иные затерялись. Как вы можете себе представить, человеческая раса претерпевала кризис за кризисом. А некоторые сохранились, а затем пали по той или иной причине, или не смогли восстановить контакт с другими колониями, так что были сочтены потерянными. Некоторые и до сир пор потеряны – потеряны или погибли. Люди уходят в космос во всех направлениях – большинство из них без каких-либо действительных планов, но надеясь в то же время, что они найдут планету, где бы смогли поселиться. Они уходят не только в пространство, но и во время, а фактор времени никому не ясен. И до сих пор не ясен. При таких условиях легко на столетие-другое продвинуться или столетие-другое потерять. Так что не просите присягать на том, который нынче год. И история. Это еще хуже. У нас нет истории; у нас есть легенда. Часть легенды, вероятно, является историей, но мы не знаем, что история, а что нет.
– А вы пришли сюда по тоннелю?
– Да. Я член команды, занятой картированием тоннелей.
Хортон поглядел на Никодимуса, сгорбившегося у огня и наблюдавшего за готовящимися бифштексами.
– Ты ей сказал? – спросил Хортон.
– У меня не было случая, – ответил Никодимус. – Она не дала мне такой возможности. Она была так возбуждена, узнавши, что я говорю, как она выразилась, на «старом языке».
– Чего он мне не сказал? – осведомилась Элейна.
– Тоннель закрыт. Он не работает.
– Но он ведь привел меня сюда.
– Сюда он вас привел. Но обратно не выведет. Он выведен. Он вышел из строя. Работает только в одном направлении.
– Но это невозможно. Есть ведь панели управления.
– Про панель управления я знаю, – проворчал Никодимус. – Я над ней работал. Пытался починить.
– И как успехи?
– Не особенно хорошо, – признался Никодимус.
– Все мы в ловушке, – заявил Плотоядец, – если только этот чертов тоннель невозможно исправить.
– Может быть, я могу помочь, – сказала Элейна.
– Коли сможете, – сказал Плотоядец, – так призываю вас сделать все, что в ваших силах. Питал я надежду, что, коли тоннель не будет починен, так я смогу соединиться с Хортоном и роботом на корабле, однако теперь надежда эта иссякла и похоже, что так не будет. Этот сон, о котором вы говорили, это усыпление пугает меня. Нет у меня желания быть замороженным.
– Мы об этом уже беспокоились, – признался ему Хортон
– Никодимус разбирается в замораживании. У него есть трансмог техника по анабиозу. Но он знает только, как замораживать людей. С тобой может оказаться совсем другое дело – у тебя другая химия тела.
– Так с этим покончено, – посетовал Плотоядец.
– Итак, тоннель должен быть исправлен.
– А вы не кажетесь слишком обеспокоенной, – обратился Хортон к Элейне.
– О, я, пожалуй, я обеспокоена, – призналась она. – Но люди моего народа не сетуют на судьбу. Мы принимаем жизнь, как она есть. Хорошее и дурное. Мы знаем, что и то и другое неизбежно.
Плотоядец, покончив с едой, поднялся, потирая руками окровавленное рыло.
– Теперь я иду охотиться, – обьявил он. – Принесу свежее мясо.
– Подожди, пока мы поедим, – предложил Хортон. – И я пойду с тобой.
– Лучше не стоит, – возразил Плотоядец. – Вы распугаете дичь.
Он пошел было прочь, затем повернулся.
– Одно вы могли бы сделать, – сказал он. – Вы можете бросить старое мясо в пруд. Но зажмите при этом нос.
– Уж как-нибудь справлюсь, – сказал Хортон.
– Отменно, – заявил Плотоядец и ушел вперевалку, направляясь к востоку по тропе, ведущей к заброшенному поселению.
– Как вы с ним повстречались? – спросила Элейна. – И кто он такой, собственно?
– Он ожидал нас, когда мы приземлились, – ответил Хортон. – Кто он такой, мы не знаем. Он говорит, что попался здесь вместе с Шекспиром…
– Шекспир, судя по его черепу, человек.
– Да, но о нем нам известно немногим больше, чем о Плотоядце. Хотя возможно, мы сможем узнать побольше. У него был томик с полным собранием Шекспира и он исписал по полям всю книгу. Каждый клочок, где только оставалась чистая бумага.
– Вы что-нибудь из этого прочитали?
– Кое-что. Осталось еще много.
– Мясо готово, – сказал Никодимус. – Тарелка только одна и только один столовый набор. Вы не возражаете, Картер, если я отдам его леди?
– Отнюдь не возражаю, – ответил Хортон. – Я и руками управлюсь.
– Ну, так отлично, – сказал Никодимус. – Я отправляюсь к тоннелю.
– Как только я поем, – сказала Элейна, – я спущусь посмотреть, как ты управляешься.
– Хотел бы я, чтоб вы пришли, – заявил робот. – Я там головы от хвоста не отличу.
– Это довольно просто, – сказала Элейна. – Две панели, одна поменьше другой. Та, что меньше, управляет щитом на большой панели, панели управления.
– Там нет двух панелей, – сообщил Никодимус.