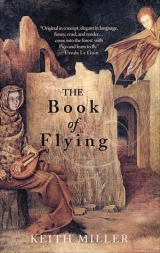
Текст книги "Книга Полетов"
Автор книги: Кит Миллер
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 13 страниц)
Солья поставила локти на стол и уперлась подбородком
в ладони.
– Расскажи мне о Сиси.
– У нее есть крылья, которых нет у меня. Тебе знакома ревность? Боль, что кажется такой сладкой, но ее маленькие лезвия невозможно извлечь. Поцелуй – самый острый кинжал.
– Ты хотел бы никогда не целовать ее?
– Разве моя жизнь стала бы легче? Я просидел бы запертым в библиотеке, всем довольный, вплоть до самой смерти. Но мое сердце так и не забилось бы. Я не хотел бы прожить жизнь, так и не родившись. Теперь я вышел в мир и по дороге узнал, что назад пути нет.
Солья кивнула.
– Ступив на канат, ты должен сойти с него на другой стороне. Назад повернуть нельзя.
Дождь усилился, и в кафе прибавилось посетителей; у порога вода с их зонтов собиралась в лужицы.
Пико подался вперед, чтобы его было лучше слышно сквозь жужжание болтовни с соседних столов.
– Ты идешь по канату. Между Зарко и мной.
Она вздохнула.
– Кажется, всю свою жизнь я буду удерживать равновесие на опасной грани. Без ухищрений и грациозного порхания я ходила бы по надежному полу, и в жизни не осталось бы остроты.
– В городе у моря я представить не мог, что стану желать кого-то, кроме Сиси, но, проделав этот путь, узнал, что в сердце много уголков.
– И что же тогда любовь?
– Любовь – когда пьешь в тепле кофе в дождливый день и вспоминаешь крылья над морем.
– Любовь как протянутый между сердцами канат. Я иду от одного к другому, но счастливее всего на полпути.
– Как-то раз шпагоглотатель перерубил этот канат...
– Мой канат невидим.
– Но нельзя сказать то же про сердца.
– Тише. Так ты разрушишь чары. Ты участвуешь в представлении, не пытайся смотреть сквозь иллюзию, что удерживает меня наверху.
– Прости.
Он опустил глаза в чашку, на мутный осадок кофе, с тяжким предчувствием, как будто ненастье за окном внезапно проникло в его сердце.
С Нарьей – далеко за полночь и задолго до рассвета. В час, когда бодрствуют только кошки и любовники. Держа ее в объятиях, он почувствовал рыдания. Тогда он слизнул слезы.
– Отчего ты плачешь?
Она не ответила, лишь крепче прижалась к нему.
– Отчего, Нарья?
Она отодвинулась и села, спрятав лицо в ладонях. Бриллианты сверкали на кончиках пальцев.
– Пико, – проговорила она своим надтреснутым голосом, – Пико, случалось ли тебе ощутить, что есть и другая стезя, где-то далеко, в неведомых пределах. Почему какие-то мелодии трогают всех нас так сильно? Какие-то цвета? Не камни ли это древнего города, поколениями переходившие из рук в руки, пока не отполировались, как речная галька, не потеряв ни грамма своего веса? Такое чувство, что все мы пытаемся отыскать историю, спрятанную под городом, как сокровище, меж тем как собственные никчемные истории все скроены по шаблону изначальной, который мы уже почти разгадали. Иногда, перед тем как проснуться или заняться любовью, я думаю: «Вот история, я живу ею». А дальше неизменно наваливается мир со своим грохотом и болью. Ты слышишь, Пико? Говоря это, я чувствую себя более голой, чем когда раздвигаю ноги перед незнакомцем.
– Мои любимые стихи тоже будят тоску по той похороненной в душе истории.
– И ты идешь в мифический город, чтобы сберечь ее в целости.
– Я иду в утренний город Паунпуам, чтобы обрести крылья.
– Почему бы не напечатать твои стихи? – спросила Солья как-то ночью после того, как он почитал ей. – У одного из моих клиентов есть печатный станок, он мог бы выпустить брошюру. Спрос наверняка будет, твой голос такой новый и необычный.
– Солья, если нужно написать стихи тебе, я буду рад.
– Но ты смог бы заработать и купить больше книг.
– На еду мне хватает, а у Нарьи хватит книг на целую жизнь. И сама она неиссякаемый источник сочинений. Я не пишу ради Денег.
– Тогда для чего?
– Для чего женщинам дети? Увидеть, как душа расправляет крылья, услышать свой голос, когда тот звучит не внутри тебя.
– Но что плохого в том, чтобы заработать?
– Скажи, Солья, кто я для тебя? Ведь ты не просишь с меня платы за ночи, что мы проводим вместе.
– Еще бы.
– Но почему?
– Это изменило бы природу наших отношений.
– Но не для меня. Я с радостью дам тебе деньги, истории, украшения – все, что пожелаешь, – лишь бы видеть рядом с собой по ночам твое прелестное лицо, чувствовать твои поцелуи.
– Изменило бы для меня. Я не буду уверена, прихожу к тебе, истосковавшись по ласкам или ради новой ленточки в прическу.
– Вот-вот.
– Для тебя стихи как любовная связь.
– Со всеми перепалками и расставаниями, что ей сопутствуют. И всеми поцелуями.
– Поцелуи ничего не значат, – она лукаво покосилась на него.
– Верно. Ничего не значат.
– Пико, ты и вправду понимаешь, о чем я? – она приподнялась, опираясь на локоть.
– Мне кажется, да. Одно и то же слово может оказаться в двух стихах. В одном оно будет печальным и прекрасным, в другом – жалким и бесполезным. Все зависит от порывов сердца там, за рукой, что водит пером. Мой пульс может непонятно как забиться на острие пера, чернила станут моей кровью, перо – открытой веной на странице.
– О, ты понимаешь. Поцелуй – совсем не поцелуй.
– Совсем-совсем не поцелуй.
Так он смог познать их как любовниц, смог познать и ту часть их натуры, которой они зарабатывали на жизнь. То, каковы мы без покровов в постели, часто очень далеко от того, каковы мы днем. Глаза меняют цвет, изменяются движения, мы изъясняемся иначе. Он выучил деликатную азбуку их стонов – рубинов, нанизанных на ожерелье ночи. Языки превращались в пальцы, перебиравшие мысли, и певшие долгие безмолвные дуэты.
Иногда казалось ему, что девушки меняются прямо на нем или под ним.
– Кто ты? – шептал он тогда.
После занятий любовью он громко читал стихи, пытаясь заполнить повисающее молчание. Они жаждали новостей о большом мире, и он рассказывал им истории из леса и из собрания своей библиотеки.
– Зачем вы приходите ко мне? – спрашивал он. – Я не плачу вам. Зачем несете мне свои дары?
Солья целовала его и говорила:
– Ты чужестранец.
А Нарья только улыбалась, трогая ирис на его предплечье. Когда глаза его были закрыты, выражение их лиц отличались.
Однажды утром он проснулся с чувством, что глаза слишком широко открыты. Необычное сияние исходило от стен. Сев в постели, он выглянул в окно – снаружи каждую крышу покрывало сверкающее белое полотно.
Он вышел на балкон, где воздух был до хруста свежим, а холод мятой щекотал ноздри, вернулся, накинул куртку, и вышел обратно. Переулок внизу был точно белый ковер с вихляющимися стежками кошачьих следов. Взяв горсточку снега с перил, он попробовал его на вкус. Вкус замороженных звезд. Потом принес на балкон жаровню, вытряс золу, добавил углей и разжег их, раздув припасенные головешки.
Солья влетела на балкон, когда он наливал кофе. Выхватила сигарету из его губ, жадно втянула дым, словно вдохнула свет. Босая, в одной ночной рубашке.
– Как же чудесно! – воскликнула она, запрыгнув ему на колени. – Помнишь, в первый день, когда ты проснулся в моей комнате, я пела?
– Спой еще.
– Всю ночь шел снег, – голос ее сахаром рассыпался в морозном воздухе. – Он чудным белым покрывалом лег.
Он свернул еще одну сигарету, и они по очереди отхлебывали кофе из кружки. Поджав ноги, она прильнула к его груди, свернувшись клубком, укутанная в его куртку, но скоро начала дрожать, и пришлось отнести ее внутрь.
Снежинки представлялись ему замерзшими словами, что падали, кружась, рассказывая хранимые городом тайны. Накрывая город, снег опускался и на его сердце, на его стремления, незаметно сковывая их. Он вновь начал писать – бледные, невыразительные стихи, как будто влажность этого города в горах разбавила чернила, так что они уже не держались на странице.
Часто он тосковал по лесному уединению, помогавшему положить драгоценные слова на бумагу. Но, раз предав стихи ради удобства, вновь подвергнуться испытанию одиночеством он боялся. Так он и складывал строчки, где не было сердца, отчужденные, написанные урывками между пьянством и прелюбодеянием, которым он не давал оформиться и сразу же зачитывал их своим друзьям в обмен на щедрые похвалы.
Да, искушений в городе в горах было достаточно. Само по себе любое из них, как ни один отдельно взятый человек, не смогло бы удержать его здесь. Но все вместе – кафе в дождь, шкафы книготорговцев, сотни мостов, мелодии уличных музыкантов, кипение кабаков, проблески синего неба, Зарко, Солья и Нарья – создавали непреодолимый соблазн, мешавший уйти. Ни одна из его подруг не смогла бы стать полноценным источником наслаждения, вместе же они удовлетворяли столько желаний, что он почти позабыл об утраченной любви. С Нарьей он рассуждал о словах и тонкостях их применения, Солья пела для него, Зарко же писал картины, превращавшие его в принца поэтов. Сиси сделалась символом, от многократных повторов история их стала пресной. То, чем он жил, послужило пропуском в мир нового окружения.
Нарья видела это. По мере того, как его стихи теряли свежесть, она отдалялась все сильнее. Домогаться ее он не пытался, опасаясь нравоучений и собственной вины.
Стремление отыскать утренний город теперь обратилось в мантру, средство для поддержания веры в самого себя. Путешествие же прервалось. Мысль о расставании с книжными полками, с видом на горные пики с балкона, с утренним кофе и сигаретой, с еженощными любовными усладами, мысль о том, чтобы бросить все это ради скитаний по глухомани навстречу возможной гибели, в погоне за тем, что все больше походило на фантазию, была невыносимой. Он гнал эту мысль, стоило ей возникнуть, и она приходила все реже.
Как знать, сколько бы он пробыл в этом уютном уголке, заливая совесть вином, прижигая табаком, оставайся город в тиши и покое. Но когда персонажи долго соседствуют друг с другом, сюжет сам находит новый поворот.
Затопленное поле за городскими воротами замерзло, и, вооружившись метлами и оловянными подносами, четверо друзей спустились вниз расчищать лед. Под их ногами лед гудел и трещал; когда же они очистили от снега широкое черное пространство, похожее на обширную плиту полированного обсидиана, то поднялись с подносами на холм. Зарко съехал первым, усевшись на поднос и ухватившись за передний загнутый край, как за нос корабля. Его подтолкнули, и сначала медленно, а там все быстрее, с шипением разбрызгивая снежный шлейф, он устремился вниз. На льду он завертелся и с разгону врезался в сугроб на дальнем краю, где остался лежать, дрыгая ногами и громко вопя. Следующей была Солья, за ней – Нарья, последним Пико. Крепко зажмурившись на стремительном спуске, он влетел в руки поджидавшего Зарко, разгоряченный и запыхавшийся. Потом они снова вскарабкались по склону и с еще большим задором пустились вниз на самодельных салазках, разгоняясь все быстрее по уже проложенной колее. И снова, и снова – на животе, на спине, стараясь перещеголять друг друга в необычных позах. Съезжали парами, спина к спине, держась за руки, Зарко попытался скатиться стоя, но не удержался. Наконец попробовали цепочкой все четверо, уже на льду рассыпавшись, как зерна из кувшина, и изнемогая от смеха.
Солья захватила флягу с горячим шоколадом и четыре кружки, и пока кружки наполнялись, оставляя в снегу подтаявшие круги, все расселись на подносы. Из-под накидки Зарко выудил плоскую бутылку, долив каждому рома, и они прихлебывали, разгоняя холод в костях, оставляя поцелуям стужи лицо и руки.
Пико заметил, как Солья раскраснелась, но не только от усилий и возбуждения, – в ее глазах поблескивала искорка, зажечь которую мог только Зарко. Она подливала новые порции, и они пели хором, белый пар от дыхания смешивался с паром из кружек, сладкий голосок Сольи и высокий Пико, хриплый Нарьи и немузыкальный рев Зарко умудрялись сливаться в гармонии, точно у холода было свойство соединять несоразмерные звуки.
Оставив подносы в снегу, они побрели назад через город, с метлами на плечах, как странствующие ведьмы. Пико с На-рьей следом за Сольей и Зарко. В безмолвном белом городе светилось всего несколько окон, и Пико чудилось, что и он – открытое окно, струящее на снег тепло и свет. В самой верхней точке, где их пути расходились, Солья почти шепотом спросила Зарко, не пойти ли к нему, но тот остановился и обернулся.
– Нарья, сегодня ночью ко мне пойдешь ты. Я смотрел и понял, что снег под цвет твоему облику. Я тебя нарисую.
Нарья покачала головой.
– Солья, – произнес Зарко, не отрывая глаз от Нарьи, – скажи ей.
Подойдя, Солья взяла ее руку, повернула ладонью вверх и ласково погладила.
– Нарья, ради меня, – попросила она. – Пойди с ним, пожалуйста. Я заплачу.
Нарья вздрогнула. Вырвав руку, она развернулась и зашагала прочь.
Тут же Солья бросилась перед Зарко на колени.
– Как тебе угодить? – взмолилась она. – Что мне делать, скажи? Что мне делать?
– Убирайся, – рявкнул художник, и она отшатнулась, как от пинка в лицо.
Этой ночью Пико поддерживал ее, как многие месяцы назад она его, и две фигуры, прямая и надломленная, двигались через безмолвный город. В борделе он на руках отнес ее по лестнице, раздел и уложил на засаленный матрас.
– Спи, – шепнул он. – Теперь спи, моя сладкая.
Перед рассветом его разбудил шум на нижних этажах, подобный свисту налетевшей бури или завыванию злого духа; из каждой комнаты через окна были слышны вопли, и он второпях накинул халат и выскочил разузнать, что стряслось. Девушки стояли в дверях своих комнат в слезах, их гости суетились, натягивая штаны и толпой вываливаясь в коридор.
– Что такое? Что такое? – спрашивал Пико, но никто не отвечал. Он поспешил в комнату Сольи, но там было пусто, спустился к Нарье, но дверь была заперта. Так и не поняв причины суматохи, которая тем временем улеглась, он вернулся к себе, зажег свечку и стал читать, однако взбудораженный мозг никак не давал сосредоточиться. Когда стало светать, он сварил кофе. Что же могло вызвать такой переполох? Видно, буйный клиент, рассудил он, – не заплатил либо принялся выколачивать любовь кулаками.
С наступлением утра бордель затих, девушки устроились вздремнуть – тем временем он предвкушал, как оденется и направится есть на завтрак кофе с пирожными, а пока думал, как хорошо сидеть вот так, одному, с чашкой в руке, глядя, как розовеют вершины гор и солнце смывает последние мазки ночи с небосвода. Не считая струек дыма, вьющихся там и тут над крышами, город казался безжизненным.
Внезапно, точно камешек, разбивший хрупкий воздух, из переулка под ним раздался стук. Он перегнулся с балкона взглянуть на чудака, который заявился в такую рань, да еще не сообразил позвонить.
Внизу, укороченные перспективой обзора, но вполне реальные, чтобы заставить сердце замереть, стояли маленький мальчик во фраке с барабаном через плечо и девочка в черной накидке, сжимающая блок-флейту. За ними в конце переулка ожидали цветочницы с корзинами лилий и гвоздик.
Девочка постучалась снова и отступила от двери, которая после паузы отворилась, пропуская девушку в белой сорочке с нашитыми по подолу бубенчиками, с волосами, сверкнувшими ярким огнем.
– Нет, – закричал Пико. – Солья, я иду!
Он метнулся из комнаты, но, уже выбегая на лестницу, услышал мелодию барабана и флейты.
Нарья подвернулась навстречу на площадке между этажами, оба упали, и она обвила его руками и ногами, не давая встать.
– Там же Солья! – взмолился он.
– Да, – произнесла она так спокойно, что он прекратил вырываться и лежал, тяжело дыша.
– Этим утром Солья, – продолжила она, – в другой раз буду я, а там, если пробудешь здесь дольше, и ты.
– И ничего нельзя сделать?
– Ничего.
Лежа на полу, точно вытащенная из воды рыба, он даже сквозь стены, двери и застеленные коврами коридоры этого дома мог слышать музыку барабана и флейты, уходящую все дальше через молчащий город.
Позже они поднялись к нему и с балкона, облокотившись на перила, следили за тлеющим угольком волос, медленно уплывающим от домов вверх по тропинке к темному замку, и, когда тот достиг стен уже едва заметной искоркой, Пико обернулся к Нарье. Голос его дрожал.
– Как их выбирают, тех, кто поднимается к черному дому?
– Одних выбирают, другие выбирают сами. Желающие покинуть город дают знать властям, и маленькие музыканты приходят их проводить.
– И Солья?
– Солья выбрала.
Опустившись на колени, Пико прижался лицом к холодной чугунной решетке и зарыдал. Когда он поднял голову, Нарьи рядом не было и полосатое пространство между городом и замком было расцвечено лишь черным и белым.
Ему было некому выплакаться, а слезы никогда не высыхали, так что и ночью он просыпался с мокрым лицом. Даже Нарья избегала его, пока как-то раз он не стучался к ней так долго, что она отворила и встала в дверях, перегораживая проход.
– Солья, – вымолвил он и увидел, как лицо ее перекосилось от боли. На миг она опустила голову, а когда вновь подняла, глаза были мокрыми.
– Мы не поминаем имен умерших, – сказала она.
– Но как еще общаться с ними?
– Видеть их во сне.
– Разве этого довольно?
Она пожала плечами.
– Только не для меня. Мне этого мало.
Но дверь захлопнулась, лязгнул засов, и сколько он ни молотил кулаками, больше не открылась.
Зарко впал в исступление: подвывая, он цеплял краски руками и швырял на холст, терся о полотно, так что грудь и руки покрывались фрагментами нарисованных лиц. Дважды Пико заходил в его мастерскую, где видел пьяного безумца с налившимися кровью глазами. Открыв поэту дверь, он, похоже, не узнавал посетителя и спешил вернуться к своему занятию. Первый раз Пико посидел немного и ушел, так и не проронив ни слова. На другой раз попытался заговорить, но стоило упомянуть имя Сольи, как художник всем телом протаранил полотно и стал биться об стену, свалившись без чувств, прежде чем Пико успел вмешаться.
Итак, он взял кувшин, служивший копилкой, и отправился в заведение Гойры, где и высыпал на стол свое богатство.
– Я хочу заплатить тебе за ужин на троих. Самые лучшие блюда. Этих монет довольно?
Почесав под мышкой, она растянула в ухмылке рот, показав желтые, как старые кости, зубы, сгребла монеты обратно и вернула кувшин.
– Твоих денег не хватит и на миску супа.
В отчаянии он закрыл лицо руками.
– Я готов отработать, сколько бы это ни стоило.
– Закрой рот, – сказала она. – Ресторан твой в любой назначенный вечер. А еду приготовлю такую, ради которой впору отказаться от секса.
– Гойра, ты чудо! – наклонившись, он поцеловал ее в замаранную табаком щеку.
Пир начался в сумерках. Шел снег. Накануне каждый гость получил приглашение, где на синей карточке золотыми чернилами было выведено: «От всей души приглашаем на банкет б изысканном ресторане Гойры, завтра, как стемнеет».
Пико явился первым, практически следом пришли Нарья и Зарко, так что все трое с минуту простояли в крошечном вестибюле, отряхивая снег с ботинок и шляп. Забрав пальто, Пико провел гостей в ресторан, к его удивлению оказавшийся пустым. В очаге у дальней стены полыхали яблоневые поленья, а немного в стороне, но достаточно близко, чтобы доходило тепло очага, был накрыт стол на троих с зажженными канделябрами.
Они расселись. Перед каждым были сервированы серебряные приборы и белые фарфоровые тарелки с тонким синим ободком. Два высоких бокала для вина и более приземистый для бренди. Два меню, тоже золотом на синем, были приставлены к букетику фиалок в центре стола.
ТУШЕНАЯ СПАРЖА В ЛИМОННОМ СОУСЕ С МАСЛОМ
ЛУКОВЫЙ СУП
ЖАРЕНАЯ УТКА, ФАРШИРОВАННАЯ КОЛБАСНЫМ ФАРШЕМ С КАШТАНАМИ
ЗЕЛЕНАЯ ФАСОЛЬ, ПЮРЕ ИЗ ПОМИДОРОВ, ЯБЛОЧНЫЙ СОУС
МИНДАЛЬНЫЙ КРЕМ СО СВЕЖЕЙ КЛУБНИКОЙ
Поначалу друзья чувствовали некоторую неловкость и сосредоточились на еде. А уж еда того стоила. Спаржу подали на специальных тарелках, разложенную зеленым веером, и отдельно соус в маленьких мисочках. Гойра наполнила их бокалы полусладким вином, заранее охлажденным на подоконнике. Они обмакивали зеленые стрелы в соус, избегая смотреть друг другу в глаза, глядя вместо этого на огонь или снежинки, кружащие за синими стеклами окон.
Следом принесли луковый суп, темный и пряный, с хлебными тостами в расплавленном сыре. По-прежнему тишину нарушали лишь звяканье ложек, причмокивание и негромкие вздохи удовольствия.
Когда Гойра собрала суповые тарелки, Пико поднялся наполнить бокалы, затем поставил бутылку на стол и откашлялся:
– Уже полгода я с вами в этом городе в горах, городе дождя и снега, городе книгочеев и кофеен. Явившись сюда как пришелец, я отдал вам мои стихи и поцелуи, передал мои страхи и мои желания. Все мы так или иначе пришельцы, но я явился уж очень издалека, и мне сложнее было узнать каждого из вас, и потому, возможно, вдвойне приятно. Мы ценим то, что тяжело достается. Я так много узнал от вас – об искусстве слов, искусстве любви. О том, как рисовать, позировать и обчищать карманы. Я узнал, какой силой обладают тайны.
Даже если вы считаете меня наивным, я узнал больше, чем вам может показаться. Я знаю о запрете поминать имена умерших или черный замок, но для этого случая решился поступить иначе. И молю, разделите со мной этот вечер, ведь я позвал вас на пиршество в честь той, что была частью нашей компании и ушла. Мы остались без голоса, без составной части общего тела, и нам больше не быть такими, как прежде. Я произнесу ее имя. Солья. Солья ушла неторной тропой к черному дому в снегах и не вернется. Но с нами память о ней. Мы можем вспомнить ее смех, ее рассказы и как она любила поесть. Чаше принято восхвалять ум, но с уходом Сольи я понял, как много почерпнул знаний о теле, о том, для чего даны рот и желудок. Мы не должны повторять ее имя, так давайте хотя бы поедим в память о ней.
Заплакав, Пико сел и отпил глоток вина. На лицах других участников застолья во время его речи сменялись разные чувства: страх, стыд, гнев, облегчение. Теперь они сидели молча. Нарья, как и он, тихонько плакала в салфетку. Тишину нарушила Гойра, протиснувшаяся сквозь крутящиеся двери с громадным шипящим подносом, где красовалась жареная утка цвета полированного красного дерева, украшенная дольками яблока и веточками петрушки. Прибаутки, с которыми она разрезала птицу, были лучшим средством рассеять потрясение от речи Пико. В горшочках она подала гостям фасоль, картофельное пюре и яблочный соус, сдобренный корицей. Принесла бутылку красного вина, загодя оставленную открытой на полке, и осторожно, чтобы не взболтать осадок, наполнила бокалы до половины. Затем удалилась на кухню, откуда послышалось дребезжание посуды и немелодичное мурлыканье.
Настал черед восхищения сочной уткой с приправленной специями начинкой, что и вправду была великолепной, с хрустящей корочкой, прожаренная в середине до нежно-розового оттенка, исходящая соком. Изумрудно-зеленая фасоль лопалась от спелости, картошка была масленой и перченой. Вино оказалось неописуемо вкусным, просто прекрасная поэма для нёба и языка.
Понемногу под действием вина они перешли к воспоминаниям о Солье, о песнях, что она пела, о ее ярких платьях, ее искрометном веселье и о ее умении слушать всем своим существом. Обсуждали, как она обратила собственную хромоту в танец, извлекая чувственность из увечья.
Вспомнили и ее обильнейшие завтраки. Ее самозабвенное чревоугодие. Подкрепленные подобными воспоминаниями и замечательным вином, они вмиг смели утку, фасоль, яблочный соус и картошку. Когда Гойра забирала поднос, там осталась лишь горсть обглоданных костей.
После миндального крема и кофе в маленьких чашках, когда все откинулись на стульях, решив, что трапеза окончена, она извлекла из буфета бутылку бренди – более древнее, по ее словам, чем сам город. Бренди из начала времен, последовательно выдержанный в давно уже рассыпавшихся бочках из разных винных погребов, который поджидал только подобного сборища
– Ты серьезно собираешься потратить его на нас? – спросил Пико, и она рассмеялась:
– На кого же еще мне его тратить? Пейте ваш бренди, Пико.
Избыток пива на голодный желудок оборачивается хриплыми шутками, отвратительным пением и рвотой. Но следствием безупречного вина, выпитого неспешно с превосходной едой и отполированного великолепным бренди, становятся удивительные беседы. Глубоко за полночь, когда дрова уже превратились в угли, а снег все шел, они разговаривали о тайнах, о необыкновенной силе, которая высвобождается от их разоблачения и могущество которой несоизмеримо с их собственными крошечными значениями.
Пико приблизил руки к горящей в канделябре свече, спрятав мерцание между ладоней.
– Солья была как пламя свечи, – сказал он.
– А я – как пожиратель огня, не способный выдохнуть, – угрюмо пробормотал Зарко.
– Она несла свет в себе, – откликнулась Нарья, – но не дарила всем без разбору.
– Ах, Солья, – продолжал Пико, – вот уж кто знал силу тайны. При поцелуе казалось, что она забирает тайну с твоего языка и дарит другую в ответ.
Повисла тишина. Потом Зарко медленно встал:
– Что ты сказал?
Слегка захмелевший Пико улыбнулся ему.
– Ее поцелуи, сказал я, были сродни тайне. Тайному знаку слияния губ.
– Ты целовал ее? Целовал Солью?
– Да, Зарко, я ее целовал. Мы были любовниками. Ведь ты, Зарко, бросил прекрасную плясунью из-за ее увечья. Она мертва, она мертва – так пусть эта тайна откроется, завьется по узким улочкам и снимет наши оковы. Да, я ее целовал. Садись, Зарко, садись.
Но художник больше не сел. Он поднял руку, наставив на Пико палец, как холодное слово, проступившее в мерцании свечей.
– На рассвете, – произнес он. – На северном пустыре. Оружие приготовит Нарья.
В последовавшей за этим гробовой тишине его каблуки простучали по мощеному полу, потом зашелестела наброшенная на плечи накидка и хлопнула дверь, а через мгновенье повеяло ледяным дыханием морозной ночи.
Остаток ночи походил на сон. Поначалу Пико не мог сообразить, что его ожидает. Только когда Нарья стала описывать правила дуэли, он понял, что канат Сольи лопнул уже без нее, и теперь он падает, не зная, что ждет внизу, булыжники или хризантемы.
Рассвет был ясным, с трескучим морозом. Горстка ворон по дуге взмыли ввысь и упали, как брошенные камни, и после этого в городе все застыло, кроме маленькой группы на огромном заснеженном мосту. Первым шел Зарко, широкими шагами отхватывая большие куски дороги, следом Нарья с футляром под мышкой. Пико брел последним, колеблясь и медля, как будто стряхивая снег с лодыжки статуи или подбирая увядший лист он мог предотвратить то, что должно было случиться. Они вышли из города, оставив горы слева, и прошли небольшой рощицей к пустырю, служившему ареной для многих эпизодов из прочитанных им здесь книг. Это был вытоптанный овал в окружении черных стволов деревьев, их ветви расщепляли небо, удерживая ночные тени. На дальнем конце прогалины выступали под снегом надгробия, а в центре, как алтарь, стоял доходящий до колен черный гранитный столб. Никто не нарушал тишину, когда они подошли к этому знаку. Положив коробку, Нарья стала скручивать сигарету, Пико и Зарко смотрели, как она разминает табак, загибает бумагу, облизывает край и сворачивает потуже. Протянув сигарету Зарко, она свернула новые для себя и Пико, и все прикурили от одной спички. Пико отошел к деревьям и стоял, уставившись на них, будто надеясь разглядеть там нечто более осязаемое, чем тени.
Нарья докурила, опустилась на колени и открыла футляр. Под крышкой с обтрепанной сатиновой подкладкой рядышком, как дремлющие хищные птицы, пристроились два короткоствольных пистолета. Рукоятки их были отделаны розовым Деревом с сеткой из серебряной проволоки, стволы густо смазаны маслом и радужно переливались. Она подошла к Пико, тот выбрал пистолет, неумело взяв его в обе руки. Зарко пренебрежительно взял оставшийся, извлек пулю и проверил механизм. Дунул в ствол, вложил пулю назад, и крутанул пистолет на указательном пальце, так что рукоятка со шлепком легла в ладонь.
Оставив Пико и Зарко у столба, Нарья отошла, чтобы произнести заключительные слова.
– Я скомандую, и по моему счету каждый из вас сделает десять шагов, после чего в любой момент можно стрелять. Оба согласны с правилами?
Стоящие спиной к спине дуэлянты не шелохнулись.
– Тогда начнем. Один. Два. Три.
Хриплый голос ронял слова в воздух, где они на мгновение повисали, как оседающий пепел.
– Четыре. Пять. Шесть.
Сердце гулко ухало, кровь ревела у Пико в ушах, но с тем, как подходил к концу отсчет, все улеглось. Странная легкость внезапно охватила его, он точно парил над снегом, наблюдая далеко внизу медленно расходящиеся фигуры – единственное, что двигалось в застывшем мире. Паузы между цифрами, казалось, растягивались в вечность.
– Семь. Восемь. Девять. Десять.
Когда он начал оборачиваться к Зарко, конечности налились свинцом. Художник, во время отсчета державший пистолет дулом кверху возле уха, вытянул руку перед собой. Пико тряхнул головой, как человек, старающийся сконцентрироваться, нашел глазами пистолет и стал поднимать руку.
Выстрел был странно тихим, как хруст сломанной ветки, щелчок пальцами или негромкий кашель. Пико испугался, что сам нажал курок, но тут же увидел клубок дыма, расплывающийся над пистолетом Зарко. Только ствол его был повернут в другую сторону. Ошеломленный Пико увидел плеснувший на снег позади Зарко кровавый фонтан, а следом как подрубленное дерево свалилось безжизненное тело.
Пико сделалось дурно. Упав на колени, он схватил горсть снега и стал растирать лицо, словно шок от холода мог перебить бурю в сердце. Он уткнулся лбом в землю, сжался в комок, только бы не видеть это небо, где кружили вспугнутые птицы, и очнулся, когда Нарья стала трясти его за плечо.
В сменившем наряд городе они сидели в кафе вдвоем, и Пико казалось, что, кроме пальцев, держащих чашку горячего кофе, все тело его заледенело. Он крепко сжимал чашку, как утопающий сжимает обломок дерева, в надежде что его вынесет к берегу.
Они просидели очень долго; кафе наполнялось людьми, пустело и наполнялось снова; приплывшие из-за гор облака стали посыпать улицы снегом. Они пили кофе. Курили. И молчали.
Истощенные до предела, они заснули в постели Пико в объятиях друг друга, а снег все шел. Проснувшись среди ночи, он увидел, что сугроб на балконе вырос до половины двери, потом заснул снова, и ему снилось, что снег заполнил комнату и он спит под снежным покрывалом, а чей-то голос напевает невнятные слова.
Вновь проснувшись, он увидел Нарью, сидящую в его куртке на стуле у окна; через расчищенный пятачок на замерзшем стекле она смотрела на снег, толстым ковром лежащий на каждой крыше. Крупные хлопья продолжали валить с неба. Когда он сел на постели, она обернулась, посмотрела, достала из кармана его куртки кисет с табаком, стопку папиросной бумаги и свернула ему сигарету.
– Тело давно уже замело, – сказала она.








