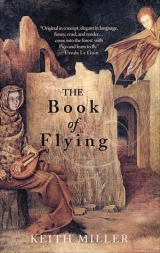
Текст книги "Книга Полетов"
Автор книги: Кит Миллер
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 13 страниц)
– И что же теперь?
– Ты первый, кто выбрался из башни. Могу ли поинтересоваться, как тебе это удалось?
Пико показал отмычку.
– Я был когда-то вором.
– Так ты и биться умеешь?
– Никогда не приходилось, хотя я обучался этому у женщины, обожавшей сражаться.
– Так как же нам быть? – безымянный властитель смерил Пико равнодушным взглядом.
Пико посмотрел на него, пытаясь проникнуть под безучастную маску.
– Отчего ты больше не высекаешь в камне? – спросил он.
– А! Лед. Прекрасный материал, вобравший внутреннюю и внешнюю суть напряжения и гармонии. За время одинокой жизни я пристрастился к недолговечному. И больше не хочу творить на века. Наедине со своими воспоминаниями я пришел к заключению, что красота не может быть запечатлена, она скоротечна, как снежинка. Сколько снежинок я повидал? Сколько запомнил? Я помню единственную, первую снежинку первого снегопада давно минувшей зимы, что упала на щеку моей любимой, мгновенье горела точно звезда и стала слезой, которую смахнули. Мир полон таких снежинок, врезавшихся в память. Если знать, как смотреть, и в самых темных уголках можно увидеть искры, отблески давних поступков. Потому я выбрал лед в надежде, что созданные формы как-то высвободятся в атмосферу, когда солнце растопит их.
– Я гадал, – сказал Пико, – где блуждают стихи, которые не попали на кончик моего пера. Ночью слова наводняют мой сон, и я просыпаюсь со стихами, что слетают с моего языка, жужжат в утреннем воздухе, как шмели, и я кидаюсь за ними, многие упускаю, некоторые калечу. Куда улетают непойманные стихи? Дозревать в далеких колосьях, попутно опыляя новые всходы? Или ты прав, и они остаются в воздухе, где их может поймать кто-то другой? Быть может, мои стихи – слова, висевшие на ветвях ветра, на которые я наткнулся случайно. Быть может, они передаются от одних другим, чтобы каждый мог отведать мед, если не побоится жал, – и Пико прочитал владыке черного замка:
Солнце опускается за деревья,
В сумерках тонет день,
Пока небо считает бусинки птиц.
Эти скалы обрушились,
С небес струится река,
Что когда-то была ледниками,
Несет прошлогодние листья
И тени ворон.
Река падает в лес,
Листья кружатся, слетают на землю,
И земля опускается в звезды.
– Много веков назад я сидел у реки, – сказал скульптор. – Мне нравился ее голос, быстротечный и неизменный.
– Почему ты боишься смерти?
– Ты разве не боишься?
– В этом путешествии я увлекся тайнами. Шагами во тьму, устрашающую и прекрасную. Как раз этому учила меня воровка – взламывать замки и чтить тайны. Как ты сможешь знать, что любишь, если в конце жизни не будет вот такой полуоткрытой двери?
– Я чувствую голод, я сплю, я творю.
– Но любишь ли ты?
– Я съел свою любовь.
– Ты не любил ее. Только оглянувшись в прошлое, когда круг замкнулся, ты можешь предположить, каково было бы любить ее.
– Кто ты такой, чтобы говорить мне, древнему, что я чувствую? – Но хотя в голосе скульптора слышался гнев, черты лица его не исказились.
– Я влюблен, – улыбнулся Пико. – И чувствую присутствие любви в других, как и ее отсутствие.
Скульптор потупился.
– На что это похоже? – прошептал он.
– Пробыть влюбленным час, – ответил Пико, – стоит ста лет, прожитых без любви. Убей меня сейчас, и моя любовь поселится в этом доме, станет ворковать, как голуби на карнизах, пищать, как летучие мыши на стропилах.
– Но мне страшно.
– Ты прозябаешь здесь один, когда всего в часе пути торговцы раскладывают на бульваре свои лотки, жарят пирожки с бобами, сыплют в бумажные кульки клубнику, варят какао и кофе. Смех, детский гам, ссоры, поцелуи. Книжные полки с томами стихов. У тебя впереди годы любви, годы.
– И в конце ничто.
– Смерть. Да. Но единственный поцелуй того стоит.
– Единственный поцелуй, – скульптор резко поднялся, и Пико заметил легкий румянец на его щеках и то, как в глазах разошлись искры, точно птица в клетке робко расправила подрезанные крылья.
Взявшись за руки, они двинулись через залы, окуная стиснутые кулаки в завитки тепла над каждым светильником.
Потом с той же дрожью, что у Пико, когда тот входил в громадную дверь, скульптор наклонился отомкнуть замок. Он распахнул дверь в ночь, прозрачную, как вода, яркую от выпавшего снега, с городом, сверкающим внизу. Он раскинул руки, но тут же испуганно прижал их к груди и, обернувшись к Пико, пролепетал:
– Я не могу туда спуститься. Я позабыл свое имя. И не могу выйти к людям безымянным.
Пико рассмеялся.
– Бери мое, – предложил он. – Тебя зовут Пико, – и на прощанье легонько подтолкнул в спину, подбодряя сделать первый шаг, первый за тысячу лет, несущий городу в горах избавление от ужасного гнета.
Один в замке в окружении горящих светильников он вдруг ощутил зверский голод. Собственное красочное описание яств у торговцев на бульваре почти привело его в исступление, но повернуть назад он не мог. А в здешнем ледяном запустении была только одна еда. Он проковылял в судомойню за обеденным залом, где все сияло чистотой, на гвоздях висели сковороды всевозможных размеров, а у одной из стен стояла чугунная печь. Зашел в ледник, куда через вентиляцию поступал морозный воздух. Здесь и обнаружилось расчлененное тело Сольи, свисающее с нескольких крюков. При виде того, что совсем недавно он знал теплым и гибким, Пико упал на колени и с рыданиями прижался щекой к холодной стене. Но голод, как известно, всегда сильнее запрета. Вдобавок это тело и раньше возбуждало его аппетит. Не он ли кусал и лизал ее плоть, языком собирая соки. Он даже кровь ее попробовал. Его зубы уже прокусывали ее кожу. С дрожью он выбрал округлую часть бедра, которую, бывало, любил приласкать, снял с железного зубца и отнес на кухню.
Как будто снова оказавшись в заведении Гойры, он внимательно следил за мясом, которое подрумянивалось в духовке, наполняя кухню волшебным ароматом жареного жира. Когда проколотое вилкой мясо дало прозрачный сок, он отнес жаркое на стол, чувствуя, что захлебывается слюной. Один короткий миг он колебался, прежде чем поднести к губам первый кусочек, а там наслаждение едой заставило позабыть всякое отвращение. Она была восхитительна.
Поев, он слонялся по залам, пока не набрел на спальню скульптора с кроватью под темным балдахином на четырех столбиках и бесполезной рапирой в ножнах, свисающей с флерона. Он забрался под покрывало из собольего меха и заснул.
Утро давно наступило, когда он проснулся и сходил в башню за рюкзаком. Поскольку в западной стене замка двери не было, он вылез через окно на крышу и сидел на заснеженной черепице, разглядывая местность, что лежала перед ним. Он увидел, что замок расположен на вершине перевала. Справа и слева торчали непроходимые ледяные пики. Но между ними склон был не столь крутым, острые грани льда и скал смягчались разбросанными там и сям снежными впадинами. Дальше скалистые кряжи становились более пологими, сменяясь сглаженными очертаниями холмов. А за холмами виднелась похожая на небо лазурная бездна, в которой мог скрываться любой пейзаж.
Высота всегда его пьянила, и потому он жил в куполе и на чердаке, но сейчас он оседлал мир. На этой вершине мира его окружало больше пространства, чем он когда-либо мог вообразить. Город в горах, с его смыкающимися стенами, нескончаемым дождем и туманом, скованный давним ужасом, окружил его череп серебряной клеткой, завязал глаза шелковым шарфом. Теперь его чувства излились в окружающий простор, который жадно их впитал, и он ощутил, что способен заполнить собой это пространство, что в нем довольно задора и голос его сможет взлететь к самому небосводу. Скульптор назвал человеческий дух в числе немногих сил, покоряющих камень, и, сидя здесь, на верхушке земной оси, он думал, что его духу также подвластны и небо, и звезды. Довольно долго переживал он этот восторг, глядя, как бледные снежные реки соскальзывали по крыше и с мягким шорохом срывались вниз, и наконец решил, что пора отправиться следом Он стал осторожно сползать по черепице. На краю он уперся ногой в водосток, заглянул вниз и возблагодарил создателя, что не соскользнул, ибо внизу, как акульи зубы, поджидали острые скалы. Он прополз вдоль водостока, пока не оказался над сугробом, куда отправился его рюкзак и беззвучно исчез из виду. Потом осторожно перевалился через край, повис на водостоке, раскачался и разжал руки, молясь, чтобы под гладкой поверхностью не скрывался черный зубец.
Приземление напомнило удар подушкой. По уши покрытый снежной пылью, он отряхнулся, точно собака, рассмеялся, затем побарахтался и выудил рюкзак из пробитой им норы. После этого оглянулся на замок, отсюда еще более внушительный, без единого окна, выходящего на восточную сторону. Пути назад не было – такими гладкими были стены и окружавшие его отвесные утесы. Обернувшись к зимнему пейзажу перед собой, он начал прокладывать путь вниз по склону.
К полудню он с облегчением оставил снежный простор за спиной, и его уставшие от блеска глаза теперь могли отдохнуть, а ближе к вечеру стали попадаться первые кусты и чахлые деревья. В поисках места для ночлега он вспугнул куропатку, устроившую гнездо в укрытии между двух камней. В кладке были четыре покрытых пятнышками яйца, и он забрал три, оставив последнее ей высиживать. Удалившись на приличное расстояние, он разбил лагерь, набрал валежника и развел костер, потом сварил яйца, экономно отлив воды из своей фляги.
Хотя и в городе ему случалось есть на воздухе, он основательно подзабыл удовольствие от собственноручно добытой и приготовленной еды. Яйцо, которое он вкушал этим вечером под писк кружащих над головой маленьких птиц, с темнеющей впереди неведомой страной, легко могло соперничать с роскошным ужином в любом кафе города в горах.
Лучи заката пронизывали воздух, создавая иллюзию, что он сидит внутри кристалла дымчатого топаза или куска отшлифованного янтаря. Ни одной живой души не видел он с тех пор, как покинул замок, – ни тропинки, ни следа, ни столбика дыма. В лесу, хотя он нередко бывал один, всегда можно было ожидать, что вот за теми деревьями окажется дверь в чей-нибудь домик, или тропинка, или встречный путник. Здесь его одиночество было незыблемым, и оттого на душе становилось удивительно мирно. Стали рождаться слова, и он сидел у чахлого костерка, наклонив тетрадку к огню, единственному источнику света в этой безбрежной ночи, кроме звезд в вышине – быть может, костров на привалах других путников в их странствиях там, наверху, также записывающих в тетрадки собственные звездные фантазии. Взглянув вверх, он поприветствовал их, реальных или вымышленных, и снова склонился к странице. Воспоминания должны войти в кровь, перемолоться на мельнице сердца, отшлифоваться, едва ли не забыться или репьями прицепиться к другим историям, прежде чем излиться в фиолетовых узорах, с очертаниями крошечных костей и червячков, облаков и просветов между листьями. В куполе библиотеки он запечатлевал свои сны. В лесу писал о море и крыльях. Здесь, на каменистом склоне, он наспех черкал о тенях, шорохах и мелколесье.
Глава 8
ДОЛИНЫ СТРАНЫ СМЕРТИ
Три дня Пико перебирался через волны холмов – они становились все ниже, а растительность на них все скудней, и вот очередной вечер застал его на склоне, полого спускавшемся к чему-то, похожему на не имеющую границ львиную шкуру, или нехоженый пляж, или темно-желтое море. Несколько деревьев маячили на равнине перед ним в жиденькой тени. Далеко впереди, как останки ископаемых китов, поднимались гладкие дюны, цвет которых напомнил ему косу Сиси. Он сел, сбросил рюкзак и устремил взгляд к горизонту. У него не осталось еды. И удастся ли найти воду? Точно сама страна смерти раскинулась перед ним. Долго сидел он, потрясенный безбрежностью пустынных пространств.
Для начала нужна была вода, и он побрел на юг вдоль границы пустыни, пока не наткнулся на небольшой ручеек, что перепрыгивал с камня на камень, а потом разливался в небольшом чашеобразном углублении с каймой из зеленого мха, прежде чем устремиться дальше в пески. Он снял одежду и погрузился в прохладу, лежа на спине так, что над водой оставалось лишь лицо, наблюдая парящих в синеве ястребов. Ночь он провел у кромки пустыни, а утром наполнил флягу и спустился на пересохшую землю за тонкой полоской зелени.
Около часа он шел вдоль ручья, пока тот не окончился маленьким болотом с кустами акации по краю, где удалось убить утку. Он ощипал и выпотрошил птицу и зажарил ее на обед. Уже стояла жара. Обливаясь потом, он прилег под кустом, проснувшись под гудящей пеленой мух. Пройдя выше по течению, он пил, пока в животе не забулькало, затем долил флягу, поправил поклажу и направился мимо болота в лежащие впереди пустые земли.
Лес – тайна, а пустыня – истина. Жизнь, обглоданная до кости. Пейзаж заострился, всякая мягкость была давным-давно съедена, так что глаз мог отдохнуть только на изгибах дюн, мареве на горизонте и собственной тени. В одной песчинке – вся сущность пустыни. Неизменная, несокрушимая, недвусмысленная. В одной песчинке. Как кусочек души, выдубленный до сердцевины ветром и солнцем.
Он миновал последние акации и зашагал среди дюн, двигаясь в противоположном от солнца направлении. Но хоть ему и казалось, что он перемещается быстрее, чем белый глаз наверху, тот достиг своей цели раньше, поскольку на закате горизонт оставался все таким же далеким и пустым. Ничтожно маленький в этой безбрежности, он и с наступлением ночи продолжал идти, и единственными звуками были его собственное прерывистое дыхание и шарканье подошв по песку. Поднялась луна, как бледная лодка в пересохшем русле реки, и когда она оказалась прямо над его головой, он остановился, отпил несколько глотков воды и заснул в песчаном углублении.
Проснулся он продрогшим и разбитым Луна переваливала за горы, волоча за собой звездный шлейф. На востоке горизонт начинал розоветь. Он промочил горло и направился к этому пятну в темноте. Как же быстро испарялась ночная прохлада. Солнце не преодолело и четверти небосвода, а от раскаленного песка накатывали волны жара, и он тащился, прищурившись, закрываясь рукой от слепящего блеска. Он был в океане огня, на ужасных полях чистого света.
Он оглянулся назад на проделанный путь, где горы уже превратились в полоску изорванной синей бумаги, а предгорья выглядели размытой акварелью. Больше он не оглядывался.
Каждая дюна была как утес. Шаги его вызывали лавины, башмаки были полны песка. Ноги точно вязли в болоте, а впереди каждый раз поднималась новая дюна, которую изменчивая форма не делала менее непреодолимой.
Но он не оставался равнодушным к красоте. Ветер, трудясь над такой податливой средой, достиг совершенства. Дюны как морщинистые веки, как старые бивни, как рассыпанные дольки мускатной дыни или манго, их склоны как зубчатые сети или рыбья чешуя, и не было двух одинаковой формы. В пустыне нет монотонности. На ее мольберте смешано бесконечное разнообразие оттенков.
Тени съеживались, по мере того как солнце приближалось к зениту, его собственная тень превратилась в комочек, корчащийся под ногами, словно от нестерпимого жжения. Ему встретились торчащие из песка кости, ребра как длинные клыки, устремленные в небо. Мгновение он тупо таращился на них. Потом достал одеяло и растянул его, как на каркасе, устроив самодельный навес, под который тут же заполз. Спасительная тень. Он попил, чувствуя, как костный мозг мгновенно впитывает воду, и стоило большого усилия, чтобы удержаться и не вылить всю флягу в спекшийся рот. Встряхнув емкость, где булькнула его единственная защита от льющегося сверху зноя, он с гримасой убрал ее назад в рюкзак.
Проснулся он с головной болью. Стало прохладнее. Из своего укрытия он переполз в тень дюны, за гребнем которой уже скрылось солнце, сложил одеяло и вновь продолжил путь. Благословением спустилась ночь, а он все шел, как заводная кукла, расходуя каждую клеточку мозга, чтобы двигать конечностями, пока ноги не подкосились и он снова не впал в забытье.
На другой день дюны сменились каменистыми россыпями. Идти стало легче, только приходилось следить, чтобы не подвернуть ногу. В полдень он сложил из камней несколько пирамид, послуживших опорами под одеяло, а когда тени удлинились, отправился дальше. Впервые он узнал вкус смерти. Она была как камень. Смерть поджидала его в этой пустыне, словно попутчик, с которым еще предстоит встретиться. В стране смерти нет воды, там могут жить лишь те, кто пьет свет и ест камни, но в мире нет никого, кто может пить свет, и никого, кто может есть камни. Подобные мысли он загонял назад в голову кулаками, кричал на них хриплым голосом, подобным шороху песка. Он не сдавался.
К закату того же дня он добрался до колодца из сложенных кругом камней на песке с единственной пальмой по соседству. Бадьи не было, и он достал из своей поклажи жестяной чайник, привязал к проволочной ручке кусок бечевки и, опустив, услышал слабый всплеск, который прозвучал в его ушах голосом любимой. Это был самый восхитительный напиток из всех, что он пробовал, – невесомый, как воздух, крепкий, как ром. Он выпил еще, заел несколькими финиками с дерева, расстелил одеяло рядом с источником и заснул.
В глухую полночь он проснулся под серпом луны, и на краю колодца увидел сидящую женщину, прекрасную и печальную, в изодранной, некогда белой, накидке, босую, с волосами, лохмами спадающими на плечи.
– Господин, – попросила она, – будьте милосердны и достаньте для меня немного воды. Я давно в пути и хочу пить.
– Конечно, – ответил поэт и наполнил свою самодельную бадью, откуда она попила, не отрывая от него взгляда. Напившись, она вернула чайник и разрыдалась.
– О, прекрасная госпожа, не плачьте, – сказал Пико. – Поведайте, что вас печалит.
– Простите, – пробормотала она и пальцами смахнула слезы. – Вы первый, кто за долгое время был ко мне добр, – обернувшись к нему, она похлопала по камню, и он присел подле нее.
– Господин, – проговорила она, – мы не представились друг другу как подобает. Меня зовут Айя, – рукопожатие было прохладным, как вода из источника.
– А я Пико.
– И как вы оказались у этого колодца посреди пустыни, куда почти не забредают путники?
Тогда он рассказал свою историю о любви к Сиси, о жажде обрести крылья, о письме, что толкнуло его в поход, о препятствиях и о помощи, с которыми столкнулся, об утреннем городе, куда пробирался. Во время рассказа она вздыхала, видимо по привычке. Худая, с огромными глазами в черных кругах, она показалась ему неимоверно истощенной, как будто пережила невиданные испытания и до сих пор не вполне оправилась.
– Ах, – произнесла она, когда он закончил, – эти превратности любви, все мы бродяги в темных дебрях сердца.
– Значит, и вы влюблены? – спросил Пико, заранее зная ответ.
– О да, я влюблена, я люблю, – она провела ладонями по щекам и сжала руки на груди.
– Расскажите свою историю.
– Слушайте, – начала она, – Далеко на юге в конце пустыни лежит город цветов, там и я росла самым тщеславным созданием на свете. Прекрасной назвали вы меня, но я просто уродина в сравнении с тем, какой я была ребенком или девицей. Белая, как молоко, кожа, глаза ясные, как бывают у агнцев, цвет их, можете убедиться, точно вечернее небо. Губы мои прелестные, как медовые лепестки роз, пышные, точно бархат. Мои груди, о, про них некогда шла молва, мягкие, как переспелые груши, с сосками цвета зрелой сливы. Еще ребенком, пройдя, я так воспламеняла мужчин, что к утру их простыни были в пятнах от распутной несдержанности. При встрече они ахали, позабыв про клянущих их жен, и кусали запястья, чтобы не закричать. Живописцы отдавали последние деньги за возможность рисовать меня одетой, поэты и музыканты сутками просиживали под моим окном, надеясь приметить через щель в занавесках хоть кусочек тела и мечтая, что их нота или фраза когда-нибудь удостоятся моего снисхождения.
Красота в моем городе почитается превыше всего. На каждом окне там цветы, цветы вдоль каждой улицы. Дома раскрашены синим, желтым, зеленым и розовым, и даже крыши покрыты узором из разноцветной черепицы. В окна вставлены витражные стекла. Кругом подстриженные кусты самых фантастических форм. В крошечных клетках из расщепленного и позолоченного бамбука держат поющих сверчков, которых кормят нугой и на базарах просят за них баснословную цену.
В городе, где все выставлялось напоказ, мои родители были счастливы произвести на свет столь восхитительное создание. Кто-то предпочел бы для такого ребенка уединение, заперев его на чердаке с книгами, чтобы привести внутреннее содержание в соответствие с роскошной наружностью, но меня поселили в комнате с зеркальными стенами, и раболепные портные были приглашены для шитья подобающих туалетов: платьев из тафты, платьев из кисеи. Цирюльники сражались за право уложить мои волосы. Сотни раз на дню я выслушивала дифирамбы моей красоте и не могла в них усомниться, ибо зеркала говорили мне то же самое и столь же искренне. Я любила стоять перед стеклянными стенами своей комнаты, в одежде или без, ведь созерцание красоты всячески поощрялось.
Когда я оказалась на выданье, в городе разразилась эпидемия разводов – мужчины бросали своих жен в надежде увлечь меня. Но хоть я заигрывала с каждым, от застенчивых юношей до подагрических старцев, никому не позволялось прикасаться ко мне. Так, точно яйцо в скорлупе своего совершенства, я сделалась объектом поклонения, идолом извращенного культа.
Но участь красавиц мучительна, ведь когда красота увядает, кожа сморщивается, а груди устремляют глаза к земле, мы уже мертвы, а те, неприглядные в юности, кто постигал науки или предавался страстям, обретают опору в старости. И оттого что у нас нет достойного объекта для сравнения, мы вечно в погоне за ним. В зеркальной комнате мое сердце заменила коробочка из посеребренного стекла, что скрытно отражает сама себя.
Итак, среди моих поклонников был юный цветовод, отличавшийся в моих глазах разве что редким уродством. Он был тощим, как вешалка, позвонки проступали на шее как костяшки на кулаке. Нос что осадное орудие, здоровенный и тупой, эдакая дубина, рот на боку, глаза выпученные, как у богомола. Походка косолапая, как будто ноги норовят поздороваться друг с другом, голова болтается на тощем стебельке, лишь глаза смотрели необычайно пытливо, словно некое другое существо на время позаимствовало его тело и глядит изнутри.
Он толкал раскрашенную тележку с полосатым навесом по улицам, трезвоня в маленький колокольчик, и хозяйки открывали двери, окликая его, чтобы выбрать десяток роз или пучок лилий в горшки на каминной полке. По улицам расхаживало немало цветоводов, но этот паренек умудрялся доставлять живые цветы не в сезон, равно как и самые редкие на заказ, и дела его шли успешно. Жил он на окраине города со своим дядей, когда-то главным городским садовником, а теперь нищим пьяницей, таскающим у парня деньги на стаканчик виски. Племянник, впрочем, унаследовал любовь к садоводству и выращивал цветы по всему дому. Нередко у него случались недоразумения с властями, поскольку клумбы не содержались в должном порядке. Сад его был хаосом, вакханалией цвета, и травам позволялось расти по соседству с цветами для продажи. Часто по вечерам его можно было видеть за работой среди растений с ножницами и тяпкой. О нем злословили как о безумце, но цветы, самые лучшие и свежие, извиняли все его чудачества.
Ежедневно после обеда я прогуливалась по улицам под зонтом от солнца со свитой из девушек, прятавших ревность под глупыми ухмылками. Мужчины обыкновенно держатся от соперников подальше или вступают с ними в поединок, тогда как женщины льнут к прекрасным подругам, втихомолку точа ножи для досужих сплетен. И вот в одну из наших прогулок нескладный цветочник перегородил нам путь своей тележкой и не трогался с места, пока я не заговорила с ним.
– Так что тебе нужно? – воскликнула я в раздражении, ибо моим прогулкам по городу то и дело мешали приставания мужчин и честь требовала давать им отпор, хотя втайне они и были для меня смыслом этих прогулок.
Краснея и запинаясь, боясь поднять на меня глаза, он попросил позволения убирать цветами мою комнату. Он станет приносить цветы бесплатно, единственно из желания украсить мое жилище.
Надо заметить, что помимо собственного лица лишь цветы были предметом моего восхищения – с их неясными органами размножения, всегда безупречными, делающими любовь такой осязаемой. Мне не нужно было покупать их, в вазе всегда стояли букеты от поклонников. Слабость моя была общеизвестна. Предложение уродливого цветовода очень мне польстило, ведь он был признанным мастером составления букетов, но я сказала только, чтобы он обратился к моим родителям, и так толкнула тележку по улице, что он помчался следом, шлепая подошвами, будто вспорхнувшими голубями.
Тем же вечером он явился с охапкой цветов, и я наблюдала, как склонившись над вазой, он колдует над необычайно утонченной, асимметричной, но идеально выверенной композицией, подсовывая сухие угловатые ветки терновника к орхидеям и желтым нарциссам, нигде не переусердствовав в сочетаниях, но позволяя каждому лепестку заявить о себе. Он был художник, целиком ушедший в работу, по полсотни раз менявший положение ветки, прежде чем удовлетвориться результатом.
Впоследствии он создавал композиции еще более дерзкие, из полевых цветов или сухой рогозы. Или травы. Мы никогда не всматриваемся в траву, хотя видим ее повсюду. Если не ворошить ее, а позволить распустить стебли, она выставит напоказ крошечные султанчики и цветы, миниатюрные и чудесные, никем прежде не замеченные. Нам часто подменяют красоту шумихой и ярким клеймом, не давая видеть прекрасное в том, что вокруг нас.
У меня вошло в обычай подавать ему чай с печеньем, каждый раз придумывая что-нибудь особенное, и мы беседовали о разных вещах, чаще всего о нашем общем увлечении. Первое время я насмехалась над его знаниями, ведь поддеть его не составляло труда. Он никогда не отвечал, но безропотно выслушивал и продолжал с того же места, где его прервали.
Он знал название каждого цветка, когда его сажать и как за ним ухаживать. О цветах он говорил как говорят о друзьях, посвящал меня в искусство аранжировки, превознося умение наслаждаться природой, стремясь опровергнуть бытующее мнение о принципах композиции. Постепенно я перестала смеяться над ним и погрузилась в его мир, в течение его мыслей. Он плакал, рассказывая о пренебрежении к полевым цветам.
– Никто не видит их, – всхлипывал он. – Они сироты, изгои, выброшенные на пустыри и в канавы. Разве цветок можно меньше любить, если его название позабыто?
Как-то вечером он отвел меня к себе домой, в сад из трав, и упросил, чтобы я всмотрелась в эти дебри. И хоть издалека двор выглядел так же беспорядочно, как лесная поляна, встав на колени среди стеблей, я увидела, что все тщательно выстроено по его странным представлениям – не рядами или кругами и не по номерам, но в ритмах его сердца, электрических токов, что маленькими молниями ветвятся в наших черепах.
Но теперь я стала мишенью для оскорблений. Родители и друзья, заметив, сколько времени я провожу с садовником, кричали, что я влюбилась в траву, что стала безнравственной и что все мои излияния о красоте – чепуха, если уж я опозорила себя дружбой с таким уродом.
И я оттолкнула его. Вместе с друзьями я смеялась над его птичьей сутулостью и носом, как осадный таран, на улице награждала его обидными прозвищами, а проходя мимо его тележки, выдергивала цветы, швыряла их на мостовую и топтала ногами. Конечно, после такого обращения он перестал заглядывать ко мне по вечерам, хотя по-прежнему привозил к дому тележку, держась в стороне от поклонников, и смотрел в мое окно. Тогда я задувала свечи, чтобы незаметно выглянуть из-за шторы, и слезы капали в жасминовый чай, ведь только после расставания я поняла, что люблю. Только когда вынудила его уйти. Снова и снова вспоминала я наши разговоры, освобождавшие меня из плена зеркал. При нем мне не нужно было прихорашиваться или позировать, ведь я не считала его достойным внимания, и так он сумел провести мою гордость.
Что нам дорого, то прекрасно. Прочие называли его травой, но были травой сами, стремясь к одному и тому же и становясь одинаково безликими. Он стоял как единственный нарцисс на подстриженном газоне, источая красоту, как вулкан извергает лаву. Если бы я только могла произнести это тогда, как делаю сейчас. Моя собственная спесь заперла перед ним дверь, оставив меня внутри, а ключ потерялся.
В отчаянии ломала я голову, как вернуть его назад, не ущемив своей гордости, пока не вспомнила наконец один старый разговор. Я спросила его тогда о самых редких цветах, и он рассказал о таком, что растет в пустыне и цветет раз в четырнадцать лет, и о цветке снегов, что раскрывает лепестки всего на минуту, пока их не сгубит мороз, и еще о таящемся в дебрях плотоядном цветке с клыкастыми челюстями, что охотится на ящериц и летучих мышей и способен откусить палец неосторожному путешественнику. Рассказал о цветке размером с бочонок, пахнущем тухлым мясом, о крошечном цветке в форме осы, растущем на вершине деревьев, и цветочной лозе, из чьего сока делают духи, унция которых стоит как хороший дом.
– И ты все их видел? – спросила я, а он уверил, что да, ведь в поисках их прошла вся его жизнь.
– Но какой же из всех цветов самый редкий? – спросила я тогда. – Редкий настолько, что даже ты его не видел?
Тогда он надолго замолчал, склонившись над чашкой с чаем, которую держал кончиками пальцев, словно боялся, что оставит синяки. Наконец он поднял взгляд.
– Есть цветок, – сказал он, – о котором мне рассказывал Дядя, цветок-легенда, которого не видел ни он, ни кто-либо из живущих садовников.
– Какой же это цветок?
– Это цветок, растущий в долинах страны смерти.
И больше он не произнес ни слова, хоть я умоляла рассказать, каков цветок на вид и как он пахнет. Он оставил чай, покачал головой и отправился со своей тележкой восвояси.
Теперь этот разговор подсказал мне, как нужно поступить. На следующий день, гуляя с подружками, мы услышали его колокольчик, и я направила компанию к его тележке. Оказавшись рядом, я остановилась и обернулась к нему, придержав деревянную ручку тележки.
– Юный цветочник, хочешь меня поцеловать? – спросила я.
Мои спутницы захихикали, предвкушая насмешку. Впервые подойдя ко мне, он краснел и смущался, как девушка, теперь же взглянул мне в глаза и просто ответил:
– Да.
– Тогда, – сказала я, – ты должен принести мне цветок, ведь моя ваза пуста. Но я не простая девушка, и мне не нужен простой цветок. Ты должен принести самый редкий – тот, что растет в долинах страны смерти.








