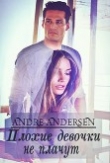Текст книги "Мой Бессмертный (СИ)"
Автор книги: Кей Уайт
Жанры:
Слеш
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 3 страниц)
Люций, Люций, Люций – ты же Люций, ты же он, ты же всё ещё он, правда…? – он просто…
Сидит.
Не дышит.
Ждёт.
– Лю… ций… Люций, бо… же… Люций… Люци… Люций…
Сердце, заплатанное, как балканская поношенная карта, за мгновение отпущенной секунды сходит с ума. Сердце, наливаясь кровью, кричит, сдувается, отсоединяет от себя все жилы и сосуды, разрывается на боль и мясо, взрываясь, грохоча, рушится слизистым комком, раздувается вылезающими наружу венами, орёт, ударяет остаточным припадком под дых, и вместо того, чтобы бежать, чтобы обнимать, чтобы бросаться и целовать-целовать-целовать эти мертвенно-бледные щёки-губы-глаза-волосы, вместо того, чтобы стискивать и ломать кости, чтобы вплавлять в себя и отдавать все забранные у мира в долг слёзы, Поль, подогнувшись в надломанных тем же сердцем ногах, следом рушится вниз, рушится на пол, упирается изнывающими агонией ладонями, скребётся зарубцованными ногтями, бьётся в выжирающем куски плоти страхе, в кошмаре рывками, кнутами, побоями и погонями наваливающихся откровений: спустя столько месяцев открывается ослеплённый разум, спустя столько месяцев ломаются выстроенные самим собой препоны, спустя столько месяцев, когда уже так, черти, невыносимо поздно, отходит измывающееся безумие, и что-то внутри вопит об оставленном, будто соболезнующее письмо, на сгибе дороги прожитом лете, и вспыхивают все томные тёмные вечера, грустные усталые глаза, просьбы и дозволения померить температуру и спадающий пульс, когда коршун в углу, притаившись на гардеробном крючке или в рукавах пальто, смеётся, каркает, разучивает по слогам всего два новых, неотступных, отныне и до конца, слова:
«Лей-ке-ми-я. Р-ррррак».
Вспоминаются, разрывая покров помешательства и порока, все жаркие прощальные поцелуи, все клятвы, все:
«Не уходи!», «не отпущу!», «нет, нет, нет же, нет! Не смей! Не надо! Ты обещал мне! Вернись, ты слышишь меня?! Вернись ко мне, дьявол! Вернись…»
Белые палаты и чёрные одежды, чёрные слёзы и белые бумаги, белое небо и чёрная земля, чёрный снег и белая ночь. Вспоминаются, ломая рёбра и гортань:
«Так надо… Так просто, получается, будет… Только… мне тоже, знаешь, страшно. Я тоже… не хочу… от тебя… Не хочу. Никуда. Ухо… У. Я не хочу никакого проклятого У. Я ненавижу его, этого У. И ты, если встретишь его когда-нибудь потом, без… меня… ты набей ему за себя, за меня его проклятую уродливую морду, ладно?
А пока, ты… просто… если можешь… посиди… со мной.
Подержи… мою руку.
Побудь тут, рядом, пока всё оно не…
Закончится.
Побудь, пожалуйста…
Побудь.
Здесь».
Поль рыдает, кровится стёртыми до кости кулаками, разбивает макушку и лоб о пол и стены, воет, разрывая истоками струящийся умирающий свет. Ненавидя самого себя, не прощая самого себя, жестокими ударами сбрасывает остатки того, что ещё не упало. Поднимаясь, отряхивая кровь и слабость, налетает на стены, продолжая своё сумасшедшее одиночное соло. Распугивает мелких бесов, охраняющих нераскуренный никем табак в спичечных отсырелых коробках, глядит, безразлично щуря глаза, на трёх красных лошадей с красными копытами, что, кружа по ковру, завязавшись гривами и хвостами, топочут-топочут человечьи хрупкие кости. Летят, раскрывая продырявленные крылья, стекло и бумага, крушится содранное со скальпом дерево, течёт, пронизанная, кровь, сыплются чёрным пеплом, чёрной золой с черепов чёрных трубочистов, вырываемые волосы, льётся полумесяцем охваченный ознобом крик, и только Люций, сотканный ветром да фонарями в распахнутых прорезях окон, только Люций, разбивающийся сложенными воедино бликами, грустно-грустно смотрит из своего уголка потерянным и потёртым взглядом маленького щупленького мальчишки, зажавшего в пальцах алую багульниковую розу в хрусткой коре загробного царя-падуба.
Только Люций, неупокоенный в своей постели, про́клятый белым гробиком, тоскующий и одинокий, больше всех, наверное, умеющий любить простую однотонную жизнь, поджимает к груди коленки и утыкается лицом в острые их костяшки, молча шепча, что ему всё ещё одиноко, ему всё ещё страшно, ему всё ещё – приди ко мне, вспомни меня, ты ведь всегда обещал, всегда ведь мне клялся! – так же пусто, так же холодно, так же мёртво, как и потухшему переплясу забытых на погосте свечей.
♱♱♱
Имя твоё сочетается с прозрачностью – так просто, так удивительно, упоительно, неповторимо нежно, так бесследно, так в никуда. Имя твоё – рассечённый надвое ажурный шёлк с морозным узором, ласковые перламутры-полоски, ласковая влага и отверженная ночная роса упругими жемчужинами пробудившейся волчаники, по шёлку твоего имени ступать труднее, сложнее, почти невыполнимее, чем даже по снегу, льду или воде – но я пройду, я дойду, я поймаю, я доберусь туда, где белые химеры прячут твою колыбель, я вытащу тебя, я отыщу, уведу за руку за наши с тобой общие небеса, я больше не буду так свободен, что выбора от моей свободы попросту нет.
Нет и никогда – прости меня, я молю тебя, прости моё помешательство, прости мою трусость, мою слабость, за всё меня, хороший мой, прости – не будет.
Шаги тонут в разморенной слякотной грязи набежавших за ночи беспамятства дождей, шаги оступаются, кости не выдерживают угнетающего веса и движения, подгибаются, плоть терзает адова боль пронзивших кожу внутренних осколков, разодранных подошв, вонзённых стёкол, провалившегося в овраг грунта – наплевать, на всё наплевать, только быстрее, быстрее, я прошу, шевелись же ты быстрее, проклятое немощное тело! Нам всего несколько длинных фурлонгов, нам совсем недалеко, последним билетом в одну сторону: скоро придёт отдых, скоро ложь железной короны сменит правдивая дикость озимой гривы, скоро белый ребёнок выберется из своей шкатулки, сбросит все на свете хрустальные туфельки, разольётся живой кисеей вокруг ключиц-горлиц, и станет невыносимо хорошо, и всё разом возвратится, и наше новое завтра – оно то, в чём не забьётся ни моря, ни пустыни, ни лета с жаркими луговыми солнцами, ни зимы с треском разбитой зеркальной корки.
Капля за каплей спадает жидкий звёздный свет, по венам вечной отравой и одуряющим приговором струится вколотое кем-то и для чего-то растворимое небо, белые каменные львы, опустив мёртвые морды, шепчутся, что не боятся могил в садах из кипенного флёрдоранжа, потому что сами когда-то, ещё не будучи просто статуями, копали их для убитых серпами полуночных когтей.
Львы охраняют старенький неменький погост, погост охраняет сон, скрипит железом послушно приоткрывающихся колодезей-врат, ловит в плен высокой дичалой травы, будто здесь больше совершенно никого нет, будто это всё виноваты слёзы Поля – льются, льются, глупые, и кормят почву, и служат новым непривычным дождём, и весна, сойдя с ума, пробивается наружу из каждой закупоренной поры, терпеливо закрывая уродство раненной земли, протёкшей крови, костей, приторно пахнущих плесенью книг, павших на тризне воронов, изломанных Льюисов-Кардиналов из прочерченной тушью фанеры, уродство встреч, разлук, чёрных платков, спавших с низкого лица матушки-судьбы.
Замшелое царство историй начинает и заканчивает свой быт прямо здесь, прямо немедля, прямо сейчас, когда Поль, забывая, вспоминая, теряясь, умирая раньше срока, проклиная, роняя на грудь, что снова и снова белое молоко, соль, отсчитывает травянистые скошенные плиты, пригибается под низенькими ветками распустившейся яблоньки с королевского зёрнышка, игнорирует магнолии и дельфиниум, наступает на разведённый кем-то жёлтый малинник в предречённых тонах, открещивается от пения возвратившейся скромницы-лазоревки в постном голубом оперении, а после, угадав с комком слёз у перекрытого горла, отыскав, перекрошившись в кости и сознании, встретившись глаза в глаза со страшным кошмаром выгравированных на надгробии букв, с неизбежностью влитого в мёртвость снимка, где нет никакой улыбки, а есть только вечная воздушно-тревожная тоска, припадает на разбитые колени, проглядывающие сквозь драную нестиранную одежду, очерчивает жалящиеся письмена тряской пляшущих подушечек в земляничных сеточках, погружается ими в холодное нутро, будто в расплавленный застывший воск.
Склоняется шеей, душой и плечами, завороженно и до стиснутых зубов гладит, целует, обводит абрис убивающего лица, тяжёлыми погибающими ладонями ложится на почву, со стоном, проклятием и вороновым хриплым карканьем за спиной выдирая из той молодую травяную поросль, распустившиеся синепёрые малютки-крокусы, первый нарцисс-солнышко, печально опустивший колокольчиком погибающий первоцветный бутон. Поль раздирает всё это ногтями, раздирает сами лилово-чёрные ногти, путается во вросших в весну корнях, режет пальцы и ладони жёсткостью каменной крошки и противящихся гибких стеблей с выпущенным венозным соком, путается в извивающихся сонных падальщиках и тучном розовом мясе, исходясь бешенством, исходясь ненавистью, исходясь заклятиями, чтобы ни одна тварь – ни глубинная, ни надземная, ни воздушная – не посмела прикасаться к тому, кто отмыт восходом от всех теней, сомнений и людских соблазнов, не смела приближаться к тому, кому быть вечно юным, прекрасным, вечно принадлежать одному лишь прокажённому ему.
Поль скулит, задыхается беспроизвольно разливающимися слезами-реками, тонет в них, смачивает почву, с непримиримым отвращением отшатывается от могильных червей, незаметно, но весомо отличающихся от червей обыкновенных, дождевых или садовых, подтачивающих корнеплоды, засыпающих и тонущих в первых июньских лужах. Под рубиновым жаром предрассветной, предночной, предвременной звёзды – он уже не знает, не разбирает, его стрелки почти остановились, – что когда-то тоже сорвалась с небес, преодолевает кирпичную пыль удерживающих гробниц, кривится, отбрасывает червивые шматки в стороны, дёргается, обтирает о штанины замаранные ладони, и снова, саднясь в наращивающей горб старого карлика спине, зачёрпывает мокросухую землю – руками, пальцами и лопатой: лопата для снега, лопата украдена, лопате бы сослужить последнюю службу, и мир ей, прах ей, вовеки присно, спи-засыпай, пока дождь стучит по ночным стёклам, рыдает над трупом павшего марта, над растворившимся в глазах нимбом минувшего детства.
Движения обрывчаты, ни разу не слажены, не ритмичны, неумелы, болезненно отдаются в руках, в сухожилиях, в мышцах, в каждой скрипучей кости. Движения пытаются сделать всё быстрее, движения понукаемы сердцем, а сердце до изжоги боится, что не дотянет, остановится раньше, чем руки соединятся солнечным замком, сердце плачет и надрывается, вокруг распускаются все угасшие рассветы и закаты, вокруг дикое безумство смешавшихся красок и времён, вокруг уже больше ничего не ясно: вот там носятся белые каменные львы с тупыми когтями, вот там белые борзые, возвратившиеся из снов, стерегут его уединение. Вот там колокольня пробивает тринадцатый час, которого нет, и чёрно-белый священник, удивлённо приподнимая голову, смотрит снизу вверх на плавающее в тумане голосящее золото, думая, что пора бы выпить чашечку чая, забраться в часовню да исписать несколько витиеватых прощальных страниц. Вот там мудрые старицы-повитухи врастают в землю корнями королевских яблонь, вот там ступеньки голосящие, древние, изжитые ливнями и снегом – меж ними последний подснежник, сухая прудовая трава и ляпис пушистого бархатца, пахнущего щемящей тоской будущих предчувствий. Вот там сухие голые плети мёртвого пока винограда смотрят, как седой и рыжий шут копает сам себе могилу, как торопится укрыться её одеялом, как отражает глазами звёздные круги, как боится, как страшится, что январская тёмная ночь, унёсшая все грёзы и радости, вновь сгрудится над ним, что вновь всё случится до прихода весны, что вновь погибнут в печном дыму воскрешённые было надежды.
Поль без сил, Поль готов упасть замертво, земля уходит из-под ног слишком медленно, но всё-таки уходит; ночь прикрывает его, львы баюкают свистящим дыханием раскрывающего глаза жасмина, снежные собаки поют минорную песнь, дожидаясь, когда смогут провести к последней жёлтой остановке, и лопата ходит вверх-вниз, взрывает корешки и камни, глотает землю, режет надвое червей, путается в полозьях винограда, прогрызается дальше, удивляется – как быстро здесь всё заросло, как быстро земь вернула себе ошмёток встревоженной человечком плоти.
Рядом леди Коломбина, тоже выбравшаяся из светлой своей могилы, небрежно прикрывает маской алый росчерк на бледных капризных губах, воздух одёт предранним угасающим зноем, сырью и пылью, воздух помогает двигаться, дышать, сам ложится на дно сдающихся лёгких, расширяет изнурённые клапаны, преображает уродство человеческих органов, обвитых слизью и кровью, будто могильный червь, и только благодаря этому, благодаря чужим эфемерным рукам, поддерживающим под локти и неоперившиеся лопатки, лопата, наконец, добирается остриём до песочного дерева и белой крестовой ольхи; звенит железо, сопротивляется труха, погибшее сердце, проваливаясь в тлен найденного колодца, дышит глотками воздушных поцелуев, покуда череп раскалывающейся седой головы тоже зыблется на хрупких разваливающихся позвонках лишь через силу, через стон, инсомнию и мрак.
Поля трясет, Поль больше не может терпеть ни единой лишней секунды, Поль выпрашивает у кружащегося над ним коршуна последние минуты, когда склоняется, очищает ладонями древесную гладь, ложится на ту часто-часто вздымающейся грудью, долго и упоительно целует, не видя больше ни червей, ни запаха гнили, ни забирающейся в губы жидкой и сухой чернозёмной почвы, выращенной на дождливой крови.
Он прижимается к сердцу распятия лбом, нежит его в ладонях, смыкает раньше срока ресницы. После, гонимый лаем белых борзых с фонарным шелестом в глазах, находит те силы, которых уже попросту не может быть, стаскивает с похоронной колыбели последнюю цепь, стаскивает крышку, окунается в мясисто-брусничное дно, обитое просевшим облетевшим бархатом, и находит…
Просто, наконец, находит.
– Люций… Мой… боже, мой… Лю… ций… мой Лю… ци…
Его Люций теперь – изящный юношеский скелет, высохшая разложенная кожа, собравшиеся угрюмыми морщинами струпья, ещё сохранившийся на бланжевом красный, ещё сохранившиеся разбросанные волосы, прошивающий до рвоты пресный запах, прошивающее до рвоты всё, но Поль уже слишком близок к иному миру, где ангелы осмеливаются выводиться из лебяжьих яиц, Поль вдыхает не гниль земного бремени, а райскую кущу поднебесного сада, и запах этот блаженен, запах этот всегда жил и всегда останется жить в уголках его души, запах этот сводит с ума разливающимися трелями и аккордами, заставляет поверить, будто он смотрится не в провалы глазничной черноты, а в прежние и влажные морские волны, будто его мальчик снова зарастает нежной исцелённой кожей, будто цветы ложатся в апрельский ненадруганный венок, будто на губах, что скарлатный мак, расцветает опиумным молочком задумчивая сонная улыбка, и остаётся только наклониться, обхватить, сжать все кости, всю гниль, все останки и объедки, прижать их к себе, втиснуть, уткнуться губами и лбом, ласками и жарким, сошедшим давно с ума, шёпотом-поцелуем.
Целовать, целовать, бесконечно и неостановимо целовать, выпивать, чувствуя и видя, как щёки горят утреннею кроткой трезвонностью: пурпуровою, синею – как небо, оставшееся над головой, разливает яблоневый сочный аромат, терпкость жёлудёвого падуба, густой и жаркий запах коричного кофе, горького шоколада оцелованных поутру ресниц, сливочного привкуса губной ванили, строптивой беличьей побежки дикой лаванды и садового ландыша.
Небо бесится, небо рыдает и смеётся над ними, где-то звенят золотом прощающихся тринадцатых колоколов сёстры-капеллы, где-то на далёком матовом окне загораются и потухают жёлтые восковые свечи – если уходишь по-настоящему, если никогда уже больше не вернёшься, если никогда отныне и вовек не обернёшься, значит, они больше не нужны тебе, значит, скорми их ветру, значит, забудь, отпусти и просто…
Просто…
Уходи.
Поль всё целует его, жмётся к нему, нашёптывает на ускользающее из-под губ ухо, пока слов совсем не остаётся, пока не шевелящийся язык не становится только помехой, пока веки не смежаются между севером и востоком, пока в ладонях не остаются одни лотосы, а над головой – тонкие фанерные планеры Льюиса и Кардинала, пока бумажный пилот не поворачивает штурвал на запад, пока звёзды не смешиваются с пламенем взлётов и падений, пока брусничный бархат мокрой колыбели не принимает их двоих, и рыжий с проседью шут, наконец, не прекращает плакать навзрыд у ног не такой уж и пустой постели.
Потом проходят сменяющие друг друга вечности, потом прекращают быть нужными часы, потом белые борзые с фонарным шелестом в глазах подходят близко-близко к осыпающемуся землёй краю, опускают острые головы, прикусывают зубами протянутые руки, помогая рыжему шуту с седой копной и тощенькому бледному мальчишке, покинувшему свой белый гробик, ступить босыми стопами на обледенелую траву, подрагивающую в удивлённой колыбельной под поступью вновь затянувшегося дождя.
Борзые ластятся вытянутыми мордами к бёдрам и животам, пальцы чешут их за ушами, переплетаются, смыкаются вместе, глаза встречаются с глазами, на губах распускаются неуверенные, робкие, бересклетовым побегом по буланому полотну, улыбки, собачьи лапы и человеческие ноги сходятся в одну проторенную тропу, уходящую, наконец, за звон отворившихся ворот в царстве белого бездумного абсолюта, и над церквушкой с её куполами, над матовыми тёмными оконцами, над заснувшим за книгой священником в чёрно-белой ризе, над сонным молчаливым городом, потерявшим ещё одну пару выращенных кем-то и для чего-то сорванных цветов, просто – вот так это всегда и бывает, радость моя, вот так и заканчиваются однажды все грустные сказки – поднимается солнце…
Одетое в наряды из драного шёлка кроваво-красное бессмертное солнце.
Комментарий к
**Костница** – ящик, урна, колодец, место или же здание для хранения скелетированных останков.
**Хоругвь** – принадлежность церковного украшения; укреплённое на древке полотнище с изображением святых.
**Ятрышник** – орхидейное растение, применяющееся в изготовлении некоторых лекарственных препаратов.
**Лауданум** – опиумная настойка на спирту.
**Кийт** – так же известный как Кийт-со-Свечой, Джеки-Огонёк – фейри, бродячий болотный огонёк из английской мифологии.
**Зиг** – руна в форме **ᛋ**, так же зовётся Совуло, Сигил, Сиг. Это руна Победы, Солнца, она наделяет силой и волей к победе, заставляет врагов в страхе бежать, охраняет в битве. Известна и тем, что активно использовалась в немецкой фашистской символике.
**Somnus rationis. Monstra generat** – «сон разума порождает чудовищ».
**Титулус** – здесь имеется в виду верхняя горизонтальная перекладина на кресте/распятии.
**Фурлонг** – британская и американская единица измерения расстояния. Один фурлонг равен 201,168 метров.