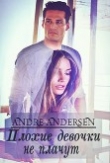Текст книги "Мой Бессмертный (СИ)"
Автор книги: Кей Уайт
Жанры:
Слеш
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Будто ты всего лишь паршивый, молочайный, синий на шкуру и лунатичный на глаза – спятивший вскрытый жеребец, да.
Стёкла отражают красный машинный пар, фонари становятся влажными фикусами в сплетениях диких орхидей – от них веет влагой, тропической духотой, от них воздух становится мокрее, от них свет – мягче; вечер теперь росистый, набухает изнутри, будто толстый рисовальный лист, готовый принять в своё лоно замешанную для него краску, и когда кисточка заката опускается в смятение бумаги и ручьёв – город тонет под диким смешением сошедших с ума цветов.
Надтреснутые мандолины обычного угасания взрываются хоралом говорливого неба, а вовсе не застывших в трафике машин, канализационные стоки вливаются тромбонами и альпийскими горнами, ветки обнесённых чугуном буковых деревьев перебирают струны обесточенных лютней, под ногами растекаются пьяной геранью лужи: там и игрений, там и касторовый, там киноварный и густоцветно-платиновый.
Вокруг так влажно, так невыносимо тепло и по-своему всё ещё стыло, что у Поля тоже мокнут руки, мокнут щёки, волосы налипают на глаза, затмевая весну возвратившейся с севера зимою, ботинки тяжелы и хлюпают слякотью, пальцы дрожат, пытаясь отогреть руку бредущего рядом Люция: ну и что, что они теперь молчат, ну и что, что один онемел, а другой – оглох? Ну и что, ну и что эти мелочи значат, если они всё ещё рядом, если Люций здесь, если ничего важнее этого нет на целом свете, не будет, никогда не сможет случиться?
Ну и что с того, хороший, родной, возвращённый ты мой?
Поль отмахивается от текущих навстречу прохожих, не вписывающихся в его собственный поток, от игры опасных светофоров и рёва натруженных резиновых колёс, останавливающихся специально ради него, хотя могли бы и не кричать, могли бы и не визжать, могли бы просто, знаете…
Он идёт дальше, меряет шагами каждую разлившуюся лужу, сжимает пальцы крепче, сжимает и гладит, старается растопить незрячие ледышки-глаза, косится на собственные выдохи, слетающие со рта сиреневой тенью, ждёт появления истёкшей жёлтой кровью мадонны, мёртвой небесной месячной девы – кто говорил ему, будто мир отныне погрузится в Жёлт? Кто читал ему эти стихи, кто предупреждал, зачем он это делал, где, почему, чьим голосом и возле чьей постели…?
Что-то откуда-то капает, что-то откуда-то пахнет полынью и пчелиным заваренным мёдом, что-то гнобится сырью и подземной темнотой, что-то ползёт по спине кусающими мурашками, что-то копошится и колышется в кариатидах вечерних деревьев, что-то просит отдать ему невидимого мальчишку-призрака, чтобы навек вплести его локоны в пламя свечное, и Поль скалится, Поль угрожающе рычит, проклинает и посылает ко всем знакомым ему чертям – а знает он их отныне много, отныне почти весь Ад становится его косвенным другом, затейником, убийцей, поганой гнилушкой в огоньке усомнившейся во всём оставшемся души.
Он переходит через Нью-Джон-Стрит, сворачивает на Ливери-Стрит, догоняет и перегоняет закат, оставляет тот болтаться за спиной проткнутым вербовой веткой воздушным шариком, а потом…
Потом…
Потом ровняется с непонятно чьим дворцом, непонятно чьим домом, непонятно откуда приблудившимся зданием, что обрамлено в стёкла, стёкла, одни сплошные стекольные плиты размером с огромное колышущееся сердце Гайтерского духа-дракона: в стёклах тех кипит приливом Ирландское море, в них белый пароход «Эспань» пускает к чайкам-облакам клубы пережёванного угля, в них надорванный хоровод цирковых арлекинов и мёртвый мальчик-эльф из зеркальной тишины, в них сети знакомых лавандовых костей, уставших от рассветов и угасаний, в них парящие над городом болотные подсвечники блуждающего Кийта, и ещё в них Поль.
Белый Поль, уставший Поль, тощий и замученный, закутанный, как мумия, в кокон похоронной обречённости, слишком седой для ударивших жалобных лет, слишком сутулый, слишком лохматый, слишком похожий на рыжего шута у пустой могильной постели; губы и скулы его – жестокая и уродливая пародия на папье-маше, кожу обвила белейшая гофрировка, под ногами – дороги, устланные гниющим позвоночником разбитого города, вознесённое древесными канделябрами небо бульваров, и почему-то…
Почему-то…
Совсем пустая…
Рука.
В руке никого нет, в руке – только плач и воздух, в руке закат, в руке пальцы, сжимающие никого, в руке необратимая стылость, в руке снова обман и снова занозившая вену колючка, и по щекам – видишь, хороший мой? Это я плачу по тебе… – слёзы, по щекам – подорванный больной ужас, по щекам – сами глаза, медленно и мягко вытекающие наружу, чтобы не принимать, не видеть, не знать, не запоминать увиденной липкой лжи.
По щекам – о боже, боже, боже же ты, потерявший язык и слух! – всё новая, новая и новая…
Пустота.
♱♱♱
Полю страшно.
Издевающийся мир меняется каждый день, каждый час, каждый оборот подвешенных к стене чудовищных часов: Поль помнит, что когда-то те были соломенными, с пригвождённым книзу гнездом для соломенной же кукушки, когда-то они мягко тикали, разливая такой же мягкий свет, а теперь с циферблата таращится рогатая морда в рогатых угрях, вывешивает длинный фиолетовый язык в чёрных веснушках, трясет из стороны в сторону башкой, кружит вытаращенными глазами с кровоточащими сосудами, дёргается на каждой стрелке, подпрыгивает, рыгает и хохочет, пытается протянуть лапу – тень от неё настолько длинная, что перекрывает разом всю комнатную поперечность, и Поль подолгу застывает между её чернотой и остатками серого безразличия по ту сторону, высчитывает безопасные секунды, собирает силы на последний рывок, надеясь, что ему удастся прошмыгнуть, что он доберётся до их спальни, что Бог, добрый со всеми только вначале, только в детстве, чтобы не было так страшно оставаться одному и взрослеть, улыбнувшись в горный дым бороды, пообещает: наутро ты обязательно проснёшься, и всё станет, как было прежде. Я ручаюсь за это.
Поль дожидается, Поль приходит к компромиссу, что можно даже не просыпаться, можно просто разрешить ему поверить в иллюзию пробуждения, можно навсегда оставить его в той кровати, где несобранные волоски и смятые птичьи подушки, рваные простыни и перевёрнутое вверх головой одеяло, где слёзы въелись в пол каплями белой извести и налётной грязи, где разбросаны откупоренные таблетки, где как будто бы кроется самая честная память, где ответы, где объяснения, где ничего не разгадывающие разгадки, где бутылка корвалола, где чёртовы сердечные пилюли, давно разбитые о стену, где всё ещё остается…
Кусочек – один, другой, третий…
От…
Него.
Но башка продолжает трястись в украденном у кукушки гнезде, рука продолжает отнимать поперечность, в памяти стоят встреченные стеклянные зеркала, сиреневый закат, герань и саван бродящего по городскому позвонку мученика, в памяти убийство и обман, в памяти медленно, сиротливо, болезненно, когнитивно формирующаяся мысль: отвергать.
Теперь остаётся только отвергать.
Отвергать, потому что выдуманного тобой мальчишки никогда, наверное, не было, потому что сейчас ты – один, потому что одиночество единственно вечно, потому что тот, кто когда-то был, не может исчезнуть совсем уж бесследно: значит, ты просто всё придумал, ты принёс сюда чужие вещи, ты нарёк их вещами его, ты разбросал собранные по ветру волосы по простыням, ты сошёл с ума, ты перепил своих таблеток, ты потерялся и заблудился; таких, как ты, держат там, где белы палаты и невкусны истерики, где сестрички приносят лекарство в васильковых флаконах из-под чешских духов, датируемых розливом ушедших годов, где все неудачники, воры, поэты, художники и мечтатели, обманывающиеся сладостной сукой-грёзой, грызут свои глупые комплексы, стекающие влагой по обрезанным рукам, где вой и писк, шум и боль, шприцы и зарешеченные крестом окна.
Получается, что ты, бесспорно, хитрее, ты умнее, чем все они, ты не попал туда, ты – всё ещё здесь, а значит, прекрати. Значит – отпусти. Значит – перестань выдумывать, сочинять, обманываться.
Значит – просто влачи свою жизнь.
Морда продолжает кривляться каждый день меняющимися масками, морда рассказывает о том, как спят в трупном компоте забродившие сливы, на всех домашних стенах то ли слизь, то ли сажа, под ногами – битое красное стекло да такая же кармазиновая жижа. Холод, просачивающийся сквозь створки и пороги, сгрызает руки до костей, будто оголодавшая белая мышь, Поль привыкает ходить быстро, резко, угловато, потому что знает: чуть замедлишь шаг – и кто-нибудь страшный, вынырнувший из оброненной тени, пронзит тебя в сердце ржавой проволокой, и снова начнётся ад, и снова вернётся обман, и снова всё сляжет в могилу, которой нет, не было, не должно никогда быть.
Поль больше не захаживает в их спальню, Поль продолжает есть вскрываемые пачками таблетки, Поль уже больше не верит, будто Люций когда-либо вообще случался на этом свете: теперь тот – всего лишь имя его непутёвой глупой выдумки, результат голода и таблеток, пропись грязными пальцами по облизанным пошлым стёклам, ложь, ложь, одна сплошная невыносимая ложь.
Поль учится отпускать его, учится наблюдать, как срастается раненный навылет кирпич, прорастая бетонной арматурой. Старается подолгу разглядывать заоконный мир, уверяя себя, будто есть не кто иной, как просто идиот, увлёкшийся игрой среди распаханных для посева могил. Поль теряет работу, просто забывает её, не хочет больше ничего: обрывает все ведущие к нему каналы, жилы и провода, глотает на ужин горсть колёсных пилюль, тушит по утрам пресные мёртвые завтраки, запихивая те в себя силой. После – блюёт над унитазом или раковиной, иногда не успевает дойти, иногда ломает о стены остатки смеющейся над ним посуды, иногда намеренно всаживает в ладони и запястья её осколки, если опять начинает слышать голоса, если дерево за окном говорит, что он не прав, что мальчик случился, мальчик до сих пор где-то и как-то есть, мальчику одиноко, мальчик не хотел уходить, мальчик тоскует и ждёт его там, в своём предзимии, где вечное сердце октября на донышке сомкнутых чашечкой ладоней.
Мальчик ждёт, мальчик потерян, мальчик не понимает, за что его предали, мальчик не хочет учиться забытию и тоске, мальчик передаёт с луной фиалки и пытается биться о тяжёлые пласты не выпускающей земли – Поль, неволей выслушивая всё это, сводит вместе зубы, трёт онемевшими пальцами виски, раздирает те ногтями, поднимает грохот и дребезг, снова блюёт, орёт, проклинает, умоляет заткнуться, сбегает на улицу, где сидит в том же собачьем парке, отогревается чаем без заварки из термоса и снова, снова, снова становится прозрачным на фоне серо-бурой замкнувшейся пустоты.
Вечерами в переулках темно и глухо, за спиной смыкаются поджидающие тени, струится под ногами тонкий запах металла и бузинного масла, мертвенные очи фонарей мигают, прикрываются рунами Зиг и чёрными эсэсовскими штандартами, отказываются провожать, отказываются смотреть, отказываются встречать или задувать чужой бренный пламенник, и Поль, окружённый уличной темнотой, вдруг узнаёт, что ему боязно: боязно возвращаться, боязно с треском сухих веток пробиваться сквозь каждый проделанный шаг, боязно подниматься по тем лестницам, что пахнут сыростью баюкающей мёртвых младенцев ночи.
Ему боязно глотать этот воздух, боязно ломать ключами не желающий подчиняться замок, боязно заходить в чёрную бездну прихожей, столь остро разящей мертвечиной, что лучше бы незамедлительно сдохнуть самому.
Тварь на стене учится протягивать руку дальше прежних четырёх ярдов, хватая почти за самое горло возле только-только распахнувшейся двери, стёкла не пропускают дворового газового света, пол прогибается под ногами жидким стулом, и иногда Полю кажется – он даже может в этом поклясться, – что поганое квартирное освещение тоже не разжигается сразу, едва нажмёшь на нагретый пластиковый выключатель: поганое освещение слишком долго думает, стынет, нагревается, жрёт отказывающие цоколи, лампочки и проводки, а когда, наконец, решается разойтись, когда медленно растекается томной желтизной – в комнате всё равно остается до судороги темно, в комнате хуже, чем в адовом кошмаре, в комнате тяжелый наваливающийся исток, дым, полумрак, и поверить, будто жизнь хоть сколько-то настоящая, будто всё это не очередной подкарауливший сон – не получается тоже.
Он раскрывает звонкими рывками шторы, пробуждает среди ночи ударяющиеся рамами окна, мёрзнет, кутается в зимние куртки – потому что все одеяла остались там, куда он больше не может зайти. Подпирает стульями шкафы и секции, зажимает дверцы, оставляет незапертой входную дверь, нарочито прячет от неё ключи, разводит свечи и все лампочки, ввинчивая те, которые ярче, которые больше жрут, которые слепят маленьких детей и светят вдали тонущим лайнерам под бермудской кесаревой волной.
Поль собирает его вещи, старается на них ни в коем случае не смотреть, обжигается руками, глушит просачивающиеся против желания слёзы, запихивает оставленный мусор в пакеты и коробки, уносит в коридор, клянясь, что наутро обязательно выбросит, но выбросить никак не может: наутро он просто садится там, смотрит, думает, что как мало, как мало их – всего лишь два чёрных полиэтилена и полторы картонных коробки, а всё остальное, выходит, уже его собственное, всё остальное – продление лгущей самой себе реальности.
Тянется к бокалам, заливает в те остатки дешёвого пойла, выслушивает звонкое стекольное:
«Не жди его. Не жди, как и прежде, ещё до встречи, до всего – не ждал. Даже не догадывался, будто он где-то такой есть».
Злясь, швыряет те о пол и стены, давит осколки ногами, режет кожу на исполосованное мясо, снова и снова уползает в прихожую, обнимает пакеты, потрошит их обратно, складывает из рубашек и джинсов собачье гнездо, сворачивается на нём, дышит своей больной выдумкой, собирает чёрные волоски, целует, запихивает в сальные волосы, хнычет, рыдает, ноет, просит кого-то, просит о чём-то, просит бесконечностью и жаждой, но свет путеводный – он нынче для никого, и что-то пытается не улыбнуться, а рассмеяться пузырями алой неизбежности, когда месиво губ горчит вытекающая желчь, и поганая смерть, слитая с Бессонницей, танцует рядом, поднимает испанские ракушечьи юбки, прикидывается эсмеральдой и кабальеро, пытается казаться нежной и смягчённой, ловко скрывая весь свой истинный ужас под картонными трафаретами, и в темноте, которая неминуемо приходит, даже тени становятся слепы, даже тени боятся оторваться от стены, даже тени, втягивая в подушки когти, уползают на отданное погребённое дно, и Поль, прожранный вторгшейся в сердце болезнью, смыкает глаза, устало, выпотрошенно, ни зачем и ни для чего проваливаясь в белый, пустой, продолжающий лгать и лгать абсурд.
Somnus rationis.
Monstra generat.
♱♱♱
Следующими в его личный затянувшийся ад без края и отдыха приходят долгожданные сны.
Во снах этих, прежде кошмарных, липких и склизких, пробивающихся под кожу стаями заговоренных бабочек с булавкой в каждом черепном крыле, что-то меняется, отходит, перегорает, выжигается, и вместо старой задушившей тьмы – на Поля потоком обрушивается абсолютная единица снимающего боль света, абсолютная сумасшедшая пустота, абсолютная белизна, в которой не бывать ничему, что не умеет ждать, что ещё хочет дышать, что не собирается сдаваться или ступать своей дорогой, минуя пороги присматривающейся смерти, дальше.
К появившемуся на задворках Полю сны эти поначалу относятся настороженно: подозревают, аккуратно обнюхивают, точно большие зимние собаки, неуверенно переглядываются, глазами – тоже белыми и млечными, как сигаретный дым в минусовой полдень – показывают: мы тебя не приглашали, мы тебя не знаем, ты сам к нам прибрёл, безымянный человек, так сидеть тебе теперь здесь, так терпеть, мириться и не жаловаться, что врата для тебя закрыты под замок.
Поль больше не умеет улыбаться, поэтому просто кивает им, просто оглядывается, сутуло пожимает плечами, усаживается в новое облако нового абсолюта, поджимает к груди колени, обхватывает те провисшими руками и говорит, так честно, как только умеет, говорит: «Мне всё равно, мне совсем нечего терять, я даже не знаю, было ли у меня что-либо когда-либо вообще». Ещё он говорит, что просто потерялся – и в самом себе, и в этих белых лабиринтах, – что ему в совершенстве наплевать, где быть и что делать, что он уже смирёнен, что он не станет ни на что скулить, что ему не нужны никакие врата, ему только нужно, чтобы его оставили, наконец, в покое и дали немного поспать.
Наверное, зимние собаки умеют чуять правду, поэтому они больше ничего не спрашивают, кивают ему и, оставив сидеть под вратами, которых не увидеть, уходят, и абсолют становится Всем, абсолют медленно заползает в высушенный рассудок, абсолют накрывает ладонью изнеможённое гонениями страдалище души, и Полю начинает хотеться засыпать всё сильнее и сильнее, Поль отныне не представляет, что ему остаётся делать иначе, Поль надеется, что однажды абсолют оставит его при себе навсегда – ведь сидеть в пустоте, лишённой мыслей и желаний, само по себе не так, хороший мой, чьего имени я стараюсь больше не помнить, и плохо.
Он ложится рано, до сумерек, и просыпается поздно, ближе к палящему в окно полудню. Отказывается вылезать из постели даже в тех случаях, когда дородная дама в чёрной шкуре возвращается к нему, когда коршун снова бьётся о сдающиеся стёкла, когда всё шумит, когда рвётся шторка, когда из глаз капают слёзы, когда уже наплевать и на это, наплевать уже совершенно на всё, только, пожалуйста, я очень вас всех прошу, уберитесь, сгиньте, оставьте меня одного.
Просто.
Оставьте.
Меня.
Одного.
Поль бледен, немощен, худ, костляв: кожа свисает на нём облинялой шубой, волосы не помнят касания воды, желудок пуст и тошнится собственным горьким соком, кровь застревает в сузившихся капиллярах, дыхание слабое, но ровное, гулкое, всё ещё перекачивающее смирно ложащийся рядом воздух. Убывающий месяц застывает на холодных каменных плитах отражением сморщенного красного оскала, чернотропы кишат нечистью людских теней и спектаклей, старые лётные крылья сложены в сундук и защёлкнуты на замычку. Будни наполняются последней безвременной серостью, и только сны, разжимая ладони, привечают прежней белизной, прежним покоем, прежней окутывающей безмятежностью, однажды даровав возможность заходить дальше, забредать глубже, медленно-медленно перемещаться на отвыкших от движения ногах – собаки всегда оказываются рядом, собаки следуют нога в ногу, собаки пригоняют жёлтый молчаливый автобус, и тот отвозит Поля до последней на пути остановки, где светлым указателем светлого рая высится надпись «тебе – налево», где узенькая чахлая тропка сходит с облачных холмов, незамеченно спадает в низину, меняется разнобоем приглушённых красок и перевёрнутой классикой непонятной звучности: ноты и октавы здесь тянутся в разы дольше, каждый слог замедлен и глубок, распадается на частицы, плачется доставшимся ему весом, не позволяющим подпрыгнуть и взмахнуть ввысь, и вскоре под шагами начинают затихать ветра, вскоре там появляется безмолвная трава, и оставшаяся белизна сменяется церковным погостом, и мрак полнит распахнутые окна-могилы, и кто-то где-то запевает голосом белобровика, присевшего на верхний титулус прощального распятия, и потом снова смеркается небо, сыплет градовый снег, обрывается песня, даже толком не зазвучав, снег гасит оставшиеся ноты, уносит их, бескрылых и бренных, так невыносимо, так непростительно, так без возврата далеко.
Поль вихляет подломанной ступнёй, выстывает до прозрачности слабым сердцем, будто у него в груди теперь простой кусок простого льда, нюхает палые листья с привкусом бензина и мокрой копоти, морщится, снова ничего вокруг себя не понимает, жмурится, когда появляется веселящееся солнце, страшится увидеть плачущего рыжего шута, упрекающего его в том, что он…
Что он…
Наверное…
Здесь.
Ноги стянуты невесть откуда взявшимся саваном, ноги не хотят идти дальше, рассветы, плавящиеся ненормально быстро, превращаются в новую губительницу-ночь, вдалеке, в гвоздичных затенённых арках, появляется и исчезает ярко-красный огонь-Адам, повечерний туман наползает из-под вскрытой венозной земли, тянутся к коже чьи-то мёртвые белые руки.
Бьют обедней сёстры-колокольни, чей-то голод буравит спину жадным взглядом из узкой щели, заливаются молчаливые фонтаны молчаливой переливчатой струёй, спускающейся наземь ледяными горками, оставшиеся фонари слепнут от просыпанной им на глаза соли. Свет знакомо гаснет, Поль кричит без звуков, скребётся в пустоте ногтями, просит, требует, молит, чтобы его отсюда выпустили, и когда за ним возвращаются грустные собаки с глазами цвета молока, когда тычутся носами в бедро и говорят, опустив хвосты и загривки, идти за ними, когда пальцы его зарываются в их холки и шаги виляют, хромают, летят, когда уже слишком поздно для бесполезной лирики, бесцельной истерики на разрозненных двоих и остывшего кофе с утренней корицей – он видит среди надгробий, снегов и вечно преследующей по пятам пустоты…
Мальчика.
Маленького мальчишку, знакомые чёрные волосы с иссиним отливом, разнузданный бубен цыганских синих глаз, бледность заострённой, исхудалой – да кто бы говорил, кто бы говорил, я знаю – мордахи, длинные ресницы, северным годом повёрнутые на весну, щупленькие ключицы, тонкие жилки запястий, поджатые босые ноги, грустный-грустный взгляд и опущенные книзу губы в пролитых слезах, слепленных руками смерти мрачного гения.
Поль слишком долго не верит, слишком долго ничего вокруг себя не понимает, слишком долго не соображает, но руки его тянутся сами, голос прорывается весенними ростками, кричит, рыдает, зовёт, ноги пытаются бежать, не волнуясь, что осквернят собой сонмы просыпанного здесь мертвячьего праха.
Полю совсем на всё наплевать, Поль несётся, орёт, пытается догнать и дотянуться, но собаки путают дороги, качают ушастыми головами, говорят, что уже поздно, что он уже только что избрал свой путь. Собаки хватают его зубами за одежду и прокушенное до кровавых брызг мясо, собаки рычат, свирепеют, отращивают вторые головы и пернатые львиные крылья, становятся ярливыми химерами, дерут препятствующего непослушника бритвенными когтями, угрожают выдыхаемой из ноздрей стужей и разящей загниением серой, гонят, выдирая из земли цельный дерновый пласт, пока мальчонка всё смотрит вослед, пока грустно отворачивается, убредает обратно, забирается в свой маленький белоснежный гробик, накрывается простынкой, зарывается в выстланные по днищу увядшие цветы, и плачет, плачет, плачет, шепча, что вовсе не хотел умирать, что было так много всего, что так хотелось вернуться, что одному тоскливо и страшно, что где же ты, дурак, обещавший всегда быть рядом, ходишь так долго, почему не хочешь меня узнавать, почему не хочешь обо мне помнить, почему в твоём глупом обезвоженном мире больше нет места для меня, почему я лежу здесь, вместо того, чтобы пойти с тобой, чтобы вернуться к свету, чтобы снова вместе, чтобы, чтобы, Господи, чтобы…
Поль сопротивляется до последнего, Поль смотрит в глаза своим борзым, видя в тех печальный, но непреклонный шелест отживших фонарей. Поль пытается выдрать тем кровящую шерсть, сломить вздутые парусами крылья, прорваться сквозь выпотрошенное мясо и боль, пытается выкричать пустоту, пытается дозваться, пытается коснуться хотя бы пальцем, умоляет бежать к нему, умоляет отправиться назад вместе, умоляет рассказать, где кроется его проклятый Город-Дальше-Чем-Ночь, как до него добраться, где и когда отыскать. Возвышает свой вопль, чтобы столкнуться тем с пеной обветренных падающих звёзд, но ничего не получается, всё заканчивается, борзые химеры белее молока утаскивают его прочь зубами и когтями, выталкивают из белого абсолюта, отходят жёлтые автобусы и сны возвращаются в прежнюю чёрную пустоту, становясь просто снами, и только на кончике языка, на кончике ресниц, на кончике кровящегося сердца качается маленький белый гробик с маленьким бледным ребёнком внутри, укрытым вышитой из цветов простынкой.
Только это, это…
Только, будь ты проклят, еси и на небеси, это.
– Люций…! Люций, Люций, Люций, мой Люций, господи, Люций…! – он просыпается с его именем на губах, просыпается с лихорадкой, жаром, агонией и болью в левом виске – отшибленном, пока метался во сне, пока бился, пока раздирал плоть углом скособоченного опрокинутого стола, теснясь на хлипком покрывале в неустойчивых ножках. За окном всё так же кружит привычная молчаливая темень, задумчиво встречающая первый палый досветок, по углам квартиры, крадучись, перехаживаются Безмолвие и Сумерки в низко опущенных слёзных капюшонах, остывший пол полнится разбитыми и поломанными транзисторными приёмниками, выпотрошенными из шкафов и кладовок, рваной макулатурой, проеденной пылью ветошью, шариковыми подшипниками, свёрнутыми в рулоны планами новых фанерных самолётов, и кажется, что где-то там, снаружи да за хрусталём, зима, потому что только зима бывает столь щедрой на звонкие ночи, и снова голос срывается, и снова руки, перебирая мусор и обжигающий холод, ползут, выискивая, в самую глушь, азбукой губного Морзе выстукивая, выскрипывая, выплакивая: – Люций… Люций, боже, Люций, хороший, родной мой, где… Где же ты, Люци… Лю… ци…
Слёзы попеременно стекают из глаз и из сердца, завывают белой молочной собакой с шелестящими фонарями в глазах, бегут по шее и грудине, душат, как душит слишком высокое и слишком безразличное небо, память отказывает с прежней устойчивостью, память больше ничего, кроме крохотного белого гробика, не знает и не видит даже теперь, память только ищет, только просит, только молит вернуть ей украденное, потерянное, ушедшее: и не важно, не важно совсем, выдуманное ли оно, настоящее ли, такое, чего попросту никогда не было и нет.
Не важно, смешной, нелепый, грустный ты господи…
Не важно, потому что если поверить в него сейчас – то оно может, всё ещё может возвратиться, прийти, с кем-нибудь и как-нибудь, переступая давно разуверившееся в себе невозможное, случиться.
С потолка, кружась мозаикой разбираемых на кусочки страдалиц-церквей, спускается странное небесное состояние бумажной, замирающей, ослепительно-блеклой тишины: в доме, в мире, в самом Поле. Тишина эта перебирается крысиным ползком, прячется обещаниями поцелуев за надорванными обоями и прутами-гардинами, ласково ложится на внемлющие плечи, вновь позволяет онеметь и оглохнуть на глаза и поверить, будто Люций никогда никуда не уходил, будто Люций уже вернулся, будто печаль и горесть лишь привиделись ему в пугающем зыбком сновидении, остались в белом маленьком гробике о луговых сорванных цветах, ушли вместе с зовом тысячи горластых сирен, и если приглядеться, если позвать ещё разок, если разбудить прислушивающийся полумрак, то…
– Люций… Лю-ций… Люций же, Люций, Люций…
Поль ползёт, темнота молчит, руки, сгорбленные, путаются и напарываются в длинных нескладных пальцах, переступают через опрокинутые лапы вазовой пихты, через вечную ночь, что, влюблённо сберегая, заслоняет синими тугими косами истомой объятые очи не приходящего слишком давно лучезара-дня. Поль кое-как поднимается, спотыкается, падает, кашляет, меркнет глазами, кружится, тает, слушает чей-то скрипичный голос, наигрывающий, шепчущий, льющийся, что по крышам до неба не дойти, не найти его безбрежности ни в одном окне или осколке оброненного зеркала, и та ваша зима тоже не сумеет вернуться назад, та ваша зима останется тлеть под белыми досками, та ваша зима навсегда…
Навсегда, мальчик.
Просто, милый мой, бедный мой, засыпающий мой, навсегда.
Ломая всё, что от него осталось по задворкам и подожжённым полкам, в паутинах и по затянутым машинным маслом прудам, выпуская через рот да на волю объятое истерикой недомогания сердце, Поль добирается до знакомой стены, опирается на ту, на коленях, подталкиваясь пружинами вобранных безделушек из билетов и прожитых вечеров, вышептанных вскользь признаний и отражающих звёздный размах синеющих глаз, уносящихся свечением по самую невесомость, приподнимается, вяло мажет предающей от бессилия рукой по выключателю, разжигая проблеск последнего, наверное, света – потому что коршун слишком близко, потому что коршун на этот раз молчит, а это, радость моя, самый плохой на свете знак: они всегда серьёзны и грустны, всегда собираются налететь на нас со спины, когда не пугают и немотничают.
Больше ничто не держит, больше ни на что не существует сил, больше невозможно вдыхать склепную сырость соединяющихся пола и потолков, больше никак, нигде, и возможно, если просто взять и отдаться, поверить и постараться – маленький белый гробик вернётся ещё хотя бы с один прощальный раз, упадёт в умоляющие о нём ладони, позволит себя открыть и забрать того, кто спит в его утробе, обратившись кусочком порченого замшевого сердца.
Возможно, да…
Всё, быть может, ещё возможно.
Обывая в краю, что скупо начертан серыми связками серых карандашей, Поль, распадаясь на обрывки гаснущей тени, оборачивается, протаскивает с три шага негнущиеся ноги, приподнимает, следуя за клёкотом дожидающегося ведущего коршуна, опустевшие проседь-глаза, и почему-то там, где гардина и штора в когтистых клочьях, где остаётся стоять только смятое окровавленное кресло в рвотных испражнениях, где драные страницы книг и выпотрошенные из пледа чёрно-траурные нитки, он вдруг видит…
Видит…
Его.
Белые фарфоровые ключицы из-под кашемирово-малинового вязаного свитера, мглистое черноволосье, бурное голубоглазье, грива цвета травы под последним инеем майских заморозков, устало-измождённое лицо белостынной покровности манчжурийских мастеров, тонкие паутины клеверных ресниц, тонкие мотыльки прутиков-пальцев, тонкие ноги и руки, тонкий просящий взгляд, слегка – совсем-совсем слегка, чтобы разве только сквозняку уместиться да пропеть свистящей свирелью – приоткрытый рот.
Тот самый злополучный, тоже подталкивающий в сердечные пружины, бесценный свитер, который Поль упрашивал его надеть с целых три месяца, те самые джинсы – голубые и в облипку, у которых драная соблазнительная коленка и драный карман на поджаром заду. Те самые потешные носки с мышастым Микки Маусом, подаренные в качестве шутки на первое апреля двухлетней давности, а он, глупый, спокойно и надел, спокойно поблагодарил, он и не понял, он так и остался просто Люцием – любимым наивным балбесом, замечающим так мало, так по-детски непростительно мало, если преждевременно не сказать, не показать, не поддразнить, не предупредить, собственноручно испортив весь долго-долго готовящийся сюрприз.
– Лю… ций…?
Губы не слушаются, губы шалеют, губы умирают, губы шепчут разрозненные буквы несуществующих алфавитов и стран, буквы ложатся на стекло и рисуют косыми дождливыми смычками снова его, и воздух падает, будто спрессованный слиток золотого заката, и разум становится невыносимо трезв и чист, будто раствор борной кислоты, и все грифы да графы усмехаются чёрными гарпиями над тошнотворно-плаксивым Пьеро, что пляшет, скачет, хромает и кривляется под куполом их крыши, чьи засохшие слёзы угольны, как смоляная вакса, а Люций…