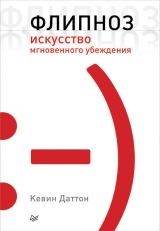
Текст книги "Флипноз. Искусство мгновенного убеждения"
Автор книги: Кевин Даттон
Жанры:
Самопознание
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Раскрыть код убеждения
Итак, это – книга об убеждении. Но об особом виде убеждения, флипнозе, с инкубационным периодом в несколько секунд и эволюционной историей лишь не намного продолжительнее. Его ключевой компонент – неадекватность (или умение быть непредсказуемым). Но это только начало. Принимаем мы то, что нам предлагают, или отвергаем, зависит еще от четырех факторов. Простоты. Осознаваемой личной выгоды[1]1
Это относится к личной заинтересованности объекта убеждения. Ведь объект не всегда по-настоящему заинтересован в том, чтобы его убедили. Но если у объекта интерес имеется, тогда попытка будет куда более эффективной.
[Закрыть]. Уверенности. И сопереживания. Факторов, так же неотделимых от процесса убеждения в растительном и животном мире, как и от жульничества некоторых самых блестящих мошенников. Когда все пять компонентов собраны «в одном флаконе», такой коктейль влияния – НПОУС (по первым буквам его компонентов) – смертелен. И уж тем более, если употребить его «не разбавленным» риторикой, «не замутненным» аргументами.
Уинстону Черчиллю все это, конечно, было известно. Что же касается стюардессы, которая однажды бросила вызов Величайшему, то я сомневаюсь, чтобы Мухаммеду Али когда-либо доводилось пропускать более безукоризненный удар.
Именно такой метод убеждения способен помочь вам получить все, что захотите. Контракты. Сделки. Детей. Что угодно. Если НПОУС находится в «правильных» руках. В «неправильных» же он может оказаться пагубным. Столь же бесчеловечным и смертоносным, как и любое другое оружие.
Отправной точкой является простая идея: одни владеют искусством убеждения лучше, чем другие. И способности убеждать, как и все остальные таланты, имеют определенный диапазон, в котором у каждого из нас есть свое место. На одном краю те, кто всегда «попадает впросак». Кто не просто берется за дело не с того конца, а и вовсе этот конец найти не может. На противоположном – флипнотизеры. Те, кто выказывает странную, почти сверхъестественную склонность к тому, чтобы сразу «попадать в яблочко».
В дальнейшем мы составим график координат этой таинственной способности к убеждению. Медленно, но верно забрасывая сеть эмпирических исследований все дальше и дальше, за пределы знакомых рифов социального влияния, в глубины менее изученных вод неонатального развития, когнитивной неврологии, математики и психопатологии, мы рассмотрим теории о волшебном искусстве убеждения и увидим, что их объединяет. Из всего этого постепенно выкристаллизуется всеобъемлющая точная формула. А по пути найдем ответы на некоторые очень любопытные вопросы:
• Что общего у новорожденных с психопатами?
• Эволюционировала ли наша способность менять свои решения так же, как и разум?
• Какие общие секреты имеются у великих мира сего и прославленных мастеров боевых искусств?
• Существует ли в мозге специальный «проводящий путь убеждения»?
Ответы вас поразят. И, определенно, помогут добиться своего в следующий раз, когда вы решитесь действовать.
Глава 1. Инстинкт убеждения
Судья: «Я признаю вас виновным по всем пунктам и приговариваю к 72 часам исправительных работ и штрафу в 150 фунтов стерлингов. У вас есть выбор. Вы можете вносить деньги в течение установленного трехнедельного срока или заплатить на 50 фунтов меньше, если внесете всю сумму сразу. Что вы выбираете?»
Карманник: «У меня сейчас с собой только 56 фунтов, ваша честь. Но если вы позволите мне провести несколько минут наедине с жюри, я предпочел бы заплатить все сразу».
Дорожный патруль останавливает водителя за превышение скорости.
«Приведите мне хоть одну достойную причину, почему я не должен выписывать вам штраф», – говорит полицейский.
«Хорошо, – отвечает водитель. – На прошлой неделе моя жена убежала с одним из вас. И когда я увидел ваш автомобиль, решил, что вы привезли ее назад».
Диковинная небывальщина?
В 1938 г. в городке Сельма, штат Южная Джорджия, врача Дрейтона Догерти вызвали к больному по имени Вэнс Вандерс. Полугодом раньше глухой ночью на кладбище Вандерс повздорил с местным знахарем, и тот его проклял. Примерно через неделю у Вандерса разболелся живот, и он слег в постель. И так оттуда и не выбрался, к огромному горю родных.
Догерти тщательно обследовал Вандерса и мрачно покачал головой. Это загадка, констатировал он и уехал. Но на следующий день вернулся.
– Я разыскал знахаря и заманил его на кладбище, – объявил врач. – А там сбил с ног, прижал к земле и пригрозил, что, если он мне в точности не расскажет, какому именно проклятию вас предал, и не даст мне противоядие, я убью его на месте.
Глаза у Вандерса расширились.
– И что он сделал?
– Сначала, конечно, здорово сопротивлялся, но в конце концов сдался. – ответил Догерти. – И я должен признаться, что за все годы в медицине никогда не слышал ничего подобного. Вот что он, оказывается, сделал. Ввел вам в живот яйцо ящерицы, а затем заставил ее вылупиться. И боль, которую вы испытывали все эти полгода, причиняла ящерица – она ела вас изнутри!
Глаза у Вандерса уже почти выскакивали из орбит.
– Но вы хоть что-то можете для меня сделать, доктор? – умолял он.
Догерти успокаивающе улыбнулся.
– К счастью для вас, – сказал он, – человеческий организм необыкновенно живуч, и большая часть повреждений не смертельна. Так что мы будем принимать противоядие, которое знахарь нам любезно предоставил, подождем и посмотрим, что получится.
Вандерс с энтузиазмом кивал.
После того как пациента десять минут неудержимо рвало от сильного средства, которое он ему дал, Догерти открыл свою сумку. Внутри была ящерица, которую он купил в местном зоомагазине.
«Ага! – объявил он, торжествующе держа ее за хвост. – Вот и виновник!»
Вандерс взглянул, и его снова вырвало. Догерти быстренько убрал несчастную рептилию назад в сумку.
«Чтобы вас больше не волновать, – заявил он. – Худшее уже позади, и вы скоро встанете на ноги».
И ушел.
И действительно, впервые за много месяцев Вандерс уснул сном младенца. А утром, когда проснулся, с аппетитом позавтракал яичницей и мамалыгой.
Убеждение. Уговоры. Едва заслышав это слово, мы тут же представляем себе череду агентов по продаже подержанных машин, сладкоречивых политических деятелей, разных болтунов, пустозвонов, подхалимов и прочих прельстителей, так и норовящих забить наши серые клеточки и нейроны всяким мусором. Такое уж это слово. Будучи, несомненно, одной из наиболее интересных и востребованных смежных областей социопсихологии, убеждение, при всем том, обладает и сомнительной, отчасти даже мрачной репутацией – этакий район трейлеров и баров, изобилующий неоновыми вывесками стрип-клубов. В котором оно, конечно, чаще всего и срабатывает.
Но за понятием «убеждение» кроется нечто большее, чем дешевая болтовня и громкие иски. Или, применительно к нашему примеру, громкий разговор и дешевые иски. Ведь знахарь и врач борются (причем буквально врукопашную) за здоровье местного жителя. Знахарь наносит удар сродни нокауту. Врач перехватывает удар и без труда поворачивает ситуацию в свою пользу. Этот рассказ о шамане и флипнотизере олицетворяет влияние в его самой простой, самой чистой форме: сражение за умственное превосходство. И все-таки откуда берется умение убеждать? Почему срабатывает? Почему то, что на уме у меня, будучи облеченным в слова, оказывается в состоянии изменить то, что на уме у вас?
Древние греки, у которых бог или богиня, похоже, имелись на любой случай жизни, уж конечно, не обошлись и без божества убеждения. Пейто, или Пифо (в римской мифологии – Свада), была спутницей Афродиты (Венеры) и часто изображалась в греко-римской культуре с клубком серебряной бечевки. Конечно, в наше постдарвиновское время с его теорией игр и развитием нейровизуализации мы стали видеть вещи немного по-другому. И пока боги пребывают в затруднении, а греки больше интересуются баскетболом, мы склонны черпать информацию в другом месте. В науке, например. Или на ток-шоу Опры Уинфри.
В этой главе мы обратимся к эволюционной биологии – и обнаружим, что тайная история убеждения куда длиннее, чем мы, или даже боги, могли себе представить. Мы отправимся на поиски самых ранних форм убеждения – существовавших еще до появления языка, сознания, самого человека – и придем к потрясающему выводу. Способность к убеждению не просто свойственна всем земным существам, она является такой же частью естественного хода вещей, как и появление самой жизни.
«Муррбеждение»
Обратите внимание на современные, сияющие, стеклянные здания, которые конструируют архитекторы для благополучных, богатых зеленью, обсаженных деревьями пригородов. Такое раздолье для птиц…
В 2005 г. в Кембриджском отделении по изучению когнитивной и мозговой деятельности при МИС (Медицинском исследовательском совете) случилась неприятность с голубями-камикадзе. Внутренний двор недавно выстроенного лекционного зала оказался местом птичьих самоубийств, где с десяток особей ежедневно бились грудью в окна здания. Выяснить причину не составило труда. В стеклах отражались окружающие деревья и кусты. И птицы – как и полицейские, арестовавшие Генри Луи Гейтса в Гарварде (см. главу 5), – не видели разницы между отражением и действительностью. Что делать?
В отличие от диагноза, «лечение» оказалось намного труднее. Занавески, картины, даже чучела – ничего не помогало. И вот однажды у Банди Макинтош, одной из исследователей, работавших в здании, появилась идея. Почему бы не поговорить с птицами на их собственном языке?
Так она и поступила.
Макинтош вырезала из цветного картона силуэт орла и прикрепила его в окне. Глубоко в птичьем мозгу, рассуждала она, должен быть как бы ментальный пульт управления; своего рода примитивная приборная панель, на которой при виде силуэтов хищных птиц загораются световые сигналы опасности. Как только какой-либо хищник оказывается в поле зрения, например, голубя, немедленно вспыхивает красный – и мгновенно включается древнее, выработанное эволюцией «силовое поле», отталкивая птицу и уводя ее в сторону от опасности.
Проблема была решена.
Общение с животными на их родном языке (как, недолго думая, и поступила Банди Макинтош, воспользовавшись картоном и ножницами) подразумевает изучение синтаксиса этой биологической речи. И если вы думаете, что на это способны только люди, вы здорово ошибаетесь. Биолог Карен Маккомб из Университета Сассекса выяснила кое-что интересное о кошках: те применяют специальное «провоцирующее» мурлыканье, побуждая хозяев положить корм в миску.
Маккомб и ее сотрудники сравнили реакцию владельцев кошек на различные виды мурлыканья и выяснили, что мурлыканье, зафиксированное в тот момент, когда кошки просили есть, было более раздражающим и настырным, чем мурлыканье, звучавшее в другой ситуации, хотя оно было не менее громким. Разница – в высоте тона.
Выпрашивая еду, кошки выдают классическое «противоречивое сообщение» – сочетают довольное, низкое мурлыканье с напористым, высоким воплем. Тем самым, по мнению Маккомб, они не только оберегают себя от мгновенного изгнания из спальни (одним только высоким тоном), но и пробуждают древний инстинкт млекопитающих – опекать уязвимое, зависимое потомство (подробнее об этом позже).
«Сочетание вопля с призывом, который мы обычно связываем с неудовлетворенностью, служит весьма тонким средством вызвать нужную реакцию, – поясняет Маккомб, – и, с точки зрения кошки, провоцирующее мурлыканье, вероятно, понятнее людям, чем обычное мяуканье».
Или, выражаясь иначе, кошки, не обладая лингвистическим багажом в 40 000 слов (предполагаемый словарь среднестатистического англоговорящего взрослого), имеют в своем распоряжении более быстрое, более незамысловатое и более эффективное средство убедить нас поступить по их указке. Точно такую же стратегию применила Банди Макинтош, чтобы «поговорить» с кембриджскими голубями. В этологии для этого есть специальное понятие – ключевой стимул.
Доходчивее, чем словами
Ключевой стимул – это влияние в самой чистой его форме. Точный, 100-процентный контроль сознания – областей сознания, не связанных с языком и мыслительной деятельностью, – который, словно умелый выстрел, попадает прямо в яблочко. Ключевые стимулы просты, однозначны и понятны всем: убеждение как оно есть. Официальное определение, конечно, несколько иное: ключевой стимул – это спусковой механизм, активирующий нечто вроде фиксированной последовательности действий, врожденного поведения, которое, раз начавшись, продолжается непрерывно до логического завершения. Впрочем, это примерно одно и то же.
В мире природы можно найти многочисленные примеры ключевых стимулов. Не в последнюю очередь это касается спаривания.
Одни стимулы являются визуальными, как силуэт орла Банди Макинтош.
Другие – акустическими, как провоцирующее мурлыканье.
Третьи – связаны с движением (как танец рабочей пчелы, которым она сообщает товаркам, где находится источник пищи).
Некоторые стимулы включают все три составляющих. Chiroxiphia pareola известен кобальтового цвета оперением, сладкозвучной нежной трелью и сложным ритуалом ухаживания (в котором, помимо самого самца, участвует еще и группа поддержки из пяти особей). Нет, Chiroxiphia pareola – это не чье-то прозвище, а латинское название (синеспинный красноногий манакин) тропической певчей птички, обитающей в дебрях джунглей Амазонки. Мозг у нее размером с горошину.
Chiroxiphia pareola вовсе не является членом Сообщества соблазнителей[2]2
Сообщество соблазнителей – это группа пикаперов-профессионалов, которые для обольщения женщин используют принципы эволюционной социопсихологии. Сообщество и его методики описаны в книге Нейла Штраусса (Neil Strauss. The Game: Penetrating the Secret Society of Pickup Artists. Canongate, 2005).
[Закрыть]. Однако же вы не сможете сообщить ему хоть что-то новое о том, как привлечь внимание. Встречая подходящую самку, самец любого вида не разводит церемонии. Хотя… на самом деле как раз наоборот. Вне себя от восторга он немедленно начинает выплясывать. И выигрывает.
У некоторых видов лягушек язык любви состоит прежде всего из звуков. Зеленая древесная лягушка – одна из наиболее легко узнаваемых тварей в Луизиане, особенно если вы устали и пытаетесь заснуть. Более известная как лягушка-колокольчик (из-за характерного звука ее брачного призыва, который напоминает бряканье колокольчика: «квон-квонк-квонк»), она одинаково хорошо себя чувствует и в водоемах, и в придорожных канавах, и в реках, и в болотах. Не говоря уж об освещенных верандах, где она, наверное, кормится нашим недосыпанием.
Звуковой арсенал лягушки-колокольчика на деле гораздо сложнее, чем кажется. Например, издавая призывы в унисон, отдельные особи часто координируют свои усилия – и кажущаяся какофония нередко превращается в своеобразную гармонию (хоть и совершенно невыносимую!): «квонк-квак, квонк-квак, квонк-квак».
Исследование также показало, что самцы склонны менять призывы в зависимости от обстоятельств. Например, в сумраке на дальних подходах к «брачной» заводи они сперва издают предварительный «территориальный» зов (который диктует другим самцам отступить), а затем, уже приближаясь к ней и начиная бесцеремонно толкаться, переходят на этакое сварливое бормотание.
Только оказавшись в самой заводи, они по-настоящему демонстрируют свои силы, и мощь их «квон-квонк»-хора к финалу нарастает до силы настоящего гимна. И настолько звучна эта брачная песнь любви, что самки лягушки-колокольчика способны слышать ее с расстояния в 300 метров. Потрясающий показатель, как ни странно, не вызывающий восторга у местных жителей.
Кваканье и схватка
До сих пор на примере птиц и лягушек мы рассматривали такое влияние, которое представляет собой честное, последовательное убеждение, миллион раз встречавшееся нам в человеческом обществе; единственное отличие состоит в том, что эти твари действуют эффективнее. От обнаружения потенциального партнера до уяснения, что успех дела зависит от общности «языка». А трудно найти бóльшую общность, чем ключевой стимул.
Но важность этого общего языка – взаимопонимания, или сопереживания, эмпатии[3]3
В этой книге я довольно свободно использую термины «сопереживание» и «эмпатия», подразумевая способность «налаживать контакт» – умение выстраивать отношения таким образом, чтобы акцентировать внимание на характерных особенностях объекта.
[Закрыть], – для убеждения становится еще острее, когда мы рассматриваем совершенно иной род влияния: мимикрию: представитель одного вида притворяется своим для другого или использует его особенности в собственных целях (хотя это может происходить и внутри одного вида).
Давайте еще немного поговорим о лягушках-колокольчиках. Для большинства лягушек процесс брачных игр незыблем. Посмотрим правде в глаза: когда все, что вы можете делать, это квакать, простора для маневра немного. Происходит то, что и должно происходить. Самцы просто сидят и квакают… а самки, если повезет, припрыгивают туда. Проще некуда. Но лягушки-колокольчики себе на уме. Эти тварюшки внесли элемент надувательства в неизменный вроде бы порядок, и довольно часто в общий хор совершенно незаметно прокрадываются отдельные безмолвные прихлебатели.
Это свидетельствует о несокрушимой изобретательности естественного отбора. Подумайте вот о чем. На призывное кваканье всю ночь напролет расходуются немалые запасы жизненной энергии. И в результате может произойти одно из двух. С одной стороны, усердно призывающий может потерпеть неудачу, и – изнуренный – поползет ловить такси. С другой – ему может и повезти, и он продолжит свой род в брачной заводи. Но в действительности совершенно не важно, на какой ноте закончится вечеринка. Понаблюдайте, что всегда происходит на площадке брачных игрищ, когда оттуда, заморившись, сматываются ее основные обитатели. Внезапно спросом на рынке начинают пользоваться молчаливые пришельцы.
Ситуация разворачивается в пользу не издавших ни «квонка» воров идентичности, которые получают возможность сорвать свой куш. Любая ничего не подозревающая самка, появившись уже после отбытия «квонкеров», обнаруживает, что ничего вроде бы и не изменилось – претенденты на ее благосклонность на месте, только ей невдомек, что это – безмолвные самозванцы. Но видит ли она разницу? Практика говорит: не видит[4]4
И воровство идентичности не единственный вид мошенничества, к которому прикладывают руку эти повесы-двурушники. Психопаты из числа лягушек-колокольчиков – этакие члены Братства неквакающих – обычно нападают на своих изнуренных приятелей-«квонкеров», в самую последнюю минуту выпрыгивая из тени и перехватывая самок: тех самых, которым их измученные коллеги только что всю ночь распевали серенады.
[Закрыть].
Сам себе режиссер
Как орудие убеждения мимикрия весьма изобретательна. Если ключевой стимул – это влияние в чистом виде, то мимикрию можно назвать эмпатией в чистом виде. Как и ключевых стимулов, существует несколько видов мимикрии – и множество проявлений, и далеко не невинных, как мы только что видели.
Начнем с наиболее очевидной формы – визуальной мимикрии, той самой, которую приняли на вооружение отмалчивающиеся лягушки-колокольчики по всей Луизиане. Но, в зависимости от масштаба биологической фальсификации, а также от ее сложности, наряду с визуальными стимулами на вооружение могут браться и слуховые, и обонятельные.
Удачный пример такой гибридной мимикрии обнаруживается у растений (говоря, что убеждение неотделимо от естественного порядка вещей, я подразумевал именно это). Сумчатый гриб Monilinia vaccinii-corymbosi является патогеном растений, который поражает листья черники, заставляя их выделять сахаристые вещества, такие как глюкоза и фруктоза.
В результате происходит кое-что довольно интересное. Листья начинают вырабатывать «нектар», таким образом мошеннически выдавая себя за цветы, и начинают, подобно цветам, привлекать насекомых-опылителей, притом что фактически на цветы ничем, кроме запаха, они не похожи и выглядят как листья. Но обо всем остальном позаботился естественный отбор.
Пчела садится, полагая, что сахаристое вещество – это нектар. Пьет его, ползая по листу (а в это время споры гриба облепляют ее брюшко), затем перемещается, как и положено, на цветок черники, где эти же споры переходят на завязь. Там, на завязи, гриб размножается, порождая мумифицированные несъедобные ягоды, которые «дремлют» всю зиму, чтобы весной заразить растения следующего поколения. Умно, да?
Но на этом махинации не заканчиваются. Есть, оказывается, у этого ботанического любовного треугольничка и другой уровень.
Запах, издаваемый листьями черники, не единственное искушение. Как показал анализ, зараженные листья также отражают ультрафиолет, который при нормальных обстоятельствах поглощают и который как раз цветы испускают в качестве ненавязчивой приманки для насекомых. Вот так, оказывается, листья умыкнули не один аспект цветочной идентичности, а целых два – визуальный и обонятельный. Согласитесь, действительно умно для любых грибов.
Паутина обмана
На самом деле проделки этого сумчатого гриба как пример мимикрии несколько необычны. Как правило, вместо того чтобы вовлекать в надувательство третье лицо – в нашем случае – листья, подражатель делает всю грязную работу сам. У карликовых сов, например, на затылке есть «ложные глаза», чтобы дурачить хищников, полагающих, будто они все время в поле зрения. У бабочки-совы, наоборот, на другой стороне крыльев есть пятна в форме глаз, так что «с тыла» она напоминает сову.
У другого вида бабочек, хвостаток, которые даже перещеголяли своих сородичей, как и у многих видов насекомых, концы крыльев имеют темный оттенок и «усики» из темных волосков. Когда бабочка складывает крылья, эти усики, сливаясь с темными пятнышками на крыльях, образуют ложную головку. Одураченная хищная птица пытается склевать бабочку «не с того конца». Не зря же говорят, что одна голова хорошо, а две лучше.
Куда менее невинный отвлекающий маневр имеет хождение в мире паукообразных. Золотой паук-кругопряд (весьма часто встречающийся в Новом Свете) получил свое красочное наименование благодаря великолепной золотистой паутине, которую прядет в заметных, ярко освещенных местах (на первый взгляд не самая блестящая идея, чтобы раздобыть себе обед, если вы паук).
Но в безумии золотого паука есть своя метода. Исследования показывают, что пчелам, вопреки здравому смыслу, легче не попасть в паутину именно тогда, когда по идее им это должно быть труднее: при слабом освещении, когда нити сложнее заметить и желтый цвет нечеток. Почему? А вы поразмыслите. Какой, по-вашему, самый распространенный оттенок у нектароносов?
Эта теория была подкреплена остроумными экспериментами, в ходе которых цвет паутины был изменен. Если с определением «опасного» цвета – например, красного, синего и зеленого – и, позднее, с умением их избегать у пчел не было затруднений, то с желтым постоянно возникали серьезные проблемы.
Аналогичные уловки обнаруживаются и у насекомых. «Медовая ловушка» – весьма распространенный прием среди самых известных секретных агентов Голливуда, но кто-нибудь задавался вопросом: откуда она взялась? За примером далеко ходить не надо – возьмем хоть светлячков. Исследования показали, что в брачный сезон самки рода Photinus испускают точно такое же свечение, как и самки рода Photinus.
Но это не все. Исследования выявили кое-что еще. Ничего не подозревающие самцы рода Photinus, направляясь на призывный свет этих роковых самок, попадают вовсе не туда, куда мечтали. Их съедают. У меня как-то было свидание, напоминающее эту ситуацию.








