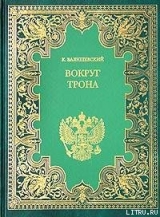
Текст книги "Вокруг трона"
Автор книги: Казимир Валишевский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
Если верить историку-специалисту, Малороссия выиграла от такой перемены. Не будучи человеком злым, экс-гетман был нерадив, и его подчиненные теснили страну. Характер его соответствовал уму, а последний не представлял ничего выдающегося. Однако, лишившись своего высокого официального положения, но еще более обогатившись в 1771 г. смертью брата, оставившего ему сто тысяч крестьян, он начал себя держать с высокомерной независимостью, не лишенной величия, и, занимая особое положение, на неприкосновенность которого и сама Екатерина, по-видимому, не посягала, некоторым образом стал особняком среди толпы, сгибавшейся в три погибели под повелительным взором монархини. Когда в 1776 г. Григорий Орлов, вопреки закону, женился на двоюродной сестре, девице Зиновьевой, Разумовский, как член Сената, отказался подписать постановление, по которому супруги разводились и заточались в монастырь. Это – заявил он – значило бы нарушить другой закон: закон, запрещавший бить лежачего. Однажды он подписал все же приговор, продиктованный самой Екатериной, и прибавил при этом: «подписываю, как судили». Когда кто-то, желая сказать ему любезность, выразил удивление, почему начальство над действующей армией в войне с Турцией поручено не ему, несмотря на его чин фельдмаршала, а простым генералам, Румянцеву и Голицыну, он ответил: «Да потому, что надо разбить турок, а не быть биту ими».
Он желал, чтоб его ценили по заслугам, и вместе с тем выставлял на вид, что не забывает своего происхождения. Когда один киевский профессор поднес ему обширный труд, касавшийся генеалогии его семьи, он удивился: «Чтó можно было найти, чтобы так расписаться о нем и его семье?» Когда автор прочел место, где венская канцелярия, даруя его брату графское достоинство, связывала его по происхождению с родом Рожинских, Разумовский прервал его: «Да будет вам! Отец мой был простым солдатом, а матушка, святая женщина, дай ей Бог долго здравствовать – дочерью крестьянина; я граф и гетман Малороссии обеих сторон Днепра. Напишите это в вашей генеалогии – и будет». Он приводил в отчаяние сыновей этими постоянными напоминаниями о своем незнатном происхождении; а когда они начинали опровергать его, звонил своему камердинеру: «Ступай, принеси мне свитку, в которой я приехал в Петербург: хочу вспомнить хорошее время, когда пас волов, да покрикивал: цоп! поп!»
Но, не желая скрывать, откуда он вышел, он также не допускал, чтоб забывали, до чего дошел. Когда Потемкин однажды вздумал принять его в халате, он ответил ему такой же вежливостью, появившись на балу фаворита в таком же костюме. Впрочем, и у себя дома он любил выказывать перед гостями непринужденность туалета: ему случалось появляться на парадных обедах у себя в неизменном халате, только надев сверху андреевскую ленту. Но его обеды отличались царским гостеприимством, и присутствовать на них мог всякий, кто желал, согласно обычаю, сохранившемуся еще до последних лет во многих домах, где бывали и французы. У Разумовского на кухне ежедневно истребляли целого быка, десять баранов, сотню кур и прочего в соответствующем количестве. Главным его поваром был знаменитый Баридо, оставленный в России маркизом де ла Шетарди и считавшийся даже выше самого Дюваля, повара-француза Фридриха II. Помимо кулинарии и рецептов, Россия обязана маркизу введением в употребление шампанского, которого он привез 16 800 бутылок в числе своего дипломатического багажа. До тех пор на обедах русских вельмож пили за тостами венгерские вина. Слуг у Разумовского насчитывалось до трехсот: управляющий, дворецкий, главный камердинер, два карла, четверо парикмахеров, маркер при бильярде, ключник, пять кухонных мужиков, швейцар, десять выездных лакеев, два скорохода, казак, четыре лакея, два гайдука, три счетовода, при них два писаря и четыре письмоводителя, два межевика и шесть помощников, десять истопников, три ключницы и т. д.
– Дядя, – стала было говорить ему однажды его племянница, графиня Апраксина, – мне кажется, у вас много совершенно лишнего народу, без которого вы бы могли хорошо обходиться.
– Пожалуй; да они-то не обошлись бы без меня.
Один русский вельможа, уже наш современник, которого упрекали, что он слишком легко проигрывает деньги своим обычным партнерам, ответил так же:
– Если б я чаще выигрывал, то мне не с кем бы стало играть.
Разумовский вел такой расточительный образ жизни до самой смерти. Он не забывал никогда привычек своей родины и во многих частностям сохранил их: простые и грубые малороссийские кушанья – борщ и гречневая каша всегда были его любимыми блюдами. При звуках казацкой бандуры ноги его сами начинали ходить. В подмосковном имении Покровском у него кормились всегда толпы малороссов, рылись пруды, главное, дававшие ему иллюзию далекой родины и доставлявшие случай вести длинные разговоры, в которых он вспоминал свой язык и годы детства. Он пережил Екатерину, но после ее смерти пожелал еще больше уйти в родную среду и переселился в свое батуринское имение. Павел послал туда справиться о нем и досланный получил ответ: «Скажите его величеству, что я умер». Он умер через три года после того, семидесяти четырех лет.
VI
К совершенно иному типу принадлежали иностранные сотрудники, к которым Екатерине, как никак, все же приходилось прибегать. Иначе ей трудно было бы пополнять кадры своего дипломатического персонала, который в России всегда нуждался в этих вспомогательных силах. Екатерине удалось отделаться от Бестужева: состарившийся, изжившийся, растерявшийся ввиду нового положения вещей, этот кондотьер, в котором русского было только заимствованное окончание его фамилии,[8]8
Его настоящая фамилия, унаследованная им от отца, шотландского офицера – была, как кажется, Бест или вроде этого.
[Закрыть] ни на что уже не годился. Екатерина была ему обязана и постаралась заплатить свой долг. Навстречу ему, когда он возвращался из ссылки, императрица послала самого Григория Орлова с придворными экипажами. Она омеблировала ему дом и «снабдила всем, не щадя издержек». Даже испугала Сольмса, посланника Фридриха, жаловавшегося на невероятную слабость императрицы «к этому старому вралю, который топил в вине жалкие остатки своего разума». Бестужев, как известно, всю свою жизнь был завзятым «австрийцем». Императрица даже воспользовалась его долгой опытностью. Вначале ни один шаг в политике как внутренней, так и внешней, не делался без старика; ежедневно записка, быстро набросанная самой Екатериной, призывала его во дворец: «Батюшка, Алексей Петрович, пожалуй, помогай советами!» «Батюшка» приезжал, давал свой совет, иногда даже настаивал на принятии его; но о восстановлении его официального положения и всемогущества, – как он сам того желал, а кругом него надеялись и боялись – не было и речи. Елизаветинский канцлер умер, и Екатерине ни на одну минуту не приходило в голову воскресить его. Не доверяя вполне самой себе, не решаясь безусловно положиться и на Панина, тоже новичка в роли первого министра, она была очень рада иметь между ним и собой этого старого пройдоху в широкой политике. Но он был не более, как руководителем, от которого она избавится при первом повороте, как только сочтет себя способной найти самостоятельно дорогу. Вот почему она и не давала ему определенной, постоянной должности, на которой его прошлое могло бы внушить ему слишком властные притязания. И как живо она от него отделалась, когда пришла подходящая минута! Как она мало стеснялась, прося его сохранить про себя советы, которых у него уже не просили! При этом он начал давать именно такие, которые шли в разрез со взглядами, к которым она наиболее была привержена. Он критиковал ее поведение относительно духовенства; вступался за Арсения Мацевича, непочтительного и непослушного архиерея. Не забыл ли он, что «прежде сего и безо всякой церемонии и формы по не столь еще важным делам головы секли?» Бестужев восставал против применения насильственных мер, клонившихся к возвращению Бирона в Курляндию. Наконец, в Польше он вступился за наследственные права саксонского дома против Понятовского. Это уже был последний удар! Тотчас же после этого, в декабре 1763 г., Мерси, австрийский посланник, мог сообщить князю Кауницу, что он уже не должен больше рассчитывать на влияние экс-канцлера. Оно безвозвратно потеряно. «Как бы он ни ухаживал за Орловым».
Бестужев умер в 1766 г. Карьера шотландца – карьера удивительная, в течение которой мы его видим сначала атташе при русском посольстве в Утрехте, потом камергером великой княгини Курляндской в Митаве и даже английским послом в Петербурге – собственно не принадлежала к царствованию Екатерины: последнее видело только ее закат. То же самое можно сказать о Минихе, этом другом иностранце, произведенном Петром I в маршалы, а Екатериной в строители каналов. Мы не станем рассказывать здесь, каким образом, будучи баварцем по происхождению, он поступил в гессенскую пехоту, сражался под начальством принца Евгения под Уденардом и Мальплакэ, был взят в плен французами при Денэне, перешел в ряды саксонско-польской армии в 1721 г., тридцати восьми лет от роду очутился в свите Петра Великого, стал главнокомандующим царской армии, и одержав во главе ее блистательные победы, двадцать лет спустя должен был взойти на плаху. Топор пощадил его; он был отправлен в вечную ссылку. Он познакомился с Сибирью, где ему выдавался 1 рубль в день на содержание, и где он должен был давать уроки математики, чтобы не умереть с голоду! Возвращенный Петром III, он пытался спасти для него престол. Екатерина не стала мстить ему, но также и не подумала возвратить ему командование войсками. Она не желала вверять этого поста немцу, притом восьмидесятилетнему старику. Она отправила его в Ревель, где и воспользовалась его инженерными познаниями. По-видимому, он удовлетворился этим и писал «своей благодетельнице» письма, поражающие вдохновением и богатством льстивой фантазии:
«Вы знаете, Милостивейшая Монархиня, что я к Вашему великому имени прибавлю эпитеты:
Императрица-миротворица.
Царица знания.
Восстановительница народного процветания.
Спасение и услаждение народов.
Изумление вселенной.
А для меня, по преимуществу – моя звезда и утреннее светило.
Никогда я не просыпаюсь, чтобы сияние Вашего Величества не озаряло радостью мою душу».
Тут скобка:
«Не доверяйте никому, Ваше Величество, постройку Ладожского канала, никому, кроме меня».
Затем, снова начинаются дифирамбы:
«Никогда не видал я картины более восхитительной, как та, на которой я могу восторгаться героическими и божественными свойствами Вашего Величества:
Какое прилежание к делам государственным!
Какая проницательность!
Какая верность в суждениях!
Какая быстрота в преподании наставлений Сенату!
Какая кротость!
Какая ровность характера!
Какая величественная осанка!
Какая поразительная красота!
Какой блеск!
Какое внимание!
Какое снисхождение!
Какая приветливость!
Какой высокий, гениальный ум и сколько грации в манерах!»
В другом послании придворное красноречие старого корыстолюбца принимает более подходящий оттенок и впадает в тон романический:
«Дозвольте, богиня моей души, прославить, поскольку позволяет моя слабость, божественные качества Вашего Величества и принести на алтаре моего сердца жертву моего обожания и любви к Вашим божественным прелестям»...
Богиня не имела ничего против того, чтобы приносили жертвы «ее прелестям», но нашла, что приносящий их уже переступил черту подходящего возраста. Она пожаловалась Орлову «на пустомельство старика» и ответила:
«Господин маршал, мы чуть не шутя начинаем одно из величайших, давно задуманных дел, и ваши письма очень походили бы на любовные записочки, если б ваша близость к возрасту Патриархов не придавала им достоинства. Но вернемся к делу»...
Следуют три страницы технических подробностей, касающихся работ, запланированных для Ревельского порта. Увы! Через несколько месяцев, кроме этого, несколько сухого, призыва к порядку, у ревельского изгнанника нашлись и другие причины, чтобы отказаться от своих мадригалов. К концу года из-под его пера выходят строки уже совершенно в ином тоне:
«Какое время парадоксов переживаем мы! Я горячо желаю служить Вам, воскресить гений Петра Великого и его славу, обессмертить Ваше имя, уже божественное, а Вы сами... стараетесь связать меня по рукам и ногам. Вы отказываете мне во всякой поддержке и помощи. Вы предпочитаете мне Разумовских и Бутурлиных. Знаю я этих героев! Четырех слов достаточно, чтобы нарисовать их портреты с натуры. Я не завидую им ни в их величии, ни в возвышении, но никогда не перенесу, чтобы меня унижала из-за них»...
И жалобы, сетования, даже брань продолжаются. Старый служака напоминает вдове Петра III, что он вернулся из ссылки с шестью рубашками и рваной шубой, и что до сих пор еще ждет исполнения обещаний, слышанных им от нее на другой день после восшествия на престол, когда она ему сказала: «Надеюсь, мы будем довольны друг другом». Истощив все доводы и потеряв терпение, он высказывает предположение, что ему придется вернуться к своей бродячей жизни; он выражает намерение отправиться на старости лет зарабатывать хлеб в Германию и просит выдать ему его бумаги. На это – долгое молчание со стороны Екатерины и затем, следующее письмо:
«Господин фельдмаршал! Откровенно говорю Вам, что Ваши последние письма вовсе не возбуждают во мне желания отвечать на них. Я приказала канцлеру отправить Вам Ваши бумаги, чтобы Вы могли переселиться в свои немецкие поместья. Я не намерена насильно удерживать кого бы то ни было. Я ненавижу всякое сутяжничество. Таким путем от меня ничего не получишь. Я никому не хочу зла. Я умею забыть вовремя и остаюсь с великим уважением и благодарностью за все приятные вещи, которыми Вы украшали Ваша письма.
Расположенная к Вам
Екатерина».
На этот раз хитрый, раздражительный старик успокоился. Упоминание о его немецких поместьях – остатках его прежних богатств – показывало ему, что Екатерину не обманешь притворными жалобами на бедность по возвращении из Сибири, а ее умалчивание о Бутурлине и Разумовском уясняли Миниху, что он должен относиться к правлению этой немки совершенно иначе, чем представлял себе он и его приближенные. Он утешается писанием «Наброска, дающего понятие о форме правления в России». Напечатанная в Копенгагене в 1774 г. – спустя семь лет после его смерти – эта брошюра долгое время считалась классическим произведением.
VII
Однако из числа лиц, окружавших Екатерину, были люди обогнавшие русских, унижению перед которыми Миних так обижался. Так, иностранными делами заведовал Остерман, сын канцлера императрицы Анны, которого Кауниц называл «автоматом» и про которого Сегюр говорил: «Этот бедный вице-канцлер, не смыслящий ничего в делах». Но он искусно владел официальным, канцлерским языком, носил с достоинством напудренный парик, кафтан с брыжами и прочие принадлежности придворного наряда и не был не на своем месте в стеклянной карете, запряженной шестерней белых лошадей – одним словом, владел всем, на что Безбородко оказывался неспособным. Был у Екатерины Сальдерн – голштинец, занимавший в своем отечестве скромную должность кассира и покинувший ее, унеся с собой кассу. Рюльер говорит про него, что хотя он и соединял в себе грубость крестьянина с педантизмом профессора своего отечества, все же он оказался очень полезным в Польше, при приготовлении первого раздела. Фридрих и Сольмс видели в нем просто плута, посредника при заключении займов, представляющий собой не более чем мошенничество, и вора, кравшего табакерки.[9]9
Записки «Русского Исторического Общества». Т. LXXII, 490—493.
[Закрыть] Однако они тоже не пренебрегали его услугами. Были еще у нее Кейзерлинг и Штакельберг, посланные, как и Сальдерн в Варшаву. Наконец, и главное, у нее был Сиверс, самый совершенный образчик этого рода людей.
Один историк посвятил четыре объемистых тома биографии этого государственного человека. Получился любопытный и восхитительный образец недобросовестности, с которой немец способен говорить о немецких делах и людях. Сиверсу Екатерина давала самые унизительные поручения, исполнение которых не принял бы, может быть, на себя ни один русский. У своего историка этот императорский палач на берегах Вислы и Немана превратился в носителя всех добродетелей, частных и общественных, в героя, почти святого.
Без сомнения любопытную фигуру представлял этот германец, с очень легкой русской окраской, безупречный чиновник и придворный, не оставлявший желать ничего больше: деятельный, образованный, сентиментальный и жестокий, способный на гуманные поступки наряду с проявлениями дикости; соединяющий привычки уравновешенного мещанина с наклонностями разбойника. И он был тоже голштинец. Одному из его дядей, приехавшему в Россию искать счастья, посчастливилось сыграть роль в первой главе романа, превратившего Софью Ангальт-Цербтскую в наследницу Петра Великого: ему было поручено в 1742 году привезти Елизавете портрет будущей невесты Петра III. Племянник нашел, будучи семнадцати лет, покровителя в Петре Чернышеве, которого он сопровождал в Лондон и у которого начал свое дипломатическое обучение. Потом он служил в армии и принимал участие в победах при Гросс-Егерндорфе и Цорндорфе. Но эта карьера была не по нем. Екатерина открыла в нем в 1764 г. администраторские способности и назначила его новгородским губернатором. Эта губерния, имевшая 1700 верст длины и 800 ширины, представляла собой совершенную пустыню: ни полиции, ни почты, ни дорог; развалины дворца в главном городе и тюрьма с тысячей двумястами арестантов. Сиверс проявил тут большую деятельность. Через три года Екатерина, в одном из своих писем, советовала, чтобы он не забыл жениться среди своих беспрестанных переездов. Он в это время, действительно, сватался к одной из своих соотечественниц; но не переставал разъезжать. Он строил шоссейные дороги и привез императрице план памятника, который местное дворянство желало поставить «Великой Екатерине». Если верить его биографу, он приезжал очень часто в Петербург для советов с императрицей о проектах реформ, которыми увлекалась тогда Екатерина, – друг философов, Сиверс был главным вдохновителем большинства ее попыток на этом пути. Он сотрудничал в знаменитом «Наказе» Комиссии о сочинении проекта нового уложения и получил, преклонив колени, указ с еще невысохшей подписью, повелевавший губернаторам руководствоваться 9 статьей этого Наказа, провозглашавшей уничтожение пыток. Около этого же времени он принимал участие в устройстве ассигнационного банка, составившего впоследствии краеугольный камень финансовой системы Екатерины, и придумал употребить для первого выпуска ассигнаций запас старых скатертей и салфеток, найденных им на чердаках дворца. Наконец, в 1775 году Екатерина советовалась с ним, и только с им одним, об организации губерний, составлявшей, по словам биографа Сиверса, важнейшее дело царствования. Дело это, без сомнения, было несовершенное, ошибочное в самом своем основании: не затрагивавшее огромной массы крепостных, здание было построено в воздухе и воздвигало над пустотой парадоксальную надстройку из привилегированных классов; но Сиверс сделался генерал-губернатором двух губерний – Новгородской и Тверской, слившихся при новой организации – сделался, так сказать, царьком.
Недолго ему пришлось пользоваться своей властью. В Петербурге было слишком много русских, смотревших с завистью и опасением на это немецкое царствование. Правда, у Сиверса существовал в столице усердный, бдительный и очень ловкий защитник: его жена – дамочка очень умная, подвижная, всегда все знавшая и энергичная. До нас дошло несколько ее писем; между ними, например, одно, дающее мастерски набросанную картинку, где находится рассказ о вечере, проведенном при дворе. Императрица играет в карты с Вяземским и Голицыным, двумя отъявленными врагами Сиверса; конечно, не без умысла она выбирает эту минуту, чтоб сказать несколько любезных слов жене генерал-губернатора. Отвечая на них как можно удачнее, приседая так низко, как только позволяет ей ее положение – вечная беременность – г-жа Сиверс видит, как сверкают хищные зубы Вяземского и пронзительные глаза Голицына: оба, кажется, готовы съесть ее. – «О! если б я могла держать их в эту минуту в своих руках, – пишет она на следующий день мужу, – можешь вообразить себе, что бы я сделала с ними». И Сиверс был вполне согласен с ней. Когда же два года спустя, великолепно отделавши свой генерал-губернаторский дом, он пригласил эту любимую и столь полезную супругу переехать к нему, то получил от нее решительный отказ: она встретила при этом враждебном дворе русского, взгляд которого вовсе не походил на взгляд Голицына, и, легко получив развод, переменила фамилию Сиверс на графиню Путятину.
Последствия этой измены не замедляли дать себя знать Сиверсу. Враждебность Вяземского и Голицына уже не встречала отпора и нашла себе новую поддержку в Потемкине, приобретавшем все сильнейшее влияние, а также во все возраставшем равнодушии Екатерины к вопросам внутренней политики. В 1781 г. Сиверсу пришлось подать в отставку. За ним было оставлено управление водными путями сообщения, недавно устроенными в его губернии. Через год у него отняли и эту должность, чтоб отдать ее Брюсу, шотландцу, мужу одной из наперсниц Екатерины. Он удалился в свое имение Бауенгоф в Лифляндии, где прожил десять лет, забытый всеми. Чтобы извлечь его оттуда и вписать в его биографию последний эпизод – может быть, самый блестящий из всех – понадобилась смерть Потемкина и... второй раздел Польши.
После последней попытки к восстановлению и последнего призыва к оружию (май—июль 1792 г.), несчастная республика отдана была во власть победителя. Необходим был ловкий человек, с твердой рукой, который сумел бы сломить сопротивление и положить конец последним вспышкам возмущения. Екатерина вспомнила о Сиверсе. Он знал в Лондоне несчастного Понятовского, тогда простого, младшего сына в семье. Они вместе кутили. Сиверс встретил его в Варшаве королем, полулишенным трона, и должен был докончить его падение. Любопытна и трогательна была, вероятно, встреча этих двух людей под золочеными потолками дворца Вазы. Любопытны также и трогательны письма, писанные в это время Сиверсом к одной из его дочерей, г-же Гюнцель. Жизнь его – пытка! Какое мучение быть обязанным душить такую великую и благородную нацию, унижать короля, достойного лучшей участи! Почести, которыми его окружают. Почтение, которое указывают, как русскому посланнику, ненавистны ему. С каким наслаждением он вернулся бы в уединение Бауенгофа, с его тенистыми аллеями и цветником! Только одни цветы, которые ему присылают сюда, и некоторые сорта, которых он разводит в теплицах своего дворца, вносят немного радости в его жизнь. С какой готовностью он отказался бы от ненавистной должности, если бы не сознавал, что служит в ней делу всего человечества и самой Польши! Он писал именно этими словами и, может быть, действительно думал так. А между тем той же рукой он подписывает распоряжение за распоряжением, выполняя с неутомимой строгостью приказания, получаемые из Петербурга; штыками сгоняет на гродненский сейм избирателей-депутатов, призванных для голосования за расчленение отечества; мучает несчастного короля, «столь достойного лучшей участи», чтобы вырвать у него согласие на путешествие в Гродно, где должна была завершиться его судьба; не останавливается ни перед каким запугиванием, ни перед каким насилием до тех пор, пока ему не удастся потащить туда, как на бойню, и короля, и депутатов, побежденных, окровавленных, задыхающихся.
А там опять новые ломания! Только и речи, что о цветах, которые он находит возможным собирать в импровизированном саду! Сердце его все продолжает, как Варшаве, обливаться кровью при виде страданий, которые он пытается облегчить! Постоянные усилия совести извлечь из стольких зол крупицу добра для порученной ему страны! И трогательное умиление, крокодиловы слезы при пении Камелли, авантюристки, экс-фаворитки короля, дающей в честь Сиверса концерт у папского нунция! А в то же время, повинуясь его приказанию, солдаты Игельстрема направляют пушки на зал сейма и в течение целых суток не выпускают из нее депутатов: ни один не выйдет, прежде чем состоится подача голосов, такая, какую ожидают от них.
Действовал ли он бессознательно, как, по-видимому, находил его биограф? Не уехал ли он из своего тенистого Бауенгофа, не взвесив хорошенько возлагаемых на него обязанностей? Нет: вот письмо к дочери, где он прямо и откровенно хвалится совершенным делом. И затем следует награда: пожалование ему трех тысяч польских крестьян, от которых он не отказывается. Лучший довод в его пользу или, по крайней мере, говорящий за него, исходит с другой стороны. Настает минута, когда в Петербурге находят, что он еще недостаточно сделал, что рука у него не достаточно тяжела. Его отзывают внезапно, позорно, требуют даже денежных отчетов, объяснения в тратах на содержание его дома. Сумма значительная: один стол его в Варшаве обходился в 8000 рублей ежемесячно! Но он защищается; уверяет, что сделал все, чего от него могли ожидать – и сделал достаточно – и, наконец, прямо обвиняет нового фаворита Зубова в том, что тот виновен в постигшей его немилости, получив за это от польских дворян бриллиант, который те поднесли ему, и 20 000 дукатов. Письмо, написанное с неслыханной смелостью и силой, показывает новую черту его характера. Польская компания, по-видимому, пробудила в нем человека, не проявлявшегося до тех пор – немецкого рейтара, дремавшего под хорошо выдрессированным чиновником. Екатерина сделала вид, что не понимает его. Она удовольствовалась тем, что отослала мятежного чиновника в Бауенгоф, где он угас в 1808 г.
Сиверс не был ни героем, ни святым; но в то же время он был человеком не без достоинств. Нельзя сказать того же об его очень многих иностранных коллегах, выписанных за большие деньги или приобретенных на вес золота у соседних дворов, которые оказывались не в силах выдерживать надбавку на аукционе: о граф Рейтерне, вызванном из Голландии; бароне Ассебурге – из Дании. По поводу одного из подобных авантюристов, генерального консула в Константинополе, где он подрывал деятельность своего начальника, посланника Булгакова, давая понять туркам, что скоро заместит его, граф Сегюр писал в 1786 г.: «Этот Фериери один из тех, которые обыкновенно быстро наживаются в России: шутовство, распутные женщины, еда и игра – выше этого он не поднимается».
Но Екатерине не представлялось возможности быть разборчивой. Каковы бы они ни были, иностранцы все же служат ей лучше, чем природные русские, которыми она вздумала бы заместить их. Взять хоть бы Рылеева, которого она во что бы то ни стало желала сохранить во главе петербургской полиции и о котором различные современные записки рассказывают такие забавные анекдоты. Один из них, передаваемый Гарновским, показывает нам в то же время и чисто русский антураж начальника полиции. Банкир Сусерлэнд, у которого украли часы, за что над ним смеялись все знакомые, говоря, что их утащил у него сам Юпитер, чтоб похвастаться ими на Олимпе, – вздумал в свою очередь поднять на смех полицеймейстера.
– Не ищите вора, обокравшего меня, – сказал он, явившись к Рылееву, – мои друзья уже нашли его: это Юпитер.
– Кто это, Юпитер? Где он живет?
– На Олимпе.
– Где это Олимп? Я не знаю такого квартала. А, постойте!.. Уж не Петербургская ли это сторона?
– Нет, – вмешался один из служащих, – я имею кое-какое понятие об этом Юпитере: это ювелир с Мещанской.
И разговор продолжался в том же духе.
У Екатерины, впрочем, была еще причина, побуждавшая ее принимать, не разбирая очень строго, этих искателей счастья-итальянцев или немцев: она сама была из них. И это отражалось на ее русских приближенных. В числе их мы видим мало представителей действительно старинного русского дворянства. Из двух братьев Воронцовых, составлявших лучшее украшение двора, одного отправляют в Англию, как бы в полуссылку, а о другом, министре торговли, граф Сегюр пишет: «Императрица не любит его; сослуживцы боятся; но так как он человек с характером, то, естественно, всегда одерживает верх над тем, у кого характер слабее... Он не особенно умен, мало образован и совсем недальновиден; но очень горд и упрям невероятно».
Сегюр прибавляет: «Говорят, что этот министр отказывается от всякого подарка, принятие которого могло бы бросить тень на него; но одна из причин, заставляющих его держать сторону Англии – это его крупные долги английским купцам; он делает им очень много заказов и не платит. Подобный способ принимать подарки он – как говорят – считает менее опасным и не менее прибыльным.[10]10
Письмо к графу де Вержен 8 апреля 1786. Архив французского Министерства иностранных дел.
[Закрыть]
Екатерине, естественно, волей-неволей приходилось давать предпочтение Сиверсам перед дворянами такого пошиба или русскими выскочками, вроде Теплова.








