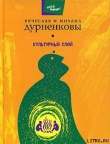Текст книги "Мюнхгаузен, История в арабесках"
Автор книги: Карл Иммерман
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
ТРИНАДЦАТАЯ ГЛАВА
Барон Мюнхгаузен рассказывает историческую новеллу о шести связанных кургессенских косах, но взрыв отчаянья со стороны учителя Агезилая прерывает это повествование, и барон обещает довести его до конца в другой раз [6]6
В этой главе Иммерман пародирует Вальтера Скотта, увлекавшегося пространными описаниями.
[Закрыть]
Там, где на запад – поросшие кустарником возвышенности Габихтвальда, на полночь – цепи Рейнгартвальда, на полдень – скалистый Зеревальд расступаются в широкую равнину, где всевозможными изгибами с юга на север струит свои потоки Фульда, а на восход раскрывается смеющаяся долина, над которой совсем вдалеке возносит свою синюю главу величественный Мейсен, там лежит Кассель...
– О, святые и праведные боги, куда это нас опять заведет! – простонал учитель Агезилай, приведенный рассказом г-на фон Мюнхгаузена в состояние, которое не так легко описать.
– ...Лежит Кассель, столица курфюршества Гессенского. Чистенькие, широкие улицы пересекают Верхний, или Новый, город, где почти все дома имеют отличный вид, в то время как в Нижнем, или Старом, городе преобладают грязь и покосившиеся постройки. Многие красивые площади украшают более красивую часть города, но самая красивая из них – это Фридрихсплац, где возвышается великолепный дворец с длинными рядами красивых окон.
Это было в то время, когда, после счастливой Реставрации, курфюрст Вильгельм [7]7
Вильгельм с 1803 г. был курфюрстом Гессенским. После Тильзитского мира (1807) он потерял трон. Курфюршество было ему возвращено в 1813 году.
[Закрыть] снова вернулся в хоромы своих предков и ввел среди прочих испытанных порядков то удлинение прически, которое принято называть косой. Это время уже давно прошло, и вести о нем звучат, как сказ о потонувшем острове Атлантиде, но историческому повествованию не пристало упускать из виду какого бы то ни было явления прошлого, даже такого, как добрая старая кургессенская коса.
Это было поздно вечером, и жители Касселя уже спали или ложились в постели. Но во дворце, в кабинете курфюрста еще горел свет. Ассамблея уже кончилась, и старый достойный властитель удержал при себе нескольких приближенных. По обыкновению поговорили о междуцарствии и об удивительном перевороте. Курфюрст в форме своей гвардии – камзол с отворотами и ботфорты – стоял, крепко опираясь на камышовую трость с золотым набалдашником. Он сказал:
– Так и будет: я игнорирую все распоряжения, сделанные за это время моим управителем Жеромом... Пострадавшие пусть ищут с моего управителя, которому мы не давали власти самовольно вводить новшества и который подобными деяниями экспедировал свой мандат. Мы знаем, что этим постановлением мы подвергаем себя критике некоторых беспокойных голов, но это не может смутить Нашу совесть и Мы в этом отношении всецело полагаемся на божественное провидение, которое после короткого испытания вернуло Нас в Наши родовые владения и ретаблировало на Нашей территории немецкую верность и честность. Изготовили ли вы эдикт, который лишает приобретателей доменов каких бы то ни было эсперансов на удержание иллегально захваченного ими имущества?
– Это было моей первой заботой, – ответил тайный советник Веллей Патеркул [8]8
Под именем римского историка Веллея Патеркула Иммерман вывел фаворита курфюрста, ростовщика Будеруса фон Карлсгаузена.
[Закрыть], к которому относился этот вопрос. – Действительно, давно пора ретаблировать у нас немецкую верность и честность.
– Меня еще не узнали, как следует, – продолжал, повышая голос, старый, но бодрый курфюрст. – Я уже заставил однажды подметальщиков чистить улицы в новомодных французских костюмах в поучение неженкам и петиметрам, и нет ничего невозможного в том, что такой или подобный пассаж повторится еще раз, если Нас будут слишком раздражать. Наш Кассель превратился при моем управителе в распущенный вертеп, из которого исчезли всякая дисциплина и благонравие.
К курфюрсту подошла молодая дама и сказала ему ласковым голосом:
– Не горячись, папочка, ведь ты же восстановил здесь и дисциплину и благонравие.
После этого она и тайный советник Веллей Патеркул были милостиво отпущены. С курфюрстом остался один только барон фон Ротшильд [9]9
М.А.Ротшильд, возведенный в 1822 году в баронское достоинство, спас капиталы курфюрста, когда тот бежал после заключения Тильзитского мира.
[Закрыть]. Он прибыл в Кассель, чтоб подвести счета со своим августейшим клиентом, который заявил, что не может оставить барону депонированные у него суммы из семи процентов, а вынужден настаивать на восьми.
Этим признанием и сообщением барон фон Ротшильд был потрясен до глубины души. Он клялся именем Авраама, Исаака и Иакова, что это разоряет его вконец, но так как его высокий кредитор продолжал настаивать и пригрозил, в случае отказа, взять вклад обратно, то барон, скрепя сердце, согласился и в утешение прикинул про себя, что его банк взимает по двадцати процентов, так что ему все же остается чистых двенадцать.
Во время этих переговоров курфюрст продолжал невозмутимо сохранять прежнюю позу. Теперь же он распахнул окно, заглянул в ясную, звездную ночь и сказал:
– Когда я консидерирую, что я опять в этом дворце, и сколь интересную прибыль принесли мне тогда английские деньги за мой американский корпус [10]10
В 1776 году Вильгельм продал Англии несколько полков для подавления восстания в североамериканских колониях.
[Закрыть], я говорю: «Ротшильд! Жив еще старый бог и не допустит до погибели».
Барон ответил несколько раздраженно:
– Почему бы не жить старому богу, если еще живет ваше высочество? И какая может быть погибель при восьми процентах годовых?
Пока внутри дворца происходили все эти события, шесть братьев Пипмейер рассказывали товарищам в кордегардии истории с привидениями.
Шесть братьев Пипмейер были шестью сыновьями кастеляна Пипмейера из замка Левенбург. Этот человек, как обычно бывает с такими управителями сеньориальных замков, держался самых лояльных взглядов и воспитал в том же духе своих сыновей. Об этой семье можно было с уверенностью сказать, что в семи индивидуумах билось единое гессенское сердце. Папаша Пипмейер был тем самым человеком, который при въезде курфюрста вскочил на тумбу и, помахивая своей уцелевшей от всех искушений междуцарствия косичкой, кричал: "Ваша светлость! Ваша светлость! А моя висит! А моя висит!" – что, говорят, было первой монаршей радостью престарелого властителя по возвращении в страну. Как только эти шесть сыновей Пипмейеров, которых мамаша Пипмейер на протяжении двух лет подарила своему супругу двумя тройнями, достигли призывного возраста, папаша Пипмейер отдал всех шестерых в один и тот же день в герцогскую косично-гамашную гвардию. Все шестеро были одного роста, а именно в шесть футов и три дюйма, носили совершенно одинаковые гамаши и косы и вообще настолько были похожи друг на друга, что командир приказал полоснуть каждому из них нос другой краской, чтоб отличать их во время службы. Карл Пипмейер получил желтую полосу, Генрих Пипмейер синюю, Фердинанд Пипмейер красную, Гвидо Пипмейер оранжевую, Христиан Пипмейер зеленую, Ромео Пипмейер серебристо-серую и Петер Пипмейер черную. Но вне службы, когда они чувствовали себя людьми, братья Пипмейер стирали эти полосы.
Эти шесть братьев из Левенбурга рассказали другим гессенским караульным следующую историю:
– Вы можете верить или нет, но в те годы, когда наш курфюрст жил на чужбине, он ежегодно в день своего рождения появлялся наверху в замке. В этот день уже с утра в верхних апартаментах бывало неспокойно: шелестели шелковые портьеры, потрескивала кровать с балдахином, бряцали доспехи в оружейной палате, неутомимо махал крыльями на башне флюгерный петух. Мы заметили это и еще многое другое, когда были мальчиками, но не обращали никакого внимания; когда же нам минуло пятнадцать лет и мы конфирмовались, отец отвел нас в сторону и открыл нам тайну замка. Она заключалась в том, что курфюрст, хотя и пребывал далеко в чешской земле, все же ежегодно справлял день своего рождения в родовом замке. А именно в шесть часов вечера, в то самое время, когда встарь за столом сословных представителей провозглашали здравицу и палили из пушек перед лугом, он якобы появлялся в желтой диванной, где висит портрет старого Фрица [11]11
Фридрих Великий.
[Закрыть] в младенчестве, и проводил там с полчаса для своего плезира.
На следующий год отец разрешил нам посмотреть. Мы спрятались за зеленой портьерой в желтой диванной... Что же произошло? Как только часы на замковой башне пробили шесть, слышим мы, как по длинной галерее, ведущей в эту комнату, хлопают двери одна за другой. Наконец распахивается дверь в желтую диванную и входит курфюрст собственной персоной: ботфорты, лосины, мундир, треуголка, букли, словом – тютелька в тютельку. Садится к окну, что выходит в сад, набивает трубку, курит так, что дым столбом идет, изредка поглядывает в сад, покуривши, вытряхивает пепел – который мы потом нашли на паркете – затем встает, тихо выходит из желтой диванной, и мы слышим, как одна за другой захлопываются двери вдоль длинной галереи. Вся желтая диванная была полна дыма – "Варинас, 1-й сорт": все мы семеро, шесть братьев и отец, сразу узнали эту марку.
Когда братья Пипмейер рассказали своим товарищам эту историю, в кордегардии возник жаркий спор, потому что...
Но г-н фон Мюнхгаузен не смог продолжать свой рассказ, так как и в той комнате, где собралось наше общество, поднялся страшный шум. А именно в эту минуту окончательно прорвалось отчаянье, в которое привели учителя Агезилая рассказы барона. Он скинул с себя свою грубую, разорванную пелерину и забегал в короткой шерстяной куртке взад и вперед по комнате, жестикулируя, как сумасшедший.
– Нет, что слишком, то слишком, и всякому человеческому терпению есть границы! – воскликнул он, рыдая. – Глубокочтимый благодетель, прошу тысячу раз прощения за мое невежество, но я не могу больше сдерживаться, я должен высказаться, иначе я погиб с внуками и правнуками! Враки Мюнхгаузена, гомеопатия, кургессенские косы, простокваша, Апапуринказиквиничхиквизаква, Мать-Гусыня, гиппопотамы, покойники, вице-короли Египта, старофранцузские манускрипты, гризетки, юфть, Ротшильд, Варинас 1-й сорт... кто не сойдет с ума от всего этого, у того должны быть менее упорядоченные мозги, чем те, которыми, к сожалению, я обладаю. Г-н фон Мюнхгаузен принимаются рассказывать, затем в этих рассказах начинают рассказывать другие лица, и если сейчас не остановиться, то мы попадем в такую гущу рассказов, что наш бедный мозг безусловно потерпит крушение. Женщины, торгующие коробками, иногда вкладывают их одну в другую по двадцать четыре штуки; с этими рассказами может быть то же самое: кто нам поручится, что каждому из шести братьев Пипмейер их товарищи по караулу не расскажут по шести историй и что таким образом историческая перспектива не уйдет в бесконечность. Г-н фон Мюнхгаузен хотели поведать нам то слово правды, которым ихний дед умертвил триста человек; вместо этого нас переносят на Кордильеры, оттуда в Африку, а теперь мы опять в Гессен-Касселе и не знаем, почему мы туда попали. Г-н фон Мюнхгаузен, я считаю вас великим, удивительно одаренным человеком, но я прошу вас об одной милости: рассказывайте несколько связнее и проще. Вы намереваетесь, как я слышал, оказать честь г-ну барону продолжительным пребыванием в его замке; поэтому вы и сами заинтересованы в том, чтобы с первых же дней не сбить нас с панталыку и духовно не угробить.
После сей речи последовала длительная пауза. Хозяин имел смущенный вид, гость высокомерно глядел прямо перед собой, барышня бросила гневный взгляд на учителя и взгляд, полный восторженного поклонения, на г-на Мюнхгаузена. Учитель стоял в углу, тяжело дышал и казался глубоко потрясенным.
Первым снова заговорил барон Мюнхгаузен:
– Мне жаль, что меня так резко прервали. Я могу заверить, что вполне владею своим материалом и что мои рассказы так же связаны между собой, как и то, что делается у меня в мозгу. Я перенес бы вас снова из гессенской кордегардии к индейцам в изумрудные долины...
– Ах, изумрудные долины! – с упоением воскликнула барышня.
– ...Да, в изумрудные долины, и вы бы вскоре узнали, какую связь имеют шесть кургессенских кос с тем словом правды, которым мой дед лишил жизни триста человек. Впрочем, для некоторых некоторые комбинации являются недосягаемыми.
– Да, да! – Резко и с горечью воскликнула барышня. – Икра – не для черни. Иначе, чем в головах человеческих, отражается в этой голове мир.
Так как после этого приятная беседа как-то все не налаживалась, то старый барон, втайне сочувствовавший учителю, сказал:
– Самое грустное для нас, дорогой Мюнхгаузен, было бы лишиться ваших интересных сообщений.
– Мой дух так устроен, – возразил барон, – что он, подобно часовому механизму, тотчас же останавливается, как только сломан малейший зубец, малейшая пружинка. Все, что последовало за происшествиями в кассельской кордегардии, вся идейная связь между этими событиями и словом правды моего деда, из которого я исходил, все это потеряно теперь навсегда и на веки останется для вас тайной; единственное, на что я еще могу согласиться, это досказать до конца историю о шести связанных кургессенских косах. Затем, если вы хотите меня слушать, я должен буду перейти к другим материям.
Старый барон дружески придвинулся к Мюнхгаузену и ласково зашептал ему на ухо:
– И в отношении этих материй вы постараетесь держаться поближе к стержню, не правда ли, любезнейший Мюнхгаузен? Я прошу вас об этом, не ради самого рассказа, который лучше всего будет передан так, как вы это делаете, но ради наших слабых способностей, к коим вы должны снизойти, если хотите нас просветить.
– В дальнейшем я буду отбарабанивать все подряд, как газета, – ответил Мюнхгаузен. – Во всяком случае, могу вас заверить, что я придерживался самых лучших современных образцов и строил свое повествование так, как меня учили авторы, которые в наше время зажигают и увлекают эпоху и нацию.
ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ ГЛАВА
Начатая историческая новелла благополучно приходит к концу, хотя и самым неожиданным образом
После рассказа шести братьев Пипмейеров возник в кассельской кордегардии, как я уже говорил, большой спор. Несколько гессенцев пытались усомниться в достоверности этой истории и утверждали, что ни один живой человек не может ходить, как привидение. Какой-то скептик из Витценгаузена сказал, что ни один дух не курит трубки, а тем более не оставляет после себя табачного пепла, а потому весь рассказ есть, как он выразился, одно только «выражение воображения» братьев Пипмейеров.
Шесть гвардейцев из Шаумбурга возразили, что с венценосцами дело обстоит несколько иначе, чем с партикулярными; им отпущены некоторые преимущества: они могут быть везде и нигде. Два цигенцейнца воскликнули:
– Если он там был для своего плезира, то мог и курить, а если он мог курить, то могли появиться и дым, и пепел. Один солдат из Гофгейсмара переставил эти предложения, и у него получилось: "Раз, стало быть, Пипмейеры нашли пепел, то, стало быть, он курил, а раз, стало быть, он курил, то, стало быть, он был в Левенбурге".
Количество спорящих все прибавлялось, и шум рос с минуты на минуту. Тут караульный начальник, молодой фендрик фон Цинцерлинг, отпрыск одного из лучших местных родов, крикнул своим высоким дискантом:
– Сукины дети! Чтоб вас разорвало! Перестаньте резонировать!
Спор моментально кончился, и весь караул воздержался из субординации даже от тайных мыслей об этом предмете.
Ночь между тем уступила место первым лучам рассвета, которые ложились красно-желтыми полосами на печь и скамьи кордегардии. Ни с чем несравнимо было действие одного прямого луча, падавшего на верхний цинковый ободок пивной кружки и отражавшегося на набалдашнике фельдфебельской трости, висевшей над нею на третьем крючке. Везде глубокие, насыщенные тона, ясные, прозрачные тени. Кордегардия не походила на реальную кордегардию она казалась чем-то большим, она казалась нарисованной.
Что касается Пипмейеров, то они отстояли свой караул и могли, хоть и не надолго, усладить себя сном. Спокойно лежали они на нарах друг возле друга и похрапывали. Все шесть косичек рядышком свисали с нар для того, чтобы полковой цирюльник мог их заплести, не будя солдат.
В этот момент случилось следующее достойное изумления событие. А именно, в кордегардию вошел полковой цирюльник Изидор Гирзевенцель [12]12
В 1832 г. вышли «Письма из и об Италии немецкого учителя Лебрехта Гирзевенцеля, изданные доктором Эрнстом Раупахом». Имя «Изидор» Иммерман взял из трагедии Раупаха «Крепостные, или Исидор и Ольга». Парикмахером он называет его, вероятно, потому, что Платон в своей «Роковой вилке» выводит Раупаха в этой роли.
[Закрыть].
– Я не вижу тут никакого чуда, – невольно заметил старый барон.
– Все в природе и в истории связано между собой, – сказал г-н фон Мюнхгаузен с достоинством. – Прошу внимать мне, не перебивая; чудо следует по пятам за кургессенским цирюльником Изидором Гирзевенцелем.
– Но ведь этот Изидор не тот же самый?.. – робко спросила барышня.
– Именно тот самый Изидор Гирзевенцель, который с тех пор затопил немецкую сцену невероятным количеством пьес, – ответил г-н фон Мюнхгаузен. – Жизнь этого героического человека, происходившего из хорошего, но захудалого рода в Ольгендорфе, небольшом местечке в Люнебургской степи, сложилась весьма странно. Драматургом он сделался лишь впоследствии, от природы же он безусловно был предназначен торговать кожами [13]13
Раупах долгое время жил в России. Поэтому, вероятно, Иммерман производит его в кожевенники.
[Закрыть]. Первый звук, который издал его младенческий ротик, походил на слово: кожа! Ни деревянные, ни оловянные игрушки не забавляли подрастающего мальчика. Веселое желто-коричневое ружьецо, стрелявшее горохом, вызывало в нем ужас, с отвращением отталкивал он от себя изящно сработанную нюрнбергскую колясочку, невинного рождественского барашка с красными задумчивыми лакированными глазами; зато взгляд его загорался, когда он, бывало, увидит плетку, скрученную из пяти ремней, или ему позволят взобраться на обтянутую кожей лошадку или наденут на него игрушечный патронташ. Позднее он иногда исчезал на полдня из родительского дома. И где же его находили! На одном из кожевенных заводов, которые были главными кормильцами города. Однажды полный юной отваги он даже спрыгнул в дубильную яму, чтобы попробовать, не сможет ли он еще при жизни привести свою кожу в столь любезное его сердцу состояние; к сожалению, его вытащили оттуда слишком рано, так что дубление было проделано только наполовину. Таким образом, не удалось усовершенствование его покровов, хотя специалисты уверяли, что после этого опыта он навсегда остался толстокожим.
О, отцы и воспитатели, вы, на чьей священной обязанности лежит взрастить побеги доверенных вам растений, подойдите поближе и учитесь на этом страшном примере содрогаться перед тем, что может случиться, если вы презрите голос природы и заставите ствол, который стремится вправо, расти налево. Вы не только превратите дерево в жалкого калеку! Нет, оно заразит и соседние стволы! Паразиты, которые заведутся в гангренозной верхушке, разнесут опустошение гораздо дальше, чем вы можете рассчитать или предвидеть!
Изидор Гирзевенцель из Ольгендорфа мог бы стать для Германии таким кожевенником, какого мы еще не видывали. Возможно, что в глубинах его души дремали мысли, ниспровергавшие троны и превращавшие дубленую кожу во властительницу мира. Но отец не понимал сына. Он не понимал чреватых будущностью томлений духа, который, размышляя над шкурами, квасцами, дубильной корой, известью и выделкой замши, высиживает открытия.
– Дорус, ты дурак, – сказал суровый отец, – кожа может выйти из моды; любовь к ближнему сейчас в таком почете, что она способна неожиданно переброситься и на животных; а откуда ты возьмешь тогда кожу, если каждый пес и бык будет тебе братом, каждая овца – сестрой, и мы начнем щадить родственные жизни. Нет, сын мой, ты изберешь ту карьеру, которую я тебе предназначил.
Изидор плакал, впадал в отчаяние, но ни слезы, ни вздохи не смогли умилостивить твердого, как кремень, отца; Изидору пришлось сделаться парикмахером. Это означало, что для света он был простым цирюльником; но для того, чтобы удовлетворить свое тяготение к компактному, чтобы при помощи бесхарактерной помады, бесстрастной пудры хотя бы несколько приблизиться ко всему тугому, кожаному, он в утешение создавал украдкой те удивительные прически, которые мир как будто совсем уже позабыл, предпочтя им естественный пробор и шведскую стрижку.
Я буду краток. Когда старый курфюрст вернулся в Гессен, то первое его пожелание, или, вернее, первый же закон вызвал большое замешательство. Но с ним произошло то же, что нередко случается со многими другими законодательными актами; он остался временно на бумаге, и возникал вопрос: может ли коса стать фактом? Ибо никто не знал лица, которое умело возводить это достойное волосяное сооружение. Правда, у старого монарха был поседевший на этом деле искусник, но уважение к рангу и этикет не допускали, чтобы руки, священнодействовавшие над головой его высочества, могли прикасаться к черепам обыкновенных смертных.
В эту минуту нужды и печали выскочил наш мастер из облака пудры, как Эней из тучи. Он умел завивать, умел помадить и взбивать тупеи, умел заплетать косы любой длины и толщины. Его презентировали, прорепетировали, апробировали, ангажировали. С этого момента государство могло считаться организованным.
– Итак, этот человек вошел в кордегардию... – сказала барышня, которой, несмотря на все ее восхищение перед рассказчиком, хотелось, однако, несколько ускорить ход повествования.
– Пока еще нет, сударыня, – холодно возразил г-н фон Мюнхгаузен, – до этого мы еще не дошли. Историческое повествование требует медленного развертывания событий; почтовые кареты быстро двигаются по дорогам, но, как вам хорошо известно, наши романисты все еще пользуются в своих произведениях желтым саксонским дилижансом, который некогда циркулировал между Лейпцигом и Дрезденом и тратил три дня на это путешествие, разумеется, при хорошей дороге.
Большая психическая революция произошла в нашем Изидоре в годы ученичества. Его видели одиноко скитающимся по лесам, "бежал он сверстников толпы", но ах! цветов он не ищет на поляне, чтоб ими украшать любовь! Любовь умерла в этой груди; мрачная морщина недовольства пересекла задумчивый лоб, в нем созревали решения, которые на горе современникам превратились в темные поступки. Брадобрей по воле провидения, кожевенник по призванию, парикмахер из смирения, он сделался драматургом из человеконенавистничества, за коим, увы, и по сей день не последовало раскаянья. Да, друзья мои, все те трагедии, в которых герой вынужден чистить сапоги своего брата, а возлюбленная утешает его видением того мира, где от него больше не будет разить ваксой, все те трагедии, где ландрат Фридрих Барбаросса рассказывает о своих служебных неприятностях, податной инспектор Генрих Шестой изводится, собирая недоимки, или бравый, просвещенный пастор Фридрих Второй из Гильсдорфа затевает проклятую возню с лионской консисторией из-за рационализма, а камергеры (по существу, уборщики) являются единственными действующими персонажами, да, друг мой, все эти трагедии – и, о господи! сколько еще других – родила мизантропия Гирзевенцеля [14]14
Это место является сатирой на драму Раупаха «Гогенштауфены». Раупах написал 16 драм этого цикла, которые не лишены занимательности. В них восхваляется королевская династия, а католическая церковь выведена в жалком виде, что и вызвало критику Иммермана.
[Закрыть]. Мы были бы избавлены от всего этого, если бы ему было дозволено последовать своему истинному призванию.
– А разве нет никакого средства предотвратить дальнейшее развитие этого зла? – со странным смущением спросила барышня.
– О, сударыня! – вдохновенно воскликнул Мюнхгаузен. – Вечной истиной останутся слова нашего Шиллера: "Чего не видит разум мудреца, то в простодушьи зрит душа младенца". Вы в своем простодушии набрели на великую мысль. Теперь, когда в такой моде всякие подписки, мы откроем подписку по всей Германии, чтобы соединенными силами нации купить Гирзевенцелю кожевенный завод в Силезии среди онемеченных полячков, усластить ему вечер его жизни и освободить от него сцену. Я уверен, что даже наши монархи, которые принимают так близко к сердцу поэзию и литературу, пожертвуют сколько-нибудь на это дело, скажем, гульден или талер, в зависимости от того, управляют ли они страной гульденов или талеров. Ну, а теперь продолжим наш рассказ.
Когда мысль о загубленной жизни вспыхнула в Изидоре с особенной отчетливостью, он воскликнул: "Раз вы не допустили меня до кожи, то я, не будучи в состоянии отнять у вас самую жизнь, по крайности, испорчу вам картину жизни – сцену".
Мои предшественники по ремеслу, Ифланд и Коцебу, сделали из ничтожеств героев; я хочу сделать обратное и превратить героев в ничтожества. Мюльнер [15]15
Адольф Мюльнер (1774-1829) – автор фаталистической трагедии «Преступление». Иммерман неоднократно высмеивал его.
[Закрыть] действовал на зрителей преступлением и кровью, Говальд [16]16
Эрнст фон Говальд (1773-1845) – автор драмы «Картина», героиню которой зовут Камилла, что по-немецки означает «старая сказка». Муж Камиллы бежит, его приговаривают заочно к повешению и вздергивают его портрет.
[Закрыть] старыми Камиллами и портретами, достойными виселицы, а я хочу действовать скукой. Я хочу поднять скуку до драматической динамики, сонливость моих персонажей должна порождать катастрофы. Мои герои предпочтут умереть или подвергнуться любому другому бедствию, чем сучить канитель моей фразеологии. Я хочу написать вам пьесу под названием «Король Генциан», пьесу, где вы не увидите ни звезды загробной надежды, ни ночи Тартара под ногами низверженного злодея, ни чистого отречения в пустыне или монастыре, а меблированную комнату в скале, сверху снабженную крышкой, где у зевающего постояльца и его зевающей возлюбленной не окажется иного дела, как плодить детей, которые при рождении вместо крика тоже будут зевать. Истинно, истинно говорю вам, болезнь, именуемая холерой, поразит нашу часть света. Лекари будут ломать себе голову над тем, откуда взялся микроб, занесший заразу, и никто не должен догадаться, что он выполз из ямы, в которую я запихнул «короля Генциана». Горе тебе, Санд-Иерусалим [17]17
Под Санд-Иерусалимом Иммерман подразумевает Берлин, скомбинировав это название из двух, употреблявшихся Пюклер-Мускау, – «Сандомир» и «Новый Иерусалим».
[Закрыть], ты, который мирволишь иудеям и постоянно распинаешь пророков! Тебя дважды поразит холера, ибо ты не раз будешь ставить моего «Генциана»! Я хочу написать двадцать один миллион триста два с половиною стиха, следовательно, на полстиха больше Лопе де Веги; они будут стоять у меня шпалерами, как ломбардские тополя на шоссе от Галле до Магдебурга, и это чудо будет превзойдено только той поистине сказочной смелостью, с которой я буду утверждать, что никогда не написал ни одного некрасивого стиха. Но я не собираюсь дразнить театр ошибками и причудами; я хочу нивелировать, обескровить и изнурить сцену. Я не выпущу из-под своего пера ни одной строчки, к которой могла бы придраться даже китайская цензура; я хочу быть вполне правительственно-бюджетным поэтом, но в то же время не перестану заверять, что меня вдохновляют до слез великие исторические эпохи, не ведавшие ни о каких бюджетах. Надо бренчать: это входит в ремесло. Истинно, истинно говорю вам, наступит время, когда артисты будут играть мои пьесы во сне, публика будет спать, а критик Готшед, похрапывая после обеда, будет стряпать на следующий день рецензию для какого-нибудь веленевого листка, в которой он скажет, что новое гениальное произведение моего пера вызвало в публике энтузиазм. Словом, я быть хочу самим собой и лишь себе подобен.
Как Изидор сдержал свое слово, об этом знают просвещенные надворные советники, юстиц-советники, тайные секретари и биржевые маклеры, которые одни только и составляют сейчас публику санд-иерусалимского театра. Ни одна девушка не крадется утром или под вечер по саду (где цветет желтая настурция и вьюнок качает на своем стебле мотылечка или сверкающего золотисто-зеленого жука) к сиреневой беседке с томом его пьес "серьезного и комического содержания" (я удивляюсь, что он не сказал "сорта") и не вычитывает из них, тайно пылая, секреты своего бьющегося сердечка; ни один студент, расставаясь в винограднике у реки со своим товарищем юности и обмениваясь с ним альбомом, не впишет туда ни одного стиха Изидора; ни один художник не вдохновится для своей картины его так называемыми героями. Кто к шести часам вечера еще сохранил остатки хорошего настроения или кто приглашен всего только на роббер виста, тот обегает здание, в котором Изидор открыл свою драматическую харчевню для нищих и где он ублажает Готшеда и кормит пресыщенных иерусалимцев. Ему удалось привести в исполнение свою дьявольскую угрозу. Да, теперь они молотят трижды обмолоченную пустую солому и перетряхивают лузгу, которыми даже трактирщик Ангели не стал бы кормить своих четвероногих гостей [18]18
Луи Ангели (1787-1835) – актер и автор фарсов, имевших успех. Покинув сцену, он стал хозяином постоялого двора.
[Закрыть]. Благодаря Изидору театр дошел, что называется, до шпеньтика. Вот этот, действительно, умел обращаться с немцами! Искры гения не в состоянии воспламенить эту так называемую нацию. Разве подожжешь мокрую шерсть? Тут надо все время делать одно и то же, все равно с каким результатом; тогда они скажут: «Этот, вероятно, знает свое дело». Будучи хорошими хозяевами, они вообще интересуются только тем, чтобы литературный инвентарь был разнесен по соответствующим рубрикам. Не подвернись им Гирзевенцель, они нашли бы второго Кронека, или Геллерта, или Вейсе. Изидор, вечером совершенно изничтоженный критикой, воскресал наутро с тремя посредственными пьесами, которые, как эхо, повторяли все поставленные ему в упрек глупости. Люди же говорили: «Он свое дело знает; так и надо». Даже героизм спасовал, наконец, перед стойкостью промышленного производства; фабрике предоставили гудеть и наматывать, не пытаясь больше вставлять палки в ее колеса, благоухавшие рыбьим жиром. Но в Валгаллу он не попадет, если только она вообще будет достроена, и сохранит свое назначение, а не превратится со временем в пивоварню [19]19
Валгалла – нечто вроде пантеона возле Регенбурга, открыта уже после выхода «Мюнхгаузена».
[Закрыть]. Граф фон Платен попадет туда, и ему там место, несмотря на все его глупости и промахи, но Гирзевенцель не попадет, напиши он хотя бы еще двадцать один миллион стихов. Впрочем, еще неизвестно, умрет ли он вообще и не будет ли смерть засыпать от скуки каждый раз, как его увидит.
Итак, исцели, господь, немецкий театр!
Спугнутая с подмостков Мельпомена сидит в подвале, там, где рабочие возятся с трапом и превращениями; кинжал выскользнул из обессиленных рук и ржавеет в сырости; в сырости же валяется маска, предназначенная прикрывать и скрашивать обыденность человеческих лиц; вся она уже заплесневела, и один из рабочих приплюснул ей нос каблуком. Над головой Мельпомены, на подиуме, лезет из кожи вон шумливый выскочка со своими трескучими, деревянными ямбами. Ах, несчастная! Даже плакать она больше не может! Изидор заразил ее сухим насморком и с жестоким издевательством требует теперь от нее, чтобы она научилась нюхать макубу [20]20
Тонкий нюхательный табак.
[Закрыть], которая помогает ему от всех недугов.
Все это общеизвестно, но не многие знают, что все его пьесы, которые с тех пор просачивались из-за кулис, как неиссякаемый источник помоев, были изготовлены нашим трагиком в часы досуга, когда он еще занимался косами и прическами. Да, друзья мои, все они были сфабрикованы про запас; манускрипты лежали в его мастерской среди прочих вещей и изделий, приблизительно в таком порядке: фальшивая коса, затем "Земная ночь" и парик, "св.Геновева" и помада, "Рафаэль" и пудреница, "Школа жизни" и т.д. [21]21
Пьесы Раупаха.
[Закрыть] Поэтому ему было нетрудно завалить рынок Санд-Иерусалима своими товарами.
Однако я чувствую, что у меня не хватает красок для этого полотна и что кисть моя слишком тупа. Чтобы развертывать такие глубокомысленные эстетико-поэтические картины душевных переживаний и чтобы эти картины были ясны всякому, как шоколад, для этого нужно быть Гото, который в своем "Опыте изучения жизни и искусства" показал на собственной биографии, что можно сочинить "Дона Рамиро", писать эстетические статьи для "Ежегодника научной критики", издаваемого Обществом научной критики, и в то же время принимать себя всерьез [22]22
Гегельянец Гейнрих Густав Гото (1802-1873), профессор Берлинского университета, приверженец Раупаха. В 1830 г. он сказал на лекции, что Иммерман слабый писатель, но выдающийся критик, о чем передали Иммерману.
[Закрыть].