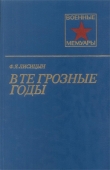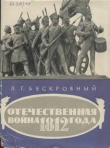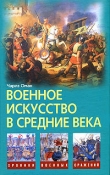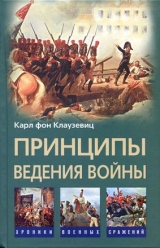
Текст книги "Принципы ведения войны"
Автор книги: Карл Клаузевиц
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
Преследование разбитой армии начинается в тот момент, когда эта армия, прекращая бой, оставляет свои позиции; все остальные передвижения в том или другом направлении относятся к ходу самой битвы. Обычно победа в такой момент, даже если она несомненна, все же невелика и слаба по своим размерам и не может считаться сколько-нибудь значительным событием, если не завершена в первый же день преследованием. Только тут, как мы уже говорили, начинается сбор трофеев, материализующих победу. Об этом преследовании мы поговорим ниже.
Обычно обе стороны вступают в бой со значительно подорванными физическими силами после предшествующих бою перебросок, вызванных крайней необходимостью. Усилия, потраченные на завершение генеральной битвы, изнуряют обе армии до предела; кроме того, победоносная сторона дезорганизована боем лишь ненамного меньше, чем побежденная, и поэтому требует времени на восстановление боевого порядка, на то, чтобы собрать отставших солдат и выдать новые боеприпасы и снаряжение тем, кто израсходовал и утратил свои в бою. Все это повергает и победителя в состояние кризиса, о котором мы уже говорили. Если разбитый противник является лишь отдельной частью вражеской армии или если он ожидает значительные подкрепления, тогда победителя может подстерегать опасность дорого заплатить за победу. Даже когда нечего бояться значительного усиления войск противника, победитель встречает сильное сопротивление своему стремительному преследованию. Кроме того, в этот момент на плечи полководца давит вес эмоций солдат своей армии, ее недостатков и слабостей. Всем тысячам людей под его командованием требуется хоть ненадолго остановиться, чтобы отдохнуть и восстановить силы после тяжелого, полного опасностей ратного труда. Но и у самого полководца, вследствие моральной и физической усталости, ослаблена его природная активность. Поэтому случается так, что большей частью по этим чисто человеческим причинам снижается активность армии. Только этим можно объяснить неуверенность в преследовании после победы, давшей победителю превосходство.
Начальное преследование противника мы в основном ограничиваем первым днем, включая ночь, следующую за победой. В конце этого периода необходимость отдыха предписывает нам остановку в любом случае.
Это первое преследование имеет различные степени.
Первая степень – когда преследование выполняется лишь кавалерией. В этом случае оно является скорее средством устрашения и наблюдения, чем настоящим натиском на врага, потому что самого небольшого препятствия на местности обычно достаточно для задержания преследователя.
Вторая степень – когда преследование осуществляется сильным авангардом, состоящим из всех родов войск. Подобное преследование теснит противника до ближайшей сильной позиции его арьергарда или до места ближайшей остановки его армии. Ни то ни другое нельзя найти тотчас же, и поэтому преследование может быть продолжено; в основном оно не простирается дальше расстояния в одно или, самое большее, два лье, потому что иначе авангард не будет чувствовать за собой достаточной поддержки.
Третья и самая сильная степень – когда преследование ведется продвижением всей победоносной армии, пока не иссякнут физические силы. В этом случае разбитая армия при намеке на возможность атаки или обхода со стороны противника обычно бросает позиции, предоставленные местностью, а арьергард потерпевшего поражение войска, как правило, не оказывает упорного сопротивления.
Во всех трех случаях ночь кладет конец преследованию, даже когда исход битвы был решен незадолго до наступления темноты. Это дает побежденному время на отдых и сбор разрозненных частей; если же он решит отступать ночью, то сможет выиграть пространство. После перерыва на отдых побежденный находится уже в лучшем положении: многое из того, что было потеряно, найдено, снаряжение обновлено, войска сплочены в новый порядок. Теперь любое дальнейшее столкновение с противником уже будет новым боем, а не продолжением старого, и, хотя он может вовсе не обещать счастливого исхода, все же это будет новый бой, а не собирание победителем рассыпанных обломков.
В тех же случаях, когда победитель может продолжить преследование ночью, хотя бы с помощью сильного авангарда, состоящего из всех родов войск, эффект победы становится значительно сильнее.
Отсюда вывод: энергия, вложенная в преследование, главным образом определяет ценность победы; это преследование является вторым актом победы, во многих случаях более важным, чем первый, а стратегия (в то время как тактика пожинает плоды победы) проявляет впервые свой авторитет в том, что требует завершения победы.
Но действия победы очень редко останавливаются на этом первом преследовании; теперь впервые начинается настоящая погоня, которой придает скорость победа.
На дальнейших стадиях преследования мы снова различаем три степени: простое продвижение вслед за противником, настоящий натиск и параллельное преследование, с целью отрезать пути отступления.
Первая погоняили преследованиезаставляет противника продолжать отступление, пока он не решит, что может рискнуть пойти еще на одну битву. Поэтому такого преследования будет достаточно, чтобы исчерпать завоеванные нами преимущества и, кроме того, передать в наши руки все, что враг не может унести и увезти с собой: больных, раненых, отставших, всевозможное имущество, повозки. Но такое преследование не увеличивает разложения в неприятельской армии. Это достигается двумя другими степенями преследования.
Если, например, вместо того чтобы удовольствоваться захватом лагеря, оставленного неприятелем, или захватом оставленной им территории, мы каждый раз, когда он пытается остановиться на отдых, своим авангардом будем гнать его все дальше, тогда это ускорит его отступление и, следовательно, увеличит разложение. Но больше всего на это будет влиять бегство без передышки, в которое превратится его отступление. Ничто так угнетающе не влияет на солдата, как звук неприятельской канонады в тот момент, когда он после усиленного перехода так хочет хоть немного отдохнуть; если это возбуждение продолжается изо дня в день в течение некоторого времени, это может привести к паническому страху. В этом переживании заключается сознание того факта, что он постоянно вынужден подчиняться правилам, навязываемым противником, и не способен на какое-либо сопротивление, и это может в значительной степени ослабить дух армии. Эффект такого нажима на противника достигает максимума, когда нужда заставляет противника совершать ночные переходы. Если победитель на закате выбивает уставшего противника из лагеря, который тот только что разбил или для всей армии, или хотя бы для арьергарда, он будет вынужден или совершить ночной переход или ночью изменить свою стоянку, отнеся ее назад, что одно и то же; а победитель сможет спокойно провести ночь.
Определение порядка переходов и выбор места для остановок зависит от многих факторов, особенно от снабжения армии, мощных естественных препятствий на местности, больших городов и т. д. и т. п. Но все равно полезно так спланировать переходы в ходе преследования, чтобы они заставили противника передвигаться ночью, пока мы отдыхаем. Эффективность преследования при такой организации резко повышается.
Наконец, третья и самая эффективная форма преследования – это параллельный переход к непосредственной цели отступления.
Каждая разгромленная армия, естественно, имеет у себя в тылу, на большем или меньшем расстоянии, некое место, достижение которого является для нее существенно необходимым – или потому, что дальнейшее отступление опасно, например, если отступающую армию загоняют в ущелье, или потому, что побежденный должен добраться до определенного пункта раньше победителя, так как там расположены склады, продовольственные магазины, удобные позиции и возможность соединения с новыми корпусами, что позволит ему продолжить сопротивление.
Если победитель направится к этому пункту рокадной дорогой, совершенно ясно, что это ускорит отступление побежденной армии, доведя его в конце концов до бегства. Побежденный имеет только три пути противодействия этому: во-первых, самому броситься на неприятеля и неожиданностью нападения добиться успеха; но это явно подразумевает предприимчивого, дерзкого полководца и отличную армию, поверженную, но не полностью разгромленную.
Второй путь – ускорение отступления. Но именно этого противнику и надо. Такой прием ведет к неумеренным усилиям со стороны войск, а следовательно, и к огромным потерям: отставшим солдатам, разбитым орудиям и повозкам.
Третий путь заключается в том, чтобы пойти в обход и на приличном удалении обойти те пункты, где преследователю легче всего перерезать путь отступающему. В этом случае переход совершается с меньшим напряжением сил, и поспешность отступления делается менее вредной. Последний путь худший из всех, он напоминает ситуацию, когда неплатежеспособный должник берет новый заем и еще глубже увязает в долгах. Бывают случаи, когда этот путь можно считать целесообразным; иногда ничего другого не остается. Есть примеры, когда этот путь приносил успех; но в целом, безусловно, на его принятие толкает не твердая уверенность в том, что это самый надежный путь к цели, а страх повстречаться с противником. Горе полководцу, который поддается этому! Как бы ни был подорван моральный дух армии и как бы ни были обоснованны его опасения перед столкновением с противником, это зло лишь усугубится из-за боязливого уклонения от всякого риска такой встречи. Наполеон в 1813 году никогда бы не переправил через Рейн 30 000 или 40 000 человек, оставшихся у него после битвы при Ханау, если бы он избежал этой битвы и попытался перейти Рейн в Мангейме или Кобленце. Лишь посредством небольших боев, тщательно подготовленных и осуществленных, может быть воскрешен боевой дух армии.
Небольшие успехи оказывают невероятно благотворный эффект; но от большинства полководцев принятие решения о вступлении в небольшой бой требует огромного самообладания. Другой путь, путь уклонения от столкновения, кажется намного легче.
Однако нужно напомнить, что речь идет обо всей армии, а не об одной дивизии, которая, оказавшись отрезанной, стремится воссоединиться с армией путем обходного маневра; в этом случае обстоятельства иные, и успех достигается не так уж редко.
Такие марши преследования ослабляют и преследователя, и преследуемого, и они не рекомендуются, если неприятельская армия движется для объединения со значительными силами, во главе которых стоит выдающийся полководец, и если ее разгром еще не полностью подготовлен. Но когда этот способ можно применить, он действует как огромная машина. Разбитая армия несет несоразмерные потери больными и отставшими, из-за страха перед гибелью дух армии постепенно падает так, что в конце концов о хорошо организованном сопротивлении не может быть и речи; каждый день в руки противника без всякого боя попадают тысячи пленных. В такой момент полного везения победителю нечего бояться разделения своих сил, чтобы увлечь в сокрушительный водоворот событий все, что находится в пределах досягаемости его армии: отрезать отдельные вражеские отряды, захватить крепости, не готовые к обороне, занять большие города и т. д. и т. п. Он может делать все, что угодно, пока не создастся новая обстановка, и чем больше он рискует, тем позже произойдут эти перемены.
Отступление после проигранной битвыПроигранная битва подрывает силы армии, причем моральные значительно больше, чем физические. Вторая битва, если не возникнут новые благоприятствующие обстоятельства, приведет к полному разгрому, а может быть, и к уничтожению армии. Это военная аксиома. Естественно, отступление продолжается до того момента, пока равновесие сил не восстановится или подкреплениями, или защитой сильных крепостей, или надежными оборонительными позициями на местности, или раздробленностью сил противника. Размеры понесенных потерь, величина поражения, но еще больше характер врага могут приблизить или отдалить наступление момента этого равновесия. Как много можно найти примеров, когда разбитая армия очень скоро снова сплачивала свои силы, хотя обстоятельства с момента битвы ничуть не изменились. Причину этого можно увидеть в слабости боевого духа противника или в том, что преимущества, достигнутого в битве, недостаточно для того, чтобы организовать настойчивый натиск в последующем.
Чтобы использовать эту слабость или ошибку противника и не отступить ни на дюйм дальше того, что требуют обстоятельства, но главным образом для того, чтобы поддержать моральный дух армии на должной высоте, абсолютно необходимо медленное отступление, сопровождающееся беспрестанным сопротивлением с дерзкими, отважными контрударами всегда, когда преследующий чересчур увлечется использованием своих преимуществ. Отступления великих полководцев и армий, приученных к войне, всегда напоминали отход раненого льва, и это, несомненно, лучшая теория.
Правда, очень часто, в момент оставления опасной позиции, некоторые полководцы начинали выполнять пустые формальности, что приводило к потере времени и росту опасности, потому что в таких ситуациях все зависит от возможности быстро уйти. Опытные полководцы считают это правило очень важным. Но такие случаи не следует путать с общим отступлением после проигранной битвы. Полководец, считающий, что совершением нескольких больших маршей он сможет выиграть пространство и легко восстановить пошатнувшееся положение, совершает грубую ошибку. Первые марши должны быть как можно короче, и при этом надо взять за правило не поддаваться диктату врага. Этому правилу нельзя следовать, не вступая в кровопролитные стычки с преследующим противником, но выигрыш стоит жертв. Иначе отступление становится поспешным и скоро превращается в бешеный поток, причем потери только отставшими превышают те, которые были бы при арьергардных боях. Кроме того, при таком бегстве теряются остатки мужества.
Сильный арьергард, состоящий из отборных частей, под командованием самого храброго полководца, и поддержанный в критические моменты всей армией, тщательное использование территории, сильные отпоры дерзкому неприятельскому авангарду всегда, когда позволяют условия местности; короче, подготовка и проведение настоящих небольших битв – вот средства следования этому принципу.
Время от времени предлагалось отступать раздельными колоннами или даже в расходящихся направлениях. Мы не говорим о том разделении на колонны, которое делается для удобства передвижения и при котором остается возможность совместных боевых действий. Любые другие разделения предельно опасны. Каждое проигранное сражение ведет к ослаблению и разложению войск. Поэтому очень важно собрать все войска вместе и в этой массе вновь навести порядок, обрести мужество и уверенность.
Глава 4
Наступление и оборона
Понятие обороныВ чем заключается понятие обороны? В отражении удара. Каков же тогда ее признак? Ожидание этого удара. Одним этим признаком оборона на войне отличается от наступления. Но абсолютная оборона полностью противоречит понятию войны, потому что тогда это будет война, ведомая только одной стороной. Из этого следует, что оборона на войне может быть только относительной, и вышеуказанный признак распространяется только на понятие обороны в целом и не имеет отношения ко всем отдельным операциям, составляющим войну.
Но если мы со своей стороны действительно ведем войну, то должны отбивать атаки неприятеля, нанося ему ответные удары, следовательно, эти наступательные акты в оборонительной войне проходят до известной степени под общим названием обороны. Поэтому можно и в оборонительной кампании вести частные наступательные бои, а в оборонительном сражении использовать для наступления какую-нибудь дивизию и, наконец, ожидая стремительной атаки неприятеля, произвести построение войск для встречи противника, посылая пули в ряды врага. Поэтому оборонительная форма ведения войны является не непосредственным щитом, а щитом, состоящим из искусно нанесенных ударов.
В чем заключается смысл обороны? В сохранении. Сохранить легче, чем приобрести; из чего тотчас же следует, что при равных средствах с обеих сторон оборона легче, чем наступление. Но в чем состоит легкость сохранения? В том, что все время, свободное от боев, работает на пользу обороны. Любая приостановка наступательных действий, продиктована ли она ошибочными взглядами, страхом или леностью наступающего, работает в пользу обороняющейся стороны.
Установив эти основные положения, перейдем теперь непосредственно к теме. Поскольку оборона имеет негативную цель, сохранение, а наступление позитивную – завоевание, и поскольку последнее увеличивает наши средства ведения войны, а сохранение нет, можно сказать, что оборонительная форма войны сама по себе сильнее, чем наступательная.
Если оборона есть более сильная форма ведения войны, но имеет негативную цель, само собой разумеется, что мы должны использовать ее только до тех пор, пока нас принуждает к этому наша слабость, и должны отказаться от нее, как только почувствуем себя достаточно сильными, чтобы поставить перед собой позитивную цель. Одержав с помощью обороны победу, мы обычно улучшаем свое положение, следовательно, вполне естественно начинать войну с обороны, а заканчивать наступлением. Таким образом, считать оборону конечной целью войны противоречит ее понятию. Война, в которой победы используются лишь для отражения ударов противника, не нанося ответных ударов, была бы такой же абсурдной, как сражение, в котором преобладала бы абсолютная оборона (пассивность).
Установив понятие обороны и очертив ее границы, мы еще раз вернемся к утверждению, что оборона является более сильной формой ведения войны.
Если бы наступательная война была сильнее, все бы наступали, а оборона была бы абсурдом. Если оглянуться на опыт, мы нигде не увидим, чтобы кто-то вел войну на двух разных театрах военных действий – на одном наступательную, с более слабой армией, чем у неприятеля, а на другом – оборонительную, с силами, превосходящими силы соперника. Но если везде и во все времена дела обстоят прямо противоположным образом, ясно, что полководцы, несмотря на личные склонности к наступлению, все же считают оборону более сильной формой ведения войны.
Наступление и оборона в тактикеМы должны расследовать обстоятельства, которые дают победу в бою.
Численное превосходство, мужество и дисциплина, как правило, зависят от обстоятельств, лежащих вне области искусства ведения войны в том смысле, о котором здесь идет речь, к тому же эти качества скажутся и в обороне, и в наступлении. По нашему мнению, существенное преимущество дают три фактора: неожиданность, преимущество, предоставляемое территорией, и атака с нескольких сторон. Неожиданность производится тем, что на одном из участков против неприятеля выставляется гораздо больше войск, чем он ожидал. Численное превосходство в этом случае очень отличается от общего численного превосходства; и оно является самым мощным фактором искусства ведения войны.
Свой вклад в победу вносят преимущества, предоставляемые территорией, но это не только крутые склоны, высокие горы, болотистые водоемы, изгороди, огороженные места и т. д., но и возможность укрыть свои войска. Следует сказать, что, даже если территория совершенно одинакова для обеих сторон, она даст больше преимуществ тому, кто знаком с ней. Атака с нескольких сторон включает в себя различные тактические обходы, крупные и малые, и ее влияние проявляется частично в удвоении интенсивности огня, а частично в страхе противника перед отрезанием путей отступления.
Наступление и оборона в стратегииВ стратегии успех, с одной стороны, заключается в успешной подготовке тактической победы; чем больше стратегический успех, тем более вероятной становится победа в сражении. С другой стороны, стратегический успех заключается в использовании завоеванной победы. Чем больше стратегии удастся вовлечь с помощью своих комбинаций после одержанной победы, увеличивая ее результаты, чем большим она может завладеть среди обломков всего, что до основания было разрушено во время сражения, чем больше ей удастся собрать в одно целое то, что было добыто огромным трудом многих участников сражения, тем большим будет успех. Факторы, которые обычно дают такой успех или, по крайней мере, облегчают его достижение, следующие:
1. Преимущество местности.
2. Внезапность – или атаки, застающей врасплох, или неожиданное сосредоточение в одном месте более крупных сил, чем предполагалось.
3. Атака с нескольких сторон.
(Все три фактора такие же, как в тактике.)
4. Подготовка поля боя и помощь театра военных действий – создание укреплений и всего к ним относящегося.
5. Поддержка народа.
6. Использование огромных морально-духовных сил.
Так какое же отношение имеет все это к наступлению и обороне?
Обороняющийся имеет преимущество местности; нападающий – преимущество внезапной атаки, как в стратегии, так и в тактике. В тактике внезапность редко приводит к крупной победе, тогда как в стратегии она нередко заканчивает войну одним ударом. Но в то же время надо заметить, что выгодное использование этих средств предполагает какую-нибудь серьезную, редко встречающуюся, а также бесспорнуюошибку противника и, следовательно, не меняет равновесия в пользу наступления.
Атаки во фланг и тылв тактике очень отличаются по своей природе от аналогичных актов в стратегии, так как там они могут быть направлены на боковые крылья армий и тыл театра военных действий. Из-за больших пространств в стратегии охватывающее наступление или наступление с нескольких сторон, как правило, возможны только с более активной стороны, то есть со стороны нападающего.
Четвертый принцип, помощь театра военных действий, естественно, является преимуществом на стороне обороняющегося. Если атакующая армия начинает кампанию, она отрывается от собственного театра военных действий и таким образом ослабляется, оставляя свои крепости и склады. Чем шире сфера операций, тем более она ослабляется (маршами и устройством гарнизонов); обороняющаяся же армия продолжает пользоваться поддержкой своих крепостей, никоим образом не ослабляется и находится поблизости от своих источников снабжения.
Поддержка населения, как пятый принцип, реализуется не в каждой обороне, так как оборонительная кампания может вестись на территории противника, но все же этот принцип, исходя из понятия обороны, в большинстве случаев применим в ней. Под этим подразумевается в основном, хотя и не исключительно, содействие вооруженных народных масс.
Наполеоновская кампания 1812 года дает, как через увеличительное стекло, очень ясную иллюстрацию влияния средств, указанных в принципах 3 и 4. Около 500 000 человек (у Наполеона. – Ред.) форсировали Неман, 120 000 (135 тыс. – Ред.) сражались при Бородине и еще меньше дошли до Москвы.
Можно сказать, что влияние этого чрезвычайно важного опыта (в обратном направлении Неман пересекло менее 20 тыс. – Ред.) было настолько сокрушительным, что, даже если бы русские не предприняли вообще никакого наступления (т. е. в 1813–1814 гг.), им бы все равно в течение значительного времени не угрожала опасность нового нашествия (что и подтвердилось в Крымскую войну 1853–1856 гг. – Ред.). Конечно, за исключением Швеции (Финляндия тогда была в составе России), в Европе нет ни одной страны, расположенной так же, как Россия, но действующий принцип всегда остается тем же, различна только степень его силы.
Если к четвертому и пятому принципам добавить, что эти силы относятся к изначальной обороне, то есть обороне на своей территории, и что они гораздо слабее, если оборона имеет место на территории противника и связана с проведением наступательных операций, то отсюда вытекает, приблизительно так же, как и при третьем принципе, новая невыгода для наступления. Ведь точно так же, как оборона не состоит исключительно из оборонительных действий, так и наступление не состоит только из активных действий; более того, всякое наступление, не ведущее к миру, неизбежно должно заканчиваться обороной.
Остается еще упомянуть один небольшой фактор – высокий дух, чувство превосходства, которое возникает из осознания принадлежности к наступающей стороне. Это несомненный факт, но это чувство вскоре переходит в более значительное и сильное, которое придают армии ее победы или поражения, талантливость или бездарность ее полководцев.