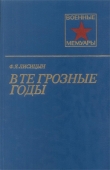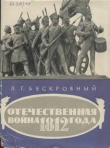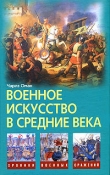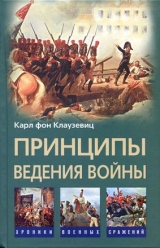
Текст книги "Принципы ведения войны"
Автор книги: Карл Клаузевиц
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 16 страниц)
Война всегда есть серьезное средство для достижения серьезных политических целей. Это более специфическое определение
Такова война; таков полководец, ведущий ее; такова теория, управляющая ею. Но война не развлечение; не простая страсть к риску и победе; не творчество свободного вдохновения. Это серьезное средство для достижения серьезной цели. Все цвета радуги, которыми переливается на войне удача, все волнения страстей, храбрость, мужество, фантазия и воодушевление – все это лишь характерные особенности войны как средства.
Война в человеческом обществе, – война целых наций, и притом цивилизованных наций, – всегда вытекает из политического положения и вызывается лишь политическими мотивами. Следовательно, это политический акт. Если бы она была совершенным, ничем не ограниченным, абсолютным проявлением насилия, какой мы определили ее исходя из абстрактных понятий, тогда с самого начала она встала бы на место вызвавшей ее политики как нечто совершенно независимое от нее. Война вытеснила бы политику и, следуя только собственным законам, не подчинилась бы никакому управлению и никакому руководству, подобно взорвавшейся мине, а зависела бы только от организации, приданной ей при подготовке. Так считалось до сих пор всякий раз, когда недостаток гармонии между политикой и ведением войны приводил к попыткам теоретического осмысления. Но это не так, и такое представление ложно в своей основе. Действительная война, как мы уже показали, не крайность, разрешающая напряжение одним ударом; это действие сил, развивающихся не одинаково и равномерно. Иногда прилив этих сил оказывается достаточным, чтобы преодолеть сопротивление инерции и препятствий, иногда они слишком слабы, чтобы проявить какое-то действие. Война до известной степени представляет собой пульсацию насилия, то бурную, то более спокойную и, следовательно, более или менее быстро разрешающую напряжение и истощающую силы. Иначе говоря, война более или менее быстро подходит к финишу, но течение ее бывает достаточно продолжительным для того, чтобы сохранить ее подчинение руководящей разумной воле. Итак, если признать, что корни войны уходят в политическую цель, то естественно, что мотивы, вызвавшие ее, остаются первым и высшим соображением, с которым должно считаться руководство войной. И все же политическая цель не является деспотичным законодателем; ей приходится считаться с природой средства, которым она пользуется, и самой часто изменяться в соответствии с этим, но тем не менее политическая цель всегда остается тем, что прежде всего следует принимать во внимание. Следовательно, политика переплетена со всеми военными действиями и оказывает на них постоянное влияние, насколько позволяет природа сил, вызванных к жизни войной.
Война есть лишь продолжение политики другими средствами
Следовательно, мы видим, что война есть не просто политический акт, но также реальный политический инструмент, продолжение политических отношений другими средствами. Вся остальная специфика войны относится лишь к специфической природе средств, которые она использует. Военное искусство вообще и полководец в каждом отдельном случае вправе требовать, чтобы направление и намерения политики не вступали в противоречие с военными средствами, и это требование отнюдь не пустяк. Но какое бы мощное действие оно ни оказывало на намерения политики, все же это воздействие всегда следует считать лишь видоизменением их; ведь политические намерения есть цель, а война – ее средство, а средство никогда нельзя представить без цели.
Различие в природе войн
Чем больше и сильнее мотивы войны, тем более она влияет на все существование народа. Чем сильнее натянутость отношений, предшествующих войне, тем ближе война приближается к своей абстрактной форме, тем больше она будет направлена на уничтожение противника, тем больше будут совпадать военная и политическая цели, тем более чисто военной и тем менее политической будет война. Но чем слабее мотивы и напряжение, тем меньше будет естественное направление военного элемента, то есть насилие, совпадать с политической линией; тем больше, следовательно, война будет отклоняться от своего естественного направления. Чем сильнее политическая цель расходится с целью идеальной войны, тем больше кажется, что война становится политической.
Во избежание возникновения у читателя неправильных представлений, мы должны заметить, что под естественной тенденцией войны мы имеем в виду лишь философскую, логическую тенденцию, а не тенденцию сил, фактически задействованных в конфликте, например все эмоции и страсти воюющих. Несомненно, в некоторых случаях они также могут быть возбуждены до такой степени, что с трудом сдерживаются и направляются в политическое русло; но в большинстве случаев такого противоречия не возникает, потому что при существовании такого сильного возбуждения возник бы и соответствующий великий политический план. Если план направлен только на малую цель, тогда и подъем духовных сил масс будет также столь слабым, что эти массы потребуется не сдерживать, а стимулировать.
Все виды войны могут считаться политическими действиями
Возвращаясь к основной теме, заметим: если при одном виде войны политика как будто совершенно исчезает, тогда как при другом занимает очень видное место, мы все же можем утверждать, что один вид войны такой же политический, как и другой. Второй вид войны можно было бы считать более охваченным политикой только в том случае, если под политикой понимать не верную оценку положения вообще, а условное понятие осторожной, тонкой, а порой бесчестной хитрости, отвергающей насилие.
Влияние этой точки зрения на правильное понимание военной истории и на основы теории
Итак, мы видим, во-первых, что при любых обстоятельствах войну надо рассматривать не как нечто самостоятельное, а как политический инструмент; и, только приняв эту точку зрения, мы можем не оказаться в оппозиции всей военной истории. При таком представлении эта великая книга становится доступной для понимания. Во-вторых, эта точка зрения показывает нам, как должны быть различны по характеру войны в зависимости от мотивов и обстоятельств, из которых они проистекают.
Первый самый крупный и самый решающий акт работы мысли государственного деятеля и полководца состоит в том, чтобы правильно определить войну, в которую он вступает, и не принять ее за то, чем она при данных обстоятельствах быть не может. Следовательно, это первый, наиболее всеобъемлющий из всех стратегических вопросов.
О теории ведения войны
Итак, война – явление изменчивое, потому что в каждом отдельном случае она несколько меняет свою природу, но также в своих общих формах по отношению к преобладающим в ней тенденциям является странным триединством, состоящим из насилия как первоначального ее элемента, ненависти и враждебности, которые можно рассматривать как слепой природный инстинкт; из игры вероятностей и случая, что делает ее свободной душевной деятельностью; из подчиненности ее политике, как орудия последней, благодаря чему она подчиняется рассудку.
Первая из этих трех сторон больше обращена к народу; вторая – больше к полководцу и армии; третья – больше к правительству. Страсти, разгорающиеся во время войны, очевидно, в скрытой форме уже существовали в народах. Степень, которой достигнут проявления мужества и талантов в царстве вероятностей и случайностей, зависит от индивидуальных особенностей полководцев и армии, но политические цели войны принадлежат только правительству.
Эти три тенденции, представляющие как бы три ряда различных законов, глубоко коренятся в природе предмета и в то же время изменчивы по величине. Теория, не принимающая в расчет один из этих факторов или устанавливающая между ними произвольные соотношения, тотчас же войдет в такое противоречие с реальностью, что ее можно будет считать уничтоженной.
Следовательно, задача теории – сохранить равновесие между этими тремя тенденциями, как между тремя точками притяжения.
Способ, которым можно решить эту трудную проблему, мы рассмотрели в главе «О теории войны». Во всяком случае, понятие войны, как было определено выше, стало первым лучом света, который осветил построение теории и даст нам возможность разобраться в ее огромном содержании.
Цели и средства в войнеУдостоверившись в предыдущем разделе в сложной и изменчивой природе войны, мы сейчас займемся изучением влияния, которое эта природа оказывает на цель и средства войны.
Если начать с вопроса о цели военных действий, на которую должны быть направлены усилия войны, чтобы быть надежным орудием политики, мы обнаружим, что эта военная цель так же изменчива, как политическая цель и различные условия войны.
Если вернуться к отвлеченному понятию войны, то придется сказать, что политическая цель находится вне ее пределов, ибо, если война является актом насилия, призванным заставить врага выполнить нашу волю, тогда в любом случае все зависит от нашего превосходства над противником, то есть его разоружения, и только от этого.
Ранее мы более пристально рассмотрели значение разоружения нации, здесь же ограничимся проведением различия между тремя элементами общего порядка, охватывающими все остальное. Это – вооруженные силы, территорияи воля противника.
Вооруженные силыдолжны быть уничтожены, то есть доведены до такого состояния, когда противнику невозможно продолжать войну.
Территориядолжна быть завоевана, потому что она может быть источником формирования новых вооруженных сил.
Но даже когда оба этих условия выполнены, все же война, то есть враждебные чувства и действия враждебных сил, не может считаться законченной, пока не сломлена также воляпротивника; то есть его правительство и его союзники должны быть вынужденными подписать мир, а народ принужден к подчинению; ведь, пока мы полностью оккупируем страну, война может разразиться снова, изнутри или с помощью союзников. Несомненно, это может произойти и после заключения мира, но это говорит только о том, что не всякая победа приносит полное решение и окончательную развязку.
Впрочем, с заключением мира все же угасает множество искр, которые бы тихо тлели, а возбуждение страстей утихает, потому что все умы, расположенные к миру, которых во всех нациях и при любых обстоятельствах немало, окончательно сворачивают с пути сопротивления. Что бы ни произошло впоследствии, с заключением мира мы всегда должны считать цель достигнутой, а войну завершенной.
Поскольку вооруженные силы предназначены в первую очередь для защиты страны, естественный порядок действий заключается в том, чтобы прежде всего уничтожить вооруженные силы, а потом завоевать страну.
Однако эта цель абстрактной войны – лишить противника возможности сопротивляться – лишь крайнее средство для достижения политической цели, в которой сочетаются все остальные. В действительности полное разоружение противникаредко встречается в военной практике и не является необходимым условием для заключения мира. Есть бесчисленные примеры, когда мир заключался раньше, чем одна из сторон могла считаться разоруженной, и даже раньше, чем произошло заметное нарушение равновесия.
Есть два обстоятельства, которые могут служить, кроме полной невозможности сопротивляться, мотивами для заключения мира. Первое – это невероятность успеха, второе – слишком высокая его цена.
Война не всегда должна вестись до полного сокрушения одной из сторон; когда мотивы и страсти незначительны, будет достаточно слабой возможности будущих неудач, чтобы подтолкнуть эту сторону к уступчивости. Если другая сторона убеждена в этом заранее, естественно, она будет стремиться создать такую возможность, вместо того чтобы тратить время и силы на полное уничтожение неприятельской армии.
Еще более широкое влияние на решение заключить мир оказывают соображения об уже совершенных и предстоящих затратах сил. Поскольку война не является актом слепой страсти, а над ней господствует политическая цель, то ценность этой цели определяет меру жертв, которыми мы готовы купить ее достижение. Это относится не только к объему, но и к продолжительности принесения жертвы. Поэтому, как только потребуется затрата сил, превышающая ценность политической цели, от нее приходится отказаться и заключить мир.
Итак, мы видим, что в войнах, где одна сторона не может полностью разоружить другую, мотивы к заключению мира с обеих сторон будут больше или меньше зависеть от вероятности будущего успеха и требуемых расходов. Если бы эти мотивы были одинаково сильны у обеих сторон, то они остановились бы на золотой середине. Когда основания к заключению мира усиливаются у одной стороны, они ослабевают у другой, но если сумма мотивов обеих сторон окажется достаточной, то мир будет заключен, конечно, с выгодой для той стороны, у которой стремление к заключению мира было слабее.
Теперь возникает вопрос: как повлиять на вероятность успеха? Во-первых, уничтожением неприятельских вооруженных сил и завоеванием его территории; но эти два средства не одинаково важны. Если мы атакуем армию противника, то большая разница, намерены ли мы вслед за первым ударом наносить другие, пока все вражеские силы не будут уничтожены, или мы намерены довольствоваться тем, чтобы пошатнуть у противника чувство безопасности, убедить его в нашем превосходстве и посеять в нем чувство страха за будущее. Если такова наша цель, мы не выходим за пределы достаточного в деле разгрома его сил. Если же целью не является уничтожение неприятельской армии, то и завоевание его территории становится мероприятием совсем иного порядка. В последнем случае уничтожение армии есть реальное эффективное действие, а завоевание территории всего лишь его следствие; захват территории до полного уничтожения армии всегда должен рассматриваться как необходимое зло. С другой стороны, если нашей целью не является полное уничтожение сил противника и мы уверены, что противник не стремится, а боится довести дело до кровавого исхода, завладение слабо защищенной (или беззащитной) территорией само по себе является преимуществом. А если это преимущество достаточно велико, чтобы внушить противнику опасения за окончательный исход войны, тогда оно представляет кратчайший путь к миру.
Теперь мы сталкиваемся с особым средством: воздействием на вероятность успеха без уничтожения вражеской армии, а именно с мероприятиями, предназначенными для оказания давления на политические отношения. Иногда появляется возможность операций, позволяющих отколоть или парализовать союзников противника, завоевать себе новых союзников, создать выгодные для нас политические комбинации и т. д. и т. п., все это повышает вероятность успеха, и этот путь может стать более короткой дорогой к нашей цели, нежели разгром сил противника.
Второй вопрос заключается в том, как повлиять на увеличение издержек и затрат сил у противника, то есть поднять цену успеха.
Издержки противника заключаются в утомлении («износе») его вооруженных сил, что достигается их разгромом и уничтожениемнашими войсками, и в потере территории, следовательно, в ее завоеваниинами.
Кроме этих двух способов, имеется еще три пути прямого увеличения расхода сил противника. Первый – это вторжение, то есть оккупация территории противника, не с целью ее удержания, а с целью взимания с нее контрибуций и даже ее опустошения.
Непосредственная цель здесь – не завоевание территории противника и не разгром его вооруженных сил, а только повсеместное причинение ему ущерба. Второй путь – нацелить наши операции преимущественно на причинение противнику наибольшего ущерба. Третий, гораздо более важный, судя по огромному числу случаев, которые он охватывает, – изнуритьпротивника. Идея изнурения в борьбе на практике выражается в постепенном истощении физических сил и воли путем длительного напряжения.
Итак, если мы хотим одолеть противника длительностью схватки, мы должны довольствоваться как можно более скромными целями; самой малой целью, которую мы можем себе поставить, является простое пассивное сопротивление, то есть бой без какой-либо позитивной цели. В этом случае наши средства достигают своей самой большой относительной ценности и, следовательно, результат более надежен. Как далеко может зайти этот негативный образ действий? Очевидно, не до абсолютной пассивности, потому что простая выносливость в получении ударов не является борьбой; сопротивление – это деятельность, которая должна уничтожить столько сил противника, чтобы он был вынужден отказаться от своей цели. Именно это является нашей целью в каждой операции, и в этом состоит негативная природа нашей цели.
Несомненно, эта негативная цель не может дать того же успеха, который в тех же условиях дала бы позитивная цель, особенно если бы ей сопутствовала удача. То, чего мы не можем достигнуть результатом одного боя, должно быть достигнуто временем, то есть длительностью битвы, и, следовательно, негативное намерение, заключающее в себе принцип чистой обороны, является естественным средством изнурения противника.
Отсюда происходит различие наступленияи обороны, влияние которого распространяется на всю область военного дела. Из этого негативного намерения вытекают все сопутствующие ему преимущества, а также более сильные формы борьбы, которые находятся на стороне обороныи в которых реализуется философско-динамический закон, существующий между размером и обеспеченностью успеха.
Сосредоточение всех средств для простого сопротивления (негативное намерение) ставит сопротивляющуюся сторону в выгоднейшее положение. Если это преимущество достаточно велико, чтобы уравновесить возможный перевес противника, то будет достаточно одной длительностисхватки, чтобы постепенно довести потери сил со стороны противника до степени, не соответствующей его политической цели, и заставить его отказаться от борьбы. Отсюда видно, что изнурение противника может применяться во многих случаях, когда более слабый успешно борется с более сильным.
Мы видим, что в войне имеется много путей достичь своей цели и не всегда нужно полностью сокрушать противника. Уничтожение вооруженных сил противника, завоевание его территории, временная ее оккупация, даже простое вторжение в нее, мероприятия, оказывающие на противника политическое давление, и, наконец, пассивное ожидание неприятельского удара – все это – средства, из которых каждое, в зависимости от конкретной обстановки, можно использовать для преодоления воли противника. Мы могли бы еще прибавить целую категорию кратчайших способов достижения цели, которые можно назвать аргументами ad hominem [14]14
Личный порядок (лат.). (Примеч. пер.)
[Закрыть]. В какой области человеческой деятельности не встречаются эти искры личных отношений, преодолевающие все материальные препоны? И чаще всего могут они появиться на войне, где личность деятеля играет крупную роль, как в кабинете, так и на поле боя. Мы ограничимся только намеком, поскольку было бы педантизмом пытаться классифицировать такие методы. Включив и их, мы можем сказать, что число возможных способов достижения цели стремится к бесконечности.
Чтобы избежать недооценки этих различных кратчайших путей к одной цели, мы не должны забывать о разнообразии политических целей, которые могут вызвать войну, и хотя бы охватить взором расстояние между смертельной борьбой за политическое существование и войной, которую вынужденный или шаткий союз делает неприятным долгом. На практике между ними существует множество градаций. Теория, отбросившая одну из этих градаций, с тем же правом могла бы отвергнуть их все, что равносильно полному отгораживанию от реального мира.
Так обстоят дела с целью, которую нам приходится преследовать на войне; теперь рассмотрим средства.
Средство только одно – бой. Какие бы разнообразные формы ни принимала война, как бы она ни отличалась от грубого выхода ненависти и враждебности в рукопашной схватке, сколько бы ни примешивалось к ней явлений, не относящихся к бою, все же в понятии войны всегда подразумевается бой, так как он является начальной точкой, из которой исходят все явления войны.
Что это всегда так, несмотря на огромное разнообразие и сложность действительных обстоятельств, доказывается очень просто. Все, что происходит на войне, ведется вооруженными силами, а там, где используют вооруженные силы, то есть вооруженных людей, в основе обязательно должна быть идея боя.
Таким образом, все, что относится к вооруженным силам, – их создание, сохранение и использование, – входит в сферу военной деятельности.
Если в основе любого применения вооруженной силы лежит идея боя, то использование вооруженной силы есть не что иное, как установка и распорядок известного числа частных боев.
Следовательно, любая военная деятельность обязательно прямо или косвенно связана с боем. Солдат призывается, получает обмундирование и вооружение, обучается, спит, ест, пьет и марширует только для того, чтобы в нужное время в нужном месте вступить в бой.
Поэтому, если все нити военной деятельности приводят к бою, мы охватим их все, установив порядок боя. В бою все действия направлены на уничтожениепротивника или, скорее, его боеспособности.
Целью также может быть просто уничтожение вооруженных сил противника, но это вовсе не обязательно, цель может быть совсем иной. Например, там, где, как мы показали, разгром противника не является единственным средством для достижения политической цели, где имеются другие цели, которые могут преследоваться в войне, тогда, само собой разумеется, такие цели могут стать целью отдельной военной операции и, следовательно, целью боев.
Но даже в тех случаях, когда общей целью является уничтожение вооруженных сил противника, частные бои не обязательно имеют своей ближайшей целью уничтожение вооруженных сил.
Если вспомнить о многообразии частей огромных вооруженных сил и о множестве обстоятельств, влияющих на их использование, становится ясно, что бой такой вооруженной силы также должен требовать разнообразной организации. Для различных частей может, естественно, ставиться ряд частных целей, которые сами по себе не являются уничтожением вооруженных сил противника, но, безусловно, косвенно способствуют этому. Если батальону приказано выгнать противника с отдельной высоты, моста и т. п., тогда, строго говоря, захват любого из этих мест есть подлинная цель, а уничтожение вооруженных сил противника будет лишь средством или побочным делом. Если враг может быть изгнан лишь ложной атакой, цель все равно достигнута; но ведь эти высота и мост фактически занимаются только для того, чтобы увеличить потери вооруженных сил противника. Если такое случается на поле боя, то то же самое происходит, только в гораздо большем масштабе, на всем театре военных действий, где друг против друга стоят уже не две армии, а два государства, две нации, две страны. Здесь ряд возможных соотношений и, следовательно, возможных комбинаций гораздо больше, увеличивается и разнообразие распорядков.
Следовательно, по многим причинам возможно, что уничтожение сил противника не является целью частного боя, а только средством. Но во всех подобных случаях бой есть не что иное, как мера силы, и имеет ценность не сам по себе, а по своему результату, то есть его исходу.
Но соизмерение сил при очевидном неравенстве может быть произведено простым арифметическим подсчетом. В таких случаях не произойдет никакого боя, так как более слабый заблаговременно уклонится от него.
Следовательно, целью боя не всегда является уничтожение вооруженных сил враждующих сторон и часто может быть достигнута и вовсе без боя, а лишь постановкой вопроса о бое. Это объясняет, почему оказывались возможными целые кампании, которые велись с огромным напряжением, но где фактические бои не играли сколько-нибудь существенной роли.
Что так может быть, военная история доказывает сотней примеров.
Война обладает лишь одним средством – боем. Из единственности средства проистекает нить, помогающая рассмотрению предмета, так как она проходит сквозь всю паутину военных действий и связывает их воедино.
Мы рассматривали уничтожение неприятельских сил как одну из целей, которая может преследоваться в войне, ни слова не упомянув о том, какое значение следует ему придавать по сравнению с другими целями. Теперь мы постараемся определить это.
Бой есть единственная деятельность на войне; в бою уничтожение противника является средством достижения цели; это верно даже тогда, когда боя фактически не происходило, потому что уклонение от боя одной из сторон имело предпосылку, что такое уничтожение несомненно. Таким образом, уничтожение вооруженных сил противника лежит в основе всех военных действий.
Бой в крупных и мелких военных операциях является тем же самым, что уплата наличными в экономических сделках. Как бы ни была далека эта расплата, как бы редко она ни реализовалась, когда-нибудь ее час настанет.
Если решение с помощью оружия лежит в основе всех военных операций, из этого следует, что противник может любую из них парализовать удачным для себя боем. Не обязательно, чтобы это был бой, на котором мы строили свою кампанию. Тот же результат даст и каждый другой бой, лишь бы он был достаточно крупным; ведь каждый крупный военный успех, то есть уничтожение части вооруженных сил противника, влияет на все остальные части, понижая их общий уровень.
Таким образом, уничтожение вооруженных сил противника всегда является самым лучшим и эффективным средством, которому уступают все остальные.
Однако приписывать большую эффективность уничтожению вооруженных сил противника можно лишь при предполагаемом равенстве всех прочих условий. Было бы огромной ошибкой делать вывод, будто слепой натиск всегда победит мастерство и осторожность. Неумелая атака может привести скорее к уничтожению наших сил, а не сил противника, что, естественно, не в наших интересах. Наибольшая эффективность относится не к средствам, а к цели.
Когда мы говорим об уничтожении вооруженных сил противника, мы должны особо отметить, что ничто не обязывает нас ограничивать это понятие одними лишь материальными силами. Напротив, мы обязательно подразумеваем также и моральные силы, потому что они тесно связаны между собой и неотделимы друг от друга. Но именно в связи с уже упоминавшимся неизбежным влиянием, которое великий акт уничтожения (великая победа) оказывает на все остальные операции, этот моральный элемент наиболее неустойчив, если мы можем использовать это выражение, и легче всего распределяется по всем вооруженным силам.
Огромной ценности такого средства, как уничтожение вооруженных сил противника, противостоят расходы на это средство и связанный с ним риск, которых можно избежать, только используя любые другие средства.
Опасность этого средства заключается в том, что наибольшая эффективность, которой мы добиваемся, в случае неудачи обернется против нас со всеми ее худшими последствиями.
Поэтому другие пути в случае успеха не будут так дороги, а в случае неудачи менее опасны. Но это справедливо лишь при одном условии: эти методы применяются обеими сторонами. Если же противник выберет путь решительного боя, мы будем вынуждены встать на тот же путь. Теперь все будет зависеть от исхода борьбы на уничтожение; но, разумеется, ясно, что, ceteris paribus [15]15
При прочих равных условиях (лат.). (Примеч. пер.)
[Закрыть], мы в этом акте окажемся во всех отношениях в невыгодной ситуации, потому что наши намерения и наши средства были частично ориентированы на другие цели, а противник этого не делал. Следовательно, если один из двух воюющих твердо намерен искать важное решение с помощью оружия, тогда у него высокие шансы на успех, если он уверен, что противник не пойдет по этому пути, а станет преследовать иную цель. Каждый, кто ставит перед собой такую вот иную цель, поступает разумно лишь в том случае, если уверен, что его противник так же, как и он, не ищет крупных решений с помощью оружия.
Но то, что мы сейчас сказали о другом направлении целей и сил, относится к другим позитивным целям, которыми, кроме уничтожения сил противника, мы можем задаться на войне, и не распространяется на чистое сопротивление, избранное с намерением истощить противника. У чистого сопротивления нет позитивного задания, и, следовательно, пока мы в обороне, наши силы не могут отвлекаться на другие цели, так как им задано парализовать намерения противника.
Теперь надо рассмотреть обратную сторону уничтожения вооруженных сил противника, то есть сохранение наших собственных. Оба этих стремления всегда идут вместе и находятся в постоянном взаимодействии; мы лишь должны выяснить, какие будут последствия, если то или другое стремление получит перевес. Стремление уничтожить силы противника имеет позитивную цель и ведет к позитивным результатам, которые увенчиваются полным сокрушением противника. Сохранение наших сил имеет негативную цель, следовательно, ведет к сокрушению намерений противника, то есть к чистому сопротивлению, окончательной целью которого является такая затяжка продолжительности действий, которая истощит силы противника.
Стремление к позитивной цели вызывает акт уничтожения; стремление к негативной цели заставляет ждать его.
Как далеко должно и может завести это состояние ожидания, мы подробно рассмотрели в разделах о наступлении и обороне. Здесь же только напомним, что ожидание не должно быть совершенно пассивным и что в деятельности, связанной с ожиданием, уничтожение вооруженных сил противника может быть целью, как и в любой другой военной деятельности. Следовательно, было бы огромной ошибкой считать, что негативное стремление обязательно приводит к отказу от выбора своей целью уничтожения вооруженных сил противника и к предпочтению бескровного решения. Преимущество, которое дает негативное стремление, безусловно, может подать к этому повод, но такое решение всегда сопряжено с риском не попасть на правильный путь, что зависит от условий, не подвластных нам, а подвластных противнику. Этот другой, бескровный путь не может никоим образом рассматриваться как естественное средство удовлетворения нашего желания сохранить свои силы; напротив, при неблагоприятных обстоятельствах этот путь приведет их к гибели. Очень многие полководцы впадали в эту ошибку и губили себя.
Итак, из приведенных выше размышлений мы увидели, что есть много путей, ведущих к успешному концу, то есть к достижению политической цели; но что единственным средством является бой и что, следовательно, все подчинено высшему закону, а именно решению с помощью оружия. Среди всех целей, которые могут преследоваться на войне, уничтожение вооруженных сил противника всегда преобладает над остальными.