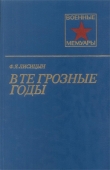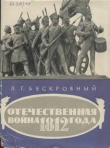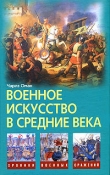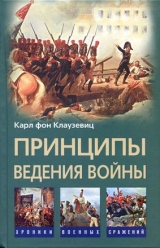
Текст книги "Принципы ведения войны"
Автор книги: Карл Клаузевиц
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 16 страниц)
Принуждение, которое мы должны применить по отношению к своему противнику, будет находиться в соответствии с нашими политическими требованиями и требованиями противника. Поскольку они известны, то, казалось бы, степень обоюдных усилий можно определить. Однако политические требования не всегда столь очевидны, и в этом первая причина различия средств, применяемых обеими сторонами.
Конкретная ситуация и положение государств не похожи друг на друга; в этом может заключаться вторая причина.
Сила воли, характер и способности правительств также мало походят друг на друга; это – третья причина.
Эти три причины вносят известную неопределенность в определение силы ожидаемого сопротивления и, следовательно, в расчет средств, которые надо будет использовать, а также постановки перед собой конечной военной цели.
Чтобы обеспечить реальный масштаб средств, которые придется применить в войне, мы должны подумать о политическом смысле ее как для себя, так и для противника, оценить характер и способности правительства и народа с обеих сторон, и, наконец, политические отношения с другими государствами, и то влияние, которое на них окажет война. Легко понять, что определение этих разнообразных обстоятельств и их связи друг с другом является огромной проблемой. Требуется истинная вспышка гения, чтобы моментально обнаружить верное решение. Всю сложность этой проблемы невозможно разрешить лишь с помощью правильных рассуждений. Наполеон был совершенно прав, говоря, что с такой алгебраической задачей не справился бы и сам Ньютон.
Прежде всего мы должны признать, что суждение о приближающейся войне, о конечной военной цели, которую надо себе поставить, и потребных для нее средствах складывается только после тщательного изучения всех обстоятельств, в которых учтены злободневные моменты переживаемого времени. Это суждение, как и все в военной жизни, не может быть чисто объективным; оно определяется умственными и моральными качествами государей, государственных деятелей и полководцев, соединены они в одном человеке или нет. Здесь мы позволим себе бросить беглый взгляд на историю.
Полудикие татары, древние республики, феодальные владыки и средневековые торговые города, короли XVIII столетия и, наконец, государи и народы XIX столетия – все вели войны по-своему, каждый иным способом, другими средствами и с различными целями.
Татарские орды боролись за новую среду обитания. Они двигались всем народом, с женами и детьми, и их численность, следовательно, превосходила любую армию, а их целью являлось покорение противника или полное его изгнание.
Древние республики, за исключением Рима, были небольших размеров; еще меньше были их армии, потому что они исключали огромную массу населения – чернь; следовательно, их войны ограничивались опустошением полей и захватом отдельных городов с целью обеспечить себе в них некоторое влияние в будущем.
Один Рим представлял собой исключение, но и то лишь в поздние периоды своей истории. После того как власть Рима, благодаря заключенным союзам, распространилась на всю Среднюю и Южную Италию, он начал свое шествие, как истинно победоносная сила.
Так же примечательны и войны Александра Великого (Македонского). С небольшой, но замечательно организованной армией он разрушил пришедшие в упадок азиатские государства; без отдыха, невзирая на трудности, он пересек Азию, проникнув в Индию. Ни одной республике это не удалось. Только царь, до некоторой степени сам себе кондотьер, мог зайти так далеко и так быстро.
Большие и маленькие монархии Средневековья вели свои войны с помощью ленных ополчений. Само ленное ополчение состояло из звеньев, связанных вассальными отношениями; связь, которая удерживала его, отчасти была законной обязанностью, отчасти добровольным союзом; целое образовывало настоящую конфедерацию. Вооружение и тактика были основаны на праве силы. Все это самым определенным образом влияло на характер войн в этот период. Они велись сравнительно быстро, без пустой траты времени в лагерях, и целью было в основном лишь наказание, а не подчинение противника.
Крупные торговые города и небольшие республики породили институт кондотьеров. Это было дорогое, но очень ограниченное по размерам войско. Интенсивность его усилий была ничтожна. Не могло быть и речи о проявлении чрезмерной энергии или стремительности на поле боя, а военные действия были обычно всего лишь обманными трюками.
Ленная система постепенно превратилась в определенные территориальные государственные образования; на смену ленному ополчению явились наемные войска. Кондотьеры представляли переходную ступень, их услугами в течение некоторого времени пользовались и большие государства; но это продолжалось недолго. Вскоре наемник превратился в солдата постоянной армии на жалованье, а вооруженные силы государств преобразовались в армии, содержащиеся на средства государственной казны. Вполне естественно, что медленное преобразование армий обусловливало временное наличие всех трех видов вооруженных сил. Под начальством Генриха IV в армии служили и ленники, и кондотьеры, и постоянное войско. Кондотьеры еще встречались и в Тридцатилетнюю войну, и даже в XVIII столетии.
Строй и облик государств Европы в эти периоды были такими же своеобразными, как и их вооруженные силы. В сущности, эта часть света раскололась на массу мелких государств. Это были и республики, и небольшие неустойчивые монархии с ограниченной правительственной властью. Такие государства не представляли собой нечто целое; они были скорее скоплением слабо связанных сил. Именно с этой точки зрения следует рассматривать внешнюю политику и войны в Средние века.
Конец XVII столетия, время Людовика XIV, следует рассматривать как период в истории, когда постоянные вооруженные силы, какими мы их видим в XVIII столетии, достигли высшей степени развития. Благодаря стремительным шагам в общественном развитии и более просвещенной системе управления могущество Франции резко возросло по сравнению с прошлым.
Остальные отношения государств также изменились. Европа была разделена на дюжину монархий и две республики. Внутренние отношения почти повсеместно вылились в чисто монархическую форму.
В эту эпоху появились три новых «Александра Македонских»: Густав II Адольф, Карл XII и Фридрих II Великий, чья цель заключалась в том, чтобы с помощью небольших (у Фридриха II была самая большая в Западной Европе армия – ок. 200 тыс.; у Карла XII до него была постоянная армия в 16 тыс. плюс 64 тыс. ратников, выставляемых т. н. индельтами, а всего шведская армия могла быть доведена до 150 тыс. – это была лучшая армия в Западной Европе. – Ред.), но высоко дисциплинированных армий основать из маленьких государств великие монархии и уничтожить все, что им мешало.
Однако все, что война выиграла в отношении мощи и согласованности, она утратила в другом.
Армии содержались за счет казны, которую правители начали считать отчасти своим личным кошельком. Отношения с другими государствами, кроме торговых интересов, большей частью затрагивали только интересы казны или правительства, а не народа. Правительство считало себя чем-то вроде управляющего крупным имением, которое старалось всячески расширять, но подданные этого имения не очень стремились к такому расширению. При татарских нашествиях народ, составлявший орду, был всем; в древних республиках и в Средневековье – очень многим, а в условиях XVIII века он стал непосредственно на войне ничем, сохраняя лишь косвенное влияние на войну благодаря собственным добродетелям и недостаткам.
Так как правительство все больше отделялось от народа, считая государством лишь себя, то и война все больше становилась исключительно делом правительства. Она проводилась на собственные деньги правительства, нанимавшего солдат не только в своей стране, но и в соседних. Последствия этого были таковы, что средства, которыми правительство могло располагать, имели строго ограниченные пределы, и каждая сторона могла оценить их как по объему расходов, так и по их длительности. Это лишало войну ее самого опасного свойства, а именно – стремления к крайности и связанного с ним загадочного ряда возможностей. Война стала настоящей игрой, в которой Время и Везение тасовали карты. По своему значению это была всего лишь несколько усиленная дипломатия, более энергичная форма ведения переговоров, в которых битвы и осады заменялись дипломатическими нотами. Армия, с ее крепостями и заготовленными позициями, составляла государство в государстве, в котором стихия войны медленно поглощала самое себя. Вся Европа радовалась этим изменениям в военном искусстве и считала их неизбежным последствием духовного прогресса. Хотя здесь заключается ошибка, поскольку прогресс человеческого разума никогда не может привести к чему-либо абсурдному. Однако же в целом эта перемена имела благотворное влияние на народ.
Такова была обстановка, когда разразилась Великая французская революция; Австрия и Пруссия попытались использовать против нее свое дипломатическое и военное искусство; но вскоре этого оказалось недостаточно. Война снова внезапно стала делом народа, насчитывающего тридцать миллионов человек (т. е. французов), каждый из которых считал себя гражданином отечества. Благодаря участию в войне всего народа на чаше весов оказались не только правительство и его армия, но и весь народ с присущим ему весом. С этого времени уже не было определенных пределов ни для средств, ни для напряжения сил; энергия ведения войны больше не находила противовеса, и, следовательно, опасность для противника возросла до предела.
Если все революционные войны прошли раньше, чем была осознана и прочувствована их сила, если германским армиям (т. е. Пруссии, Австрии и др.) еще удавалось иногда оказывать успешное сопротивление, то реально это находилось в зависимости от несовершенства французской организации: сначала солдатских масс, потом подбора генералов, а при Директории – от недостатков самого правительства.
После того как все это было усовершенствовано рукой Наполеона, вооруженные силы Франции, опиравшиеся на народную мощь, прошли по Европе, так уверенно круша все на своем пути, что там, где французская армия сталкивалась с военными силами старого образца, в исходе борьбы никто не сомневался. Реакция, однако, не заставила себя ждать. В Испании война стала делом народа. В Австрии в 1809 году правительство приложило невероятные усилия для организации резервных частей и ополчения; эти мероприятия уже приближались к цели и далеко превосходили предел, который это государство до сих пор считало возможным. В России в 1812 году пример Испании и Австрии был взят за образец. Огромные размеры этой империи сделали возможными использовать подобные приготовления, несмотря на их запоздание, и в то же время повысили их действенность. Результат оказался блестящим. В Германии Пруссия поднялась первой, сделала войну национальным делом и, не имея ни денег, ни кредита, с населением вдвое меньшим, чем у Франции, начала боевые действия с армией вдвое сильнее, чем в 1806 году.
Таким образом, со времен Наполеона война, ставшая сначала для Франции, а потом и для ее противников делом всей нации, приобрела совсем иную природу или, скорее, подошла ближе к своей истинной природе, к своему совершенству. Привлеченные средства не имели видимого предела, поскольку он потерялся в энергии и энтузиазме правительств и их подданных. Величина этих средств и широкая перспектива возможных успехов и сильное возбуждение умов значительно усилили энергию ведения войны; целью этой акции было сокрушение противника; остановиться и вступить в переговоры стало возможным только тогда, когда противник был полностью повержен.
Так разразилась стихия войны, свободная от всех условных ограничений, во всей своей природной силе. Причиной было участие народа в этом крупном государственном деле, и это участие возникло отчасти из-за влияния Французской революции на внутренние дела стран, отчасти из-за угрожающего поведения французов по отношению к другим нациям.
Всегда ли так будет впредь, будут ли все войны в Европе вестись при напряжении всех сил государств и во имя великих и близких народам интересов, или разделение интересов правительства от интересов народа снова постепенно увеличится, определить довольно трудно. Мы не будем брать на себя решение этого вопроса. Но все согласятся, что не так-то легко снова воздвигнуть разрушенные преграды, заключавшиеся в непонимании возможностей, заложенных в войне. По крайней мере, всегда, когда на карту будут поставлены крупные интересы, взаимная вражда прорвется точно так же, как это было в наше время.
Глава 6
Война и политика
Мы не считаем, что государство, защищающее интересы другого государства, делает это с тем же рвением, с каким защищает собственные интересы. Обычно посылается вспомогательная армия умеренных размеров; если ее постигает неудача, тогда союзник считает дело до некоторой степени завершенным и старается выйти из него с наименьшими затратами сил и средств.
Было бы логичнее и менее затруднительно для теории ведения войны, если бы этот обещанный контингент был полностью передан воюющему государству, так, чтобы его можно было использовать должным образом; тогда его можно было бы считать наемным войском. Но на практике бывает далеко не так. Обычно у вспомогательной армии имеется свой командующий, зависящий только от собственного правительства, которое ставит ему цель, больше подходящую тем нерешительным и непоследовательным действиям, которые оно собирается предпринять.
Но даже если два государства ведут войну с третьим, они не всегда одинаково относятся к нему как к врагу, которого должны уничтожить, чтобы он не уничтожил их. Часто их союз напоминает торговую сделку: каждый вкладывает в нее определенный пай (30–40 тыс. человек) в зависимости от опасности, которой он подвергается, и далее ведет себя так, будто бы он может позволить себе потерять только эту долю.
Такой подход является аномалией, так как и война, и мир, по существу, являются понятиями, которые невозможно разграничить по степеням. Однако эта манера – не просто дипломатический обычай, которым можно было бы пренебречь; она глубоко коренится в природной ограниченности и слабости людей.
Наконец, и в войнах, которые ведутся без союзников, политические поводы имеют огромное влияние на способ ведения войны.
Если мы хотим добиться от неприятеля только небольшой жертвы, тогда мы можем довольствоваться приобретением в результате войны небольшого эквивалента, который можно получить приложением умеренных усилий. Противник мыслит во многом так же. Когда тот или другой убеждается, что ошибся в своих расчетах и вместо предполагаемого превосходства над противником оказался слабее его, то именно в этот момент не хватает ни денег, ни прочих средств, как и духовного подъема для больших усилий; в подобном случае такая сторона просто делает, как говорится, «все, что может», надеется на лучшее будущее, хотя у нее нет ни малейшего основания для подобной надежды, а силы, ведущие войну, тем временем влачат жалкое существование, продолжая сражаться, подобно больному, изношенному организму, борющемуся за жизнь.
Вполне понятно, что теория войны, стремящаяся быть и оставаться философским размышлением, в данном случае оказывается в трудном положении. Все, что в основном присуще понятию войны, ускользает от теории, и ей грозит опасность остаться без какой-либо поддержки. Но вскоре появляется естественный выход. Чем слабее становятся побуждения к действию, тем скорее это действие переходит к пассивному состоянию, тем меньше результатов оно дает и тем менее нуждается в руководящих принципах. Все военное искусство превращается в простую осторожность, направленную главным образом на то, чтобы помешать нарушению хрупкого равновесия в ущерб своей стороне и превращению полувойны в настоящую войну.
Мы всесторонне рассмотрели состояние антагонизма, существующего между природой войны и другими интересами людей и общества, чтобы не упустить ни одного из элементов противоречия. Этот антагонизм заложен в человеческой природе и, следовательно, не может быть разгадан ни одной философией. Теперь мы попытаемся найти то единство, в котором в практической жизни сочетаются эти антагонистические элементы, отчасти нейтрализуя друг друга. Нам следовало с самого начала обозначить это единство, если бы не было необходимости очень четко выявить эти противоречия, и рассмотреть их различные элементы отдельно. Это единство заключается в понятии о том, что война является лишь частью политических отношений, а не чем-то самостоятельным.
Разумеется, мы знаем, что война вызывается лишь политическими отношениями между правительствами и народами; но обычно складывается представление, что с началом войны эти отношения рвутся и наступает совершенно иная ситуация, подчиняющаяся только собственным законам.
Мы, напротив, утверждаем, что война есть не что иное, как продолжение политических отношений с привлечением других средств. Мы говорим «с привлечением других средств», чтобы таким образом подчеркнуть, что эти политические отношения не прекращаются во время самой войны, не превращаются во что-либо совершенно иное, но, в сущности, продолжаются, какие бы средства при этом ни использовались, и что основные направления, по которым развиваются военные события, определяются политикой, влияющей на войну вплоть до заключения мира. И разве можно себе представить, что может быть иначе? Останавливают ли дипломатические ноты политические отношения между различными нациями и правительствами? Не является ли война всего лишь иным способом выражения их политических мыслей? У войны, безусловно, своя собственная грамматика, но собственной логики она не имеет.
Таким образом, война никогда не может отделяться от политических отношений, и если это где-то все равно происходит, то в некоторой мере разрываются все нити различных отношений, и мы получаем нечто бессмысленное и бесцельное.
Такое понимание справедливо, даже если война была бы совершенно неукротимой стихией враждебности. Все факторы, на которых основана война и которые определяют ее направление: собственная сила, сила противника, союзники с обеих сторон, характер народов и их правительств и т. д. и т. п. – разве они не имеют политической природы и разве они не настолько тесно связаны со всеми политическими отношениями, что их невозможно отделить от них?
Если война является частью политики, то она будет принимать и ее свойства. Вопрос состоит лишь в том, должна ли при составлении планов войны политическая точка зрения уступить место чисто военной (если такая вообще возможна), то есть или полностью исчезнуть, или подчиниться ей, или же политическая точка зрения должна быть господствующей, а военная должна подчиняться ей?
Мнение, что политическая точка зрения с началом войны перестает существовать, было бы справедливым лишь в том случае, если бы войны были боем не на жизнь, а на смерть из-за простой вражды. В действительности же современные войны являются выражением политики. Подчинить политическую точку зрения военной – бессмысленно, так как войну породила политика. Политика – это разум, война же только орудие, а не наоборот. Следовательно, остается только одно: подчинить военную точку зрения политической.
Размышляя о природе настоящей войны и вспоминая, что войну надо рассматривать как органическое целое, от которого нельзя отделять его составные части, становится ясно, что высшая точка зрения при руководстве войной, из которой должны исходить главные руководящие линии, может быть только точка зрения политики.
Одним словом, военное искусство, рассматриваемое с высшей точки зрения, становится политикой, но, несомненно, политикой, которая не пишет ноты, а ведет сражения.
Согласно этой точке зрения предоставить крупную военную операцию или ее планирование чисто военному суждению и решениюнепозволительно и даже пагубно.
Это совершенно естественно. Ни один из основных планов, требующихся для войны, не может быть составлен без учета политических отношений; и когда люди говорят, как это часто бывает, о пагубном влиянии политики на ведение войны, на самом деле они говорят нечто, очень отличное от того, что хотят сказать. Виновато не это влияние, а сама политика. Если политика правильная, тогда она может пойти только на пользу ведению войны. Если это влияние политики отклоняет нас от цели, причину следует искать в ошибочной политике.
Эти ошибки впервые проявились в Наполеоновских войнах, и события этих войн полностью разочаровали ожидания политиков, но это произошло не потому, что политика пренебрегла мнением военных советников. То военное искусство, которому могла верить политика, то есть военное искусство того же времени, того же старого мира, к которому относилась и политика, представляло собой давно знакомый инструмент. Им политика пользовалась до сих пор, но такое военное искусство, естественно, так же заблуждалось, как и политика, и, следовательно, не могло ничему научить ее. Сама война претерпела важные изменения, как по природе, так и по форме, приблизившие ее к абсолютной форме; но эти изменения произошли не потому, что французское правительство, до некоторой степени, освободило войну от руководства со стороны политики. Они возникли из изменившейся политики, созданной Французской революцией, не только во Франции, но и во всей остальной Европе. Эта политика выдвинула другие средства и другие силы, благодаря которым стало возможным ведение войны с немыслимой доселе степенью энергии.
Таким образом, фактические перемены в военном искусстве являются последствиями перемен в политике, и, вместо того чтобы быть аргументом в пользу возможного разделения обоих, они, напротив, являются очень веским доказательством крепости этой связи.
Следовательно, еще раз: война есть инструмент политики; она должна обязательно носить ее характер, измеряться ее масштабами. Поэтому ведение войны, в общих чертах, есть сама политика, сменившая перо на меч, но из-за этого она не перестает мыслить в соответствии с собственными законами.