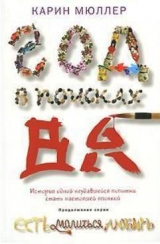
Текст книги "Год в поисках "Ва". История одной неудавшейся попытки стать настоящей японкой"
Автор книги: Карин Мюллер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
В отличие от американской мафии якудза – признанный элемент общества. Многие корпорации нанимают их для управления собранием акционеров: несговорчивым акционерам они наносят визит, и тогда при голосовании уже не возникает неожиданных трудностей. Якудза также принимают активное участие в праздниках и общественных делах. Бывает, что правительство даже поощряет подобное участие, надеясь тем самым приобщить якудза к основной массе японцев и таким образом усмирить их или как-то на них повлиять.
Сандзямацури – любимый праздник всех якудза Японии. Первые 2 дня они скромно прикрывают татуировки и принимают участие в праздничной процессии, но в третий (последний) день сбрасывают костюмы и готовятся устроить настоящее веселье. Конкурирующие команды мафиози должны пронести по территории храма 2 гигантских микоси. Для этого участок огражден забором, а вокруг него выставлен человеческий барьер из 500 с лишним полицейских в белой форме.
Ворота открываются в 6 утра, и якудза набиваются во двор. Я забираюсь на строительные леса у самой дальней стены. Почти все мужчины в татуировках, вдребезги пьяные и голые, не считая фазных набедренных повязок.
«Хорошая сегодня будет драка!» – рычит тяжеленный здоровяк.
Верзила из конкурирующей группы немедля заносит кулак, но промахивается, и начинаются вялые потасовки. Первый алтарь приносят как раз вовремя, предотвратив повальный мордобой. Через несколько минут появляется второй. Я предвкушаю начало боя, но обе команды держатся в отдалении друг от друга. Вместо того чтобы кидаться друг на друга, бой ведется опосредованно – через микоси, на которые обращено всеобщее внимание. Эти алтари втрое больше наших и весят столько, что даже команда из 50 человек способна пронести их всего несколько минут. Чья команда опустит первой, та и станет объектом насмешек, поэтому обе усердно стараются удержать свои микоси, а при возможности и начать их раскачивать, чтобы на них зазвенели колокольчики. Вокруг микоси образовывается водоворот полуголых якудза, захлестывающий все на своем пути.
Наверху каждого микоси стоят несколько человек Они направляют носильщиков при помощи позолоченных вееров. Один из участников процессии, видимо, вспоминает, что в толпе у него есть незавершенное дельце, и тут же бросается вниз с платформы. Толкотня и пинки не прекращаются в течение 3 часов; 10000 распаленных якудза дают выход своей ярости в символической битве двух гигантских микоси, которые медленно движутся по храмовой территории.
Устав сидеть в неудобной нише под строительными лесами, я решаю улизнуть через ворота. Прямо передо мной толпа вдруг расступается и появляется микоси. На нем стоит татуированный якудза, наступая несчастным носильщикам на пальцы и подгоняя их хриплым свистом и ударами веера. Носильщики, охраняющие непосредственно шесты, похожи на самураев: у них фанатичный, непреклонный и опасный вид. Любой, кто пытается проникнуть в их ряды, тут же понимает свою ошибку и немедленно выдворяется за пределы процессии.
Мое плечо больно хватает и выкручивает чья-то тяжелая ладонь.
«Иностранка?» – рычит охрипший от саке голос. Меня проталкивают меж голых татуированных торсов, покрытых тонко вырисованными портретами гейш, и ставят в плотную шеренгу из 30 носильщиков. Одного из них выхватывают прямо из середины, и я занимаю его место. Только что здесь была щелочка, а сейчас ее как не бывало носильщики сдвинулись, почуяв свобод, ное пространство. С трудом просовываю руку между двумя якудза. Наш главный тяжелой рукой толкает меня под ребра и бросается вперед. Постепенно мое тело растворяется во всеобщей амебообразной массе. Я вливаюсь в ритм, ноги автоматически начинают семенить крошечными шажками. От плеч и до колен мы – единый взаимосвязанный организм, единый сгусток плоти. Проходит минута или, может, час. Потом кто-то кладет мне руку на плечо и вытаскивает из шеренги. Меня подхватывает людской водоворот и уносит прочь.
Процессия волной выплескивается за ворота, и я вдруг остаюсь одна.
Глава 5
Дело явно сдвинулось с мертвой точки. Я в Японии уже 2 месяца и по-прежнему не понимаю, что написано в газетах, зато по картинкам могу уловить смысл телепрограмм. Вот уже больше недели в национальных новостях один и тот же главный сюжет: серьезные ребята в костюмах разглядывают топографические карты, на которых изображены цветные пятна, постепенно двигающиеся к югу, в сторону Токио.
Эти пятна обозначают цветущую сакуру. Сакура цветет чуть больше недели, и это цветение обладает символическим смыслом. Японцы – единственная нация, у которой какой-то там цветок способен вызвать возбуждение, близкое к сексуальному. Любой японец на улице скажет вам, что сакура символизирует преходящность всего в жизни, печаль, которая кроется во всех прекрасных вещах. Цветки сакуры опадают в самом расцвете красоты – именно так погибали воины-самураи. В этот период в любом токийском баре можно увидеть седовласых бизнесменов, предающихся меланхолии и фантазирующих о том, как они бросят карьеру и семью и последуют за цветущей сакурой аж до хребтов Японских Альп [18]18
Горная цепь, тянущаяся вдоль главного острова Хонсю.
[Закрыть]. Каждая рощица из более чем двух деревьев становится достопримечательностью, которую непременно нужно увидеть. Здесь день и ночь толпятся городские жители с нездоровым цветом лица, наслаждаясь единением с природой, выпадающим на их долю всего-то раз в год. Они садятся тесными группками в обнимку с автоматами для караоке и бочонками с саке. Глядя на представшее их взорам завораживающее зрелище, они сочиняют спонтанные хайку [19]19
Нерифмованные простые трехстишия, жанр японской поэзии.
[Закрыть], неумеренно потребляют алкоголь и не стесняются плакать. После их ухода цветы опадают на землю, прикрывая брошенный мусор.
В мае все возвращается на круги своя: среди экстренных новостей отмечаются только случайное отравление рыбой фугу и кража газет из почтовых ящиков района Кавасаки. В воздухе уже не пахнет так резко и неприятно зимой. Ветерок приносит с океана соленый привкус свободы. Наконец пришла весна! Высушив посуду после ужина, я с позволения хозяев отправляюсь на пробежку по пляжу.
Асфальтовая дорожка, идущая вдоль берега, абсолютно пустынна. Лишь изредка попадаются чайки, безразлично клюющие выброшенный приливом мусор. Принесенный ветром песок тихо хрустит под ногами. Набираю скорость, переходя на спринт и удлиняя шаг. Мимо проносятся цементные указатели, в темноте сияющие белизной. Я покрываюсь потом. Грудь расправляется, как будто слишком сильно затянутый корсет наконец лопнул по швам.
Все дело в ограниченном пространстве. Между обеденным столом и стеной всего 6 дюймов, и каждый вечер, занимая место за столом, я вынуждена протискиваться в эту щель. Как бы осторожно я не семенила, все равно почти каждый раз наталкиваюсь на угол стола и гремлю посудой. Непривычно чувствовать себя неуклюжей. Каждый день мне приходится перемывать с десяток хрупких мисочек, и я живу в постоянном страхе, что рано или поздно уроню одну из них или поставлю не туда. Бесконечный список правил нагоняет панику; как сворачивать садовый шланг и складывать рубашки особым, единственно правильным способом. Впервые в жизни я ощущаю такую растерянность и никчемность.
Но здесь, на пляже, за мной никто не наблюдает. Здесь можно перепрыгивать через цементные столбики, танцевать при луне, гоняться за чайками. Единственные и драгоценные моменты, когда мне можно делать все, что вздумается, безо всяких последствий – и никто не скажет, что я поступаю неправильно.
Домой возвращаюсь через 2 часа. Волосы взмокли и растрепались на ветру, кроссовки полны песка, шаг легок. Я расслаблена и спокойна, кажется, впервые с тех пор, как сошла с трапа самолета. Теперь буду бегать каждый вечер. Это полезно для занятий дзюдо и еще полезнее для успокоения ума.
У дверей меня встречает Юкико. Я тут же сжимаюсь.
«Карин, ты не можешь бегать вечером», – говорит она.
Я знаю, что не должна спрашивать почему. Я живу в доме Юкико, и само собой разумеется, что она знает лучше. Но удержаться очень трудно и я спрашиваю: «Почему?»
Уголки ее губ ползут вниз, и она отвечает: «Это опасно».
Поставить под сомнение слова старшего по положению само по себе плохо, но нет ничего хуже, чем выразить открытое несогласие. Хотя, может, если я облеку его в форму комплимента…
«Япония – самая безопасная страна в мире. Уверена, никто не~»
«У нас есть арабы и китайцы. – Юкико показывает в сторону железнодорожной станции. – Это опасно».
В голове сразу мелькает десяток компромиссов, но, судя по выражению лица Юкико, я и так уже переступила грань. И я киваю. Она улыбается. Разговор окончен.
Спустя 2 дня я нервно хожу по комнате – нарезаю круги вокруг кофейного столика, груды книг, пританцовываю мимо дивана, иду в кухню и обратно. Я успела почистить камеры, погладить нижнее белье, 3 раза пыталась сесть и проспрягать список пассивных каузативных глаголов. Воспоминание о той пробежке все кружится в голове, как голодный комар. Мне страшно хочется размять ноги и еще сильнее – вырваться на свободу.
Но Юкико выразилась как нельзя яснее, и, проигнорировав ее приказ, я рискую нарваться на серьезные неприятности. С другой стороны, если она ни о чем не узнает, кому от этого будет плохо? Хозяева уже легли. Никакого вреда не будет.
И вот я раскладываю футон и набиваю под него одежду, призванную имитировать меня. Выскальзываю через раздвижные двери и осторожно запираю их за собой. На цыпочках спускаюсь по выложенной кирпичом тропинке, огибающей дом, и замираю у калитки высотой до пояса, что отгораживает сад от дороги. Я знаю, что калитка громко скрипит. Перелезть через нее я не решаюсь – вдруг сломаю шарниры?
Итак, на моем пути барьер, который не остановил бы и малютку терьера.
Как я сразу не догадалась! Два шага назад – больше нет места – я кидаюсь вперед и сигаю через калитку. До угла бегу со всей мочи, а дальше как ни в чем не бывало перехожу на шаг и иду до пляжа.
Первые 3 мили [20]20
Около 5 км.
[Закрыть]меня ничего не тревожит. Пробежавшись, делаю перерыв и подхожу к самой кромке воды. Играю с волнами в догонялки и несколько раз даже делаю сальто, вляпавшись пальцами в мазут. Не забыть бы проверить подошвы прежде чем заносить кроссовки в дом.
Еще через 2 мили меня начинает мучить совесть, и я неохотно поворачиваю домой. На полпути вижу на дорожке темный предмет, которого час назад здесь не было. Это женская сумочка. Она открыта; несколько дешевых безделушек высыпалось на асфальт. Я кладу содержимое внутрь и думаю, что мне теперь делать. Нести сумку в дом Юкико нельзя, иначе придется рассказать, где я ее нашла и когда. Надо просто оставить – завтра утром на нее наверняка кто-нибудь наткнется и отнесет в полицию, а может, и владелица вернется искать. И тут я вспоминаю, что примерно в миле отсюда есть кобан – маленькая полицейская будка. Можно просто занести сумку на пути домой.
За миниатюрным столом сидит единственный полицейский, сосредоточенно разглядывая бумаги. Увидев меня, он широко улыбается. Я улыбаюсь в ответ. У японских полицейских безупречная репутация. Чем участвовать в перестрелках среди ночи и устраивать облавы на наркоторговцев, они переводят через дорогу старушек и спасают заблудившихся котят. Полицейские в Японии обычно даже не вооружены.
«Добрый вечер», – говорит он по-японски и любезно поднимается из-за стола; чтобы предложить мне стул.
«Добрый вечер».
В шортах, с набившимся в носки песком я чувствую себя неуютно. Он же, напротив, одет безупречно: свежевыглаженная форма, сияющий козырек, ослепительно белые перчатки.
Убедившись, что я сижу удобно, он возвращается на свое место, кладет руки на стол и с сосредоточенным и дружелюбным вниманием взирает на меня.
Я стараюсь подобрать правильные слова. Я знаю, что японские предложения не должны начинаться со слова «я». Это слишком высокомерно. Сейчас как раз пригодятся мои пассивные каузативные спряжения.
«Эта… вещь… была найдена мной сегодня вечером», – наконец выговариваю я.
Полицейский в шоке. Улыбка осталась на лице, как приклеенная, но кожа побелела, как у трупа, как будто под столом вдруг появилась акула и откусила ему обе ноги. Ладони сцепились мертвой хваткой. Он-то, наверное, думал, что я пришла спросить, как дойти до станции.
Покрепче натянув фуражку на лоб, он спрашивает тихо, почти шепотом: «Где?»
«Внизу, на тропинке».
Объясняю жестами, потом рисую схематичную карту.
«Когда?»
«Несколько минут назад».
Я снова улыбаюсь и встаю, готовясь уйти: мой долг хорошего гражданина выполнен. Наверняка имя и адрес владельца можно узнать по документам в сумке-, не далее как через час потерянная вещь будет возвращена.
Но он пулей вскакивает с места, махая белой перчаткой улица, точно автомобильным дворником. Опускает обе руки ладонями к полу, таким образом повелевая мне сесть, и преграждает путь. Я сажусь на стул.
Полицейский достает из картотеки толстую папку с документами. Тут заходит его напарник, тихонько закрывает за собой дверь и видит меня. Он улыбается. Они быстро и шепотом переговариваются по-японски. Напарник перестает улыбаться. Оба усаживаются за стол напротив меня и начинают нервно теребить бумаги. Один сидит с ручкой наготове, второй задает вопросы.
«Национальность?»
«Американка».
«Удостоверение личности?»
Я в тупике. Карманов у меня нет, поэтому я не взяла ни денег, ни паспорта. Помнится, я где-то читала, что иностранные граждане в Японии всегда должны иметь при себе паспорт… Отрицательно качаю головой, и полисмен перестает дышать, точно кто-то ударил ему кувалдой по пальцам. Очевидно, я нарушила закон.
«Номер визы?»
Откуда мне знать? Знаю только, что виза стоит у меня в швейцарском паспорте, потому что швейцарцам позволено находиться в стране полгода, а американцам – всего 3 месяца. Но как это объяснить – вот в чем проблема. Остается лишь качать головой.
«Адрес в Японии?»
Бинго. На этот вопрос я точно могу ответить. «Гэндзи и Юкико Танака», – говорю я.
Они сразу приободрились.
«Живете в семье?» – спрашивает один.
Обрадованно киваю и на всякий случай добавляю пару слов о том, какая прекрасная у Танака семья.
«Телефон?»
Называю половину цифр, и тут до меня доходит… Что, если он им позвонит? Я останавливаюсь и притворяюсь, что забыла номер; потом качаю головой.
«Давно вы у них живете?»
«Два месяца», – неохотно выговариваю я. Чувствую себя дурой, но ни за что не выдам им номер телефона.
Они долго разглядывают документы, а потом меняют тактику.
«Что вы делали, когда нашли сумку?»
Я рада, что расспросы приняли новый оборот. Пытаюсь объяснить им, что бегала. Делаю маленькую пантомиму.
Один что-то говорит другому.
«Кто за вами гнался?»
Я замираю.
«В чем это у вас пальцы?»
Я удивленно опускаю глаза. Мазут. А я и забыла. Что мне теперь им сказать – что делала колесо на песке? Юкико была права. Зря я вообще вышла из дома ночью. Полицейский с опаской смотрит на мои пальцы, потом пытается соскрести образец на чистый лист белой бумаги. От беспокойства бедняга совсем перестал дышать. Его напарник пролистывает кипу бумаги; наверху каждого листа стоит иностранная фамилия. Может, в Японии иностранцев положено регистрировать, как автомобили? Отбросив кипу, он достает серьезного вида книжку и сверяется со своими записями. О Господи! Это телефонная книга.
«Не звоните! – в панике кричу я. – Их нет дома! Они спят!»
Понимаю, что веду себя как преступница, но мне все равно – лучше уж переночевать в тюрьме, чем разбудить Юкико. Полицейский набирает номер. На том конце берут трубку. Следует короткий разговор, полисмен кивает, кладет трубку и улыбается.
Значит, все в порядке. Полицейские низко кланяются, рассыпаются в благодарностях, что я принесла сумку, и выпроваживают меня за дверь. Они даже пытаются пожать мою измазанную мазутом ладонь руками в белоснежных перчатках.
Выхожу из будки как во сне. Плетусь домой, отпираю скрипучую калитку, раздвижную дверь и сажусь в гостиной, не включая свет. Почему-то на ум приходит случай, когда в 1б лет мы с приятелем задержались допоздна, отправившись на пляж есть рыбу с жареной картошкой. Дома папа заставил меня, красную как рак, выслушать первую и единственную лекцию о вреде подросткового секса.
«Карин, наверх!» – слышится голос.
Поднимаюсь по ступеням медленно, как провинившийся ребенок
В гостиной сидит Гэндзи в халате и со стаканом виски в руке, Юкико стоит рядом и улыбается. Пространно извиняюсь за причиненное беспокойство. Рассказываю, что произошло, особенно упирая на свое желание выполнить гражданский долг и опуская упоминание о сальто и других маловажных деталях.
А потом замолкаю и жду наказания.
Гэндзи смеется. Он заставляет меня еще раз изобразить, как полицейский от страха затаил дыхание, и покатывается со смеху. Но Юкико больше не улыбается. Гэндзи спрашивает, много ли я пробежала, и одобрительно кивает.
Юкико провожает меня вниз по лестнице.
«Карин!»
Я оборачиваюсь и опять начинаю извиняться, но она обрывает мои излияния.
«Не носи больше шорты», – говорит она.
Я киваю. И даже не спрашиваю почему. Она и так мне скажет.
«Ты слишком толстая».
Я в шоке. Конечно, Юкико стройнее меня, но по сравнению с ней и вешалка будет толстой.
«Хорошо», – отвечаю я.
Лишь через 3 недели меня снова приглашают ужинать со всей семьей наверху. Я тщательно подбираю наряд: нужно вернуть расположение Юкико. Жаль, что нет времени выйти и купить цветов – не хватало еще опоздать.
Гэндзи пришел раньше, чем обычно, и теперь сидит за столом, пока Юкико заканчивает готовить ужин.
«Заходи, заходи! – сердечно приглашает он. – Садись!»
После небольшого колебания я сажусь. Юкико бросает в мою сторону взгляд, способный умертвить таракана. Еще хуже, что она знает, как мне нравится разговаривать с Гэндзи. Он хорошо разбирается в японской культуре и традициях и с неизменным терпением отвечает на все мои бесконечные вопросы. Для меня нет ничего приятнее, чем поведать ему об увиденном за день и услышать истолкование того или иного случая.
Ему наши разговоры тоже по душе. В юности он 3 года прожил в Бразилии и приобрел, как говорят японцы, «вкус к сливочному маслу» – понимание, а может, и любовь к западному образу жизни. Да и теперь, когда до обязательной пенсии осталось всего 2 года, работа в компании носит чисто декоративный характер и не слишком интересна. Я вношу любопытное разнообразие иногда мои расспросы дают пищу для размышлений, и я часто поступаю непредсказуемо. К тому же со мной всегда можно посмеяться.
Юкико приносит первое блюдо, и я тут же вскакиваю, чтобы помочь ей накрыть на стол. Кухня (она же столовая) довольна мала, я вполне могу ходить туда-обратно и при этом слушать, что говорит Гэндзи, но уже не могу быть так внимательна. И не в состоянии уследить за многочисленными указаниями Юкико, произнесенными полушепотом: как правильно расположить тофу по отношению к мелко нарезанному луку и рыбной стружке. К тому моменту, когда стол наконец накрыт и все 5 основных блюд и десятки маленьких тарелочек с соусами и гарнирами стоят как нужно, я уже вымотана, а мои хозяева оба обиделись.
За столом ситуация ухудшается. Гэндзи хочет обсудить банковскую систему в Аргентине, и его вопросы явно адресованы мне. Чтобы уследить за разговором, Юкико не хватает знания английского. Я пытаюсь говорить по-японски, но Гэндзи, заслышав мою спотыкающуюся речь, раздраженно махает рукой. Нам обоим известно, что мой нынешний словарный запас не позволяет общение на столь сложную тему. Стараюсь вовлечь в разговор Юкико, но она лишь качает головой и передает вопрос Гэндзи. Я в отчаянии пытаюсь сменить тему, говорю о кулинарии и воспитании детей – эти темы ей близки, но Гэндзи плавно возвращает разговор в прежнее русло. Я в растерянности. Юкико сидит и пыхтит от злости.
В конце ужина Гэндзи вспоминает, что в соседнем районе Камакура живет знаменитый изготовитель самурайских мечей по имени Масамунэ. Оказывается, парикмахер Юкико предложил нас познакомить. Я поворачиваю голову и рассыпаюсь в пространных благодарностях, одаривая Юкико своей самой признательной улыбкой. Та злобно буравит меня глазами.
Глава 6
Масамунэ-сан – мастер по изготовлению самурайских мечей в 24-м поколении. Его предок, родоначальник семьи Масамунэ, родился в 1274 году. Тогда же монголы решили вторгнуться в Японию. Кублай-хан силой заставил корейцев построить флот из почти 450 судов и переправить через Корейский пролив 15-тысячное монгольское войско, наводившее ужас на все окрестные земли. В распоряжении монголов были мощные арбалеты, катапульты и взрывающиеся снаряды. Самураи же привыкли к традиционному бою один на один и были вооружены только мечами. В ту ночь поднялся тайфун, потопив бульшую часть монгольских кораблей. Выживших отнесло обратно к корейскому берегу.
Однако монголы были не из тех, кто сдается при первой неудаче. Как бы тогда они завоевали пол-Азии? Через 6 лет был построен еще более внушительный флот, и на этот раз корабли везли 100 тысяч воинов – крупнейшее морское нашествие в Средневековую эпоху. К счастью для японцев, монголы, эти превосходные всадники, оказались никудышными мореплавателями. Более того, они проигнорировали совет штурманов-корейцев и организовали вторжение ранним летом, в сезон тайфунов. Как и следовало ожидать, поднялся мощный шторм, и весь монгольский флот пошел ко дну. Этот тайфун японцы назвали камикадзе – божественным ветром – и восприняли его как знак особой благосклонности богов к японскому народу.
Впрочем, действительность не так красива, как легенда. На самом деле тайфун поднялся лишь через 2 месяца после нападения монголов. Японским командующим этого было достаточно, чтобы осознать: их оружие, безусловно, проигрывает снаряжению монгольских орд. В частности, длинные и прямые японские мечи были тяжелы в обращении и часто ломались. После того как тайфун помог отразить монгольское нападение, сёгун [21]21
Титул правителей Японии в 1192–1867 годах, при которых императорская династия была лишена реальной власти.
[Закрыть]созвал лучших мастеров в стране, чтобы создать усовершенствованное орудие. Был среди них и молодой Масамунэ. Он потратил годы на то, чтобы соединить в одном лезвии мягкую и твердую сталь. Масамунэ стремился создать меч, который был бы достаточно крепким, чтобы прорезать 2-дюймовые доспехи, но вместе с тем достаточно гибким, чтобы при этом не сломаться. И в конце концов ему это удалось.
В награду Масамунэ удостоился великих почестей, ему предоставили огромные наделы земли в окрестностях района Камакура. Но увы, в ту эпоху слава не всегда была благом для ее обладателей В XIV веке, в период постоянных войн, было обычной практикой подсылать вражеских шпионов, которые убивали или похищали лучших мастеров. Масамунэ оказался одним из немногих, кто прожил достаточно долго и сумел позаботиться о продолжении рода.
Но для изготовителя мечей было кое-что похуже войны: мир. К 1500 году самурайские битвы постепенно сошли на нет. Многие мастера остались без работы. Семья Масамунэ сократила производство и перешла на производство ножей. 1853 год был ознаменован прибытием американцев, в результате чего военное правительство было свергнуто, а самураи исчезли как класс. Перепродав корпорации «Mitsubishi» большую часть своих земель, отчаявшиеся потомки клана Масамунэ переехали в город. Вторая мировая война принесла временное облегчение, однако вскоре после ее окончания американские оккупационные силы запретили изготовление мечей под предлогом, что это якобы символизирует японский милитаризм. Большинство мастеров окончательно бросили это ремесло. Отец Масамунэ стал делать подсвечники и кованые предметы, которые были по вкусу американским солдатам. Сегодня Масамунэ-сан живет продажей кухонных ножей, изготовленных машинным способом и снабженных семейным логотипом, и является своего рода достопримечательностью для туристов, которые заходят в его мастерскую по пути в знаменитые буддистские храмы Камакуры.
Но для Масамунэ каминные щипцы и ножи для суши [22]22
Японское национальное блюдо из морепродуктов.
[Закрыть]– всего лишь средство к пропитанию. За магазинчиком размером не больше чулана спрятано место, которому он предан всем сердцем: его кузница.
У потомка Масамунэ в 24-м колене плоское лицо, огрубевшие руки и ботинки, как у рабочего. На стройке он смотрелся бы вполне органично, если бы не величественная манера держать себя. К Гэндзи он обращается, как к равному себе, смотрит ему прямо в глаза и отвечает на вопросы уверенно, точно и сам ни больше ни меньше директор компании. Ступив в углубление рядом с горном, он приобретает еще более величественный вид и становится художником, в то время как мы с Гэндзи отходим в тень и играем роль зрителей.
Масамунэ зажигает печь и принимается за работу. Выбирает большую полурасплавленную глыбу железистого песка с реки к северу отсюда, разбивает ее на мелкие части, а затем выплавляет цельный кусок Затем почтительно обертывает его листом рисовой бумаги с японскими иероглифами. Обмакнув сверток в жидкую глину, бросает его в огонь. Сейчас самое начало лета, и печь полыхает страшным жаром, даже если сидеть в отдалении, как мы. От Масамунэ идет пар, его хлопковые перчатки покрыты дырочками от случайных горячих искр.
Вокруг снуют помощники, передвигаясь бесшумно и молча. Похожие на наблюдательных кошек, они сверхъестественным образом предугадывают требования мастера. Им предстоит не только выдержать 10-летнее обучение, но и сдать сложнейший экзамен по прошествии этого срока. Ежегодно во всей Японии вьщается лишь 3 лицензии на изготовление мечей.
Тут я понимаю, что что-то не так. И вдруг вижу, что у одного из учеников мускулистая грудь, латиноамериканская наружность и полные, чувственные губы. В стране, где превалирует анорексичная худоба, его упитанный вид радует глаз, и несмотря на это, он двигается с легкостью балерины. Я в изумлении: как это иностранцу разрешили обучаться секретам традиционного японского ремесла?
Остаток дня смотрю только на него. Наконец Масамунэ опускает свой кусок железа и вытирает лоб. Ученики тут же принимаются орудовать щетками и прибираться – в беготне мне удается шепнуть пару слов иностранцу, убедившись, что нас никто не видит.
«Выпьете со мной кофе?» – спрашиваю я.
«Конечно», – улыбается он.
Встречаемся в единственном месте, куда наверняка не заходит ни Масамунэ, ни Гэндзи, – в местном «Durger King».
Его зовут Роберто, он из Бразилии, и ему 25 лет. Говорит на 5 языках, причем не просто обрывками полузабытых школьных текстов, а безупречно. В Японию попал через Европу, где недолго работал профессиональным тренером лошадей. Спустя 3 года он уже пишет и читает по-японски и на улицах Токио чувствует себя совершенно свободно – как в центре Рио или на берегу Женевского озера.
Я поражена – и растеряна. Роберто мог бы преуспеть в любом деле. Так что же заставило его выбрать место скромного новичка в крошечной мастерской Масамунэ? Целыми днями подметать пепел и рубить уголь?:
«Друг моего отца делал мечи, это было еще в Бразилии, – говорит он тихим голосом, еле слышным через стол. – Когда мы приходили к нему в гости, он всегда показывал мне мечи – как их делать, как полировать». Он наклоняется вперед, и его лицо вдруг озаряется. «С тринадцати лет мечи для меня – это все. Я много где побывал, но везде думал только об одном. И вот решил, что лучше всего приехать в Японию изучать ремесло». Он опирается на спинку и пожимает плечами. «Тот, кто хочет делать красивые мечи, должен жить в Японии».
В сознании японцев меч имеет почти мифическое значение. Это символ духа Японии и души самурая. Признаться, я не разделяю всеобщей зачарованности куском кованого железа, чье единственное предназначение – рубить людей надвое. Но если уж меч способен заставить такого человека, как Роберто, объехать полмира, долгие годы подметать грязный пол и кланяться, лишь бы получить доступ к секретам ремесла… Мне вдруг хочется узнать как можно больше о священном оружии.
Роберто мечтает о том, чтобы однажды его избрали наследником Масамунэ. Тогда он сможет принять его фамилию и стать его официальным потомком в 25-м поколении и продолжателем знаменитого рода мастеров. К несчастью для Роберто, у Масамунэ уже есть сын, но, к счастью, мечи его не интересуют. Молодому Масамунэ не нравится, что в кузнице грязно и скучно; он хочет стать оперным певцом. Недавно уехал в Италию учиться.
«Он правда хорошо поет?» – спрашиваю я.
Роберто тихонько качает головой.
«А вдруг он передумает насчет мечей?»
Роберто опять качает головой, на этот раз увереннее. Надеюсь, он прав, ведь от этого зависит его будущее.
А Масамунэ не потерял надежду; время от времени он усаживает своего сына и делает ему внушение: мол, песни забываются через секунды, а хороший меч проживет столетия. Если же сын так и не заинтересуется фамильным ремеслом, придется рано или поздно усыновить одного из учеников и назначить его законным наследником. У Роберто все шансы: мало того что он лучший мастер из всех учеников, он уже успел зарекомендовать себя как умелый полировщик и приобрел международную репутацию за свои познания о древних мастерах. Один фактор, однако, все усложняет, а именно форма носа. Даже после нескольких лет обучения Роберто наказывают держаться в тени, когда приходят покупатели: им может не понравиться, что чужак обучается традиционному исскуству. Готова ли Япония принять Масамунэ, у которого будут круглые глаза и каштановые волосы?
«И когда он решит?» – спрашиваю я.
«Через десять лет, может, через пятнадцать».
«И ты готов ждать так долго?».
«Конечно».
Я невольно присматриваюсь к Роберто: как он двигается, ест и говорит. Пусть он родился и вырос в другой стране, я почему-то воспринимаю его как японца. Все дело в том, как он держит поднос, стоя в очереди, как неподвижно застывает рядом, пока я выбираю столик, с какой нарочной осторожностью берет кусочек маринованных овощей. Однако самое характерное – это его жизненный выбор. Обладая недюжинным интеллектом и творческой энергией, он тем не менее посвятил свою жизнь системе, поощряющей лишь подчинение. Он добровольно встал в иерархию, где все определяется старшинством, а нововведения не только не поощряются, но и наказываются. И как ему удается выжить?
«Тот, кто хочет долго жить в Японии, должен родиться заново. Надо забыть обо всем, что знал, обо всем, во что верил, и начать с начала. Научиться ценить возраст и опыт выше книжных знаний. Делать то, что говорят, не допуская иных мыслей. Нельзя ни на секунду сомневаться в справедливости системы Надо забыть о борьбе за справедливость и равенство; у тебя не должно быть таких стремлений. Нужно научиться верить в общество, основанное на иерархии. Это совершенно иной образ мышления, жизни, существования. Если не принять его полностью, сердцем, то выжить здесь невозможно».








