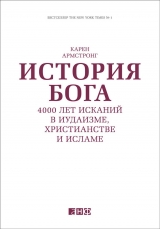
Текст книги "История Бога. Тысячелетние искания в иудаизме, христианстве и исламе"
Автор книги: Карен Армстронг
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 36 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Вообще Дионисий всячески избегал слова «Бог» – по всей видимости, потому, что к тому времени оно уже приобрело слишком много неточных и очеловеченных оттенков, – предпочитая прокловское понятие theurgy, изначально имевшее литургический смысл: в языческом мире теургия означала добычу, обретение божественной маны посредством жертвоприношений и прорицаний. Дионисий относил этот термин к рассуждениям о Боге – ведь при правильном понимании они тоже могут высвобождать божественные энергии, кроющиеся в явленных символах. Дионисий был согласен с каппадокийцами в том, что любые слова и концепции, относящиеся к Богу, заведомо неполноценны и не должны считаться точным описанием действительности, лежащей за границей человеческого кругозора. Несовершенно даже само слово «Бог», поскольку Сам Бог «выше Бога» – это «тайна за гранью бытия».[53]53
Дионисий. О божественных именах, II.7.
[Закрыть] Христианам надлежит понимать, что Бог – не Высшее Существо, не высочайшая сущность, стоящая во главе иерархии низших сущностей. Предметы и люди вовсе не противостоят Богу как отдельной, иной действительности, которую можно сделать объектом познания. Бог – это не один из объектов, существующих на свете; Он не похож ни на что из сферы нашего опыта. Фактически, точнее было бы именовать Его «Ничто»; во всяком случае, нам не следует называть Его даже Троицей, ибо Он – «не Единство и не Троица в том смысле, в каком мы эти понятия разумеем».[54]54
Ibid., VII.3.
[Закрыть] Он выше всех имен – так же как выше всякого бытия.[55]55
Ibid, XIII.3.
[Закрыть] Тем не менее даже свою неспособность говорить о Боге мы можем использовать как путь к единению с Ним, означающему не что иное, как «обoжение» (theosis) нашего собственного естества. В Священном Писании Бог открыл нам часть своих Имен – «Отец», «Сын» и «Дух Святой», – но сделал это не для того, чтобы передать какие-то знания о Себе, а чтобы пробудить в людях тягу к Нему и помочь им причаститься к Его божественной природе.
Каждую главу трактата «О божественных именах» Дионисий начинает с одной из богооткровенных керигматических истин – Его благости, мудрости, отцовства и так далее. Затем автор показывает, что хотя в этих чертах Бог, разумеется, раскрывает какую-то грань Себя, открываемое Им – не Он Сам. Если мы поистине хотим познать Бога, то и от таких атрибутов и имен должны отказаться. В итоге приходится признать, что Он – одновременно и «Бог», и «не-Бог»; рассуждения о Его «благости» неизменно ведут к постижению, что Он «не благ». Потрясение, вызываемое такими парадоксами, где познание неразрывно с неведением, возносит нас над миром обыденных представлений к невыразимой Реальности. И тогда мы говорим:
…Ему свойственны и разумение, и смысл, и осязание, и чувство, и мнение, и воображение, и имя, и все прочее, и Он и не уразумеваем, не осознаваем, не называем. И Он не есть что-то из сущих, и ни в чем из сущих не познается.[56]56
Ibid., VII, 3. Перевод д. ф. н. Г.М.Прохорова. Цит. по изд.: Дионисий Ареопагит. О божественных именах. О мистическом богословии. – СПб.: Глаголъ, 1994. – С. 246–247.
[Закрыть]
Таким образом, чтение Писания – не поиск фактов о Боге, а парадоксальное обучение, в ходе которого керигма обращается в догму. Этот подход и есть теургия – прикосновение к божественной силе, позволяющей нам подняться к Богу и, как прежде учили платоники, самим обожествиться. Иными словами, подход этот учит не думать! «Следует оставить позади любые помыслы о Божественном, положить конец работе нашего ума».[57]57
Ibid., I.I.
[Закрыть] Необходимо отказаться даже от отрицания Божьих атрибутов – тогда и только тогда удостоишься блаженного слияния с Богом.
Говоря о блаженстве, Дионисий не имеет в виду необычные душевные состояния или измененные формы сознания, каких достигают малопонятными йогическими техниками; блаженства способен достичь любой христианин, пользуясь парадоксальным методом молитвы и созерцания (theoria). Этот метод заставляет человека умолкнуть, погружает его в безмолвие: «Так что и ныне, входя в сущий выше ума сумрак, Мы обретаем не малословие, но совершенную бессловесность и неразумение».[58]58
Ареопагит. О мистическом богословии, 3. Цит. по изд.: Дионисий Ареопагит. Цит. соч. – С. 357.
[Закрыть] Как и Григорий Нисский, Дионисий усматривал глубокий и поучительный смысл в восхождении Моисея на гору Синайскую. Когда Моисей поднялся на вершину, он не узрел там Самого Бога, но просто попал туда, где пребывал Господь. Патриарха окутало густое облако, в котором он ничего не мог разглядеть; иными словами, всё, что мы способны увидеть и понять, является лишь символом (Дионисий использует тут слово «парадигма»), раскрывающим присутствие той Реальности, что за пределами мышления. Моисей погрузился во мрак неведения и так достиг слияния с тем, что выше понимания; мы тоже добьемся подобного экстаза, который «извлечет нас из себя самих» и соединит с Богом.
Но возможно это лишь потому, что Бог, так сказать, Сам желает встретиться с нами на горе Синайской. В этих рассуждениях Дионисий отступает от неоплатонизма, где недвижный и далекий Бог никак не откликался на человеческие порывы. Бог греческих философов не замечал мистиков, которым время от времени все же удавалось достичь восторженного единения с Ним; библейский Бог, напротив, чутко прислушивается к людям. Более того, Бог тоже испытывает своеобразный «восторг», экстаз, который извлекает Его из Себя и переносит в бренный тварный мир:
И осмелимся утверждать – ибо это правда! – что Сам Творец вселенной, в Его прекрасном и благом стремлении ко вселенной […] исходит за границы Себя в Своем чудесном Промысле и тянется ко всему, что есть […] И так Он покидает Свой запредельный Престол, что выше всего сущего, и поселяется в сердцевине всего сущего посредством экстатической силы, которая выше бытия, но с которой Он по-прежнему пребывает в Себе.[59]59
Дионисий. О божественных именах, IV, 3.
[Закрыть]
Эманации перестали быть автоматическим процессом и превратились в страстное, волевое излияние любви. Дионисиевы отрицания и парадоксы – это не что-то такое, что мы делаем, а нечто с нами случающееся.
У Плотина экстаз был чрезвычайно редким событием; сам он испытывал его всего лишь два или три раза за всю жизнь. Дионисий же считает восторженное состояние обычным для каждого христианина. Эта сокровенная, эзотерическая весть Писания отражена в тончайших деталях литургического действа: когда отправляющий службу священник покидает алтарь и шествует среди прихожан, окропляя их святой водой, происходит не только обряд очищения – хотя, конечно, и он тоже; имитируется божественный экстаз, когда Бог нарушает Свое обычное уединение и сливается со Своими тварями. Быть может, лучшим наименованием Дионисиева богословия будет духовный танец, в котором все, что мы вправе утверждать о Боге, неразрывно переплетается с ясным сознанием того, что любые суждения о Нем имеют исключительно переносный смысл. Как и в иудаизме, Бог Дионисия обладает двумя аспектами: первый обращен к нам – это Бог, проявляющий Себя в нашем мире; второй же скрыт от нас – это совершенно непостижимый Бог-как-Он-есть. В Своей вечной загадочности Он «пребывает в Себе», но в то же время целиком растворен в сотворенной Им вселенной; это вовсе не еще одна сущность, дополняющая наш мир.
Представления Дионисия стали для греческой теологии нормой, а на Западе богословы продолжали тем временем спорить и искать объяснений. Одни воображали, будто при произнесении слова «Бог» божественная Реальность на самом деле совпадает с идеей в голове, другие приписывали Богу собственные мысли и, вступая на путь, чреватый идолопоклонством, утверждали, что именно Он захотел того-то, воспрепятствовал тому-то и задумал то-то. Бог греческого православия оставался между тем таинственным, а идея Троицы по-прежнему напоминала восточным христианам об условном характере любых доктрин. Со временем греки утвердились в мысли, что настоящее богословие непременно должно удовлетворять двум Дионисиевым критериям, то есть быть бессловесным и парадоксальным.
В греческой и римской теологии сложились очень несхожие взгляды на божественность Христа. Греческая концепция Вочеловечения была предложена Максимом Исповедником (ок. 580–662 гг.), которого принято считать отцом византийского богословия. Его соображения намного ближе к буддийскому идеалу, чем западные. Максим считал, что человек может состояться только слившись с Богом – и эта идея роднит его с буддистами, которые утверждали, что просветленность является естественным человеческим предназначением. С этой точки зрения «Бог» вовсе не является чуждой и посторонней реальностью, необязательным дополнением к человеческому существованию. Нет, в мужчинах и женщинах заложено божественное начало, и только развив его до конца, они становятся настоящими людьми. Логос стал Иисусом не для того, чтобы искупить Адамов грех: Вочеловечение случилось бы, Даже если бы Адам не согрешил. Люди были созданы по образу Логоса и достигают полного расцвета, только когда подобие Ему становится безупречным. Восславивший человеческое Иисус явил нам на горе Фавор человека обожествленного, и к этому образу обязан стремиться каждый. Слово облеклось плотью ради того, чтобы «весь человек стал Богом, обожествленный милостью Бога, ставшего человеком – человеком цельным, душой и телом, по естеству, и Богом живым, душой и телом, по благодати».[60]60
Максим Исповедник, О различных трудных местах у святых Дионисия и Григория. Ambigua, Migne, PG 91. 1088с.
[Закрыть] В буддизме просветление не требует вмешательства со стороны сверхъестественной реальности и представляет собой развитие сил, присущих человеку с самого рождения. Сходным образом, обожествленный Христос явил нам статус, которого достигают по Божьей милости. Христиане могли бы почитать Богочеловека Иисуса так же, как буддисты преклоняют голову перед изображениями просветленного Гаутамы: он был первым, кто своим примером восславил и исполнил человеческое предназначение.
Если греческие представления о Вочеловечении сближали христианство с восточными традициями, то западное понимание Иисуса развивалось довольно странным образом. Классические для Запада идеи были выражены Ансельмом (1033–1109 гг.), епископом Кентерберийским, в трактате «Почему Бог стал человеком». Грехопадение, как утверждал Ансельм, было проступком таким страшным, что только Искупление могло предотвратить полный крах замыслов Божьих в отношении человеческого рода. Слово облеклось плотью, чтобы искупить нашу вину перед Богом. Божья справедливость требовала, чтобы долг этот возместил тот, кто есть одновременно Бог и Человек. Сам размах нанесенного оскорбления означал, что только сын Бога способен принести нам избавление, но, поскольку виновен все-таки человек, то и спаситель должен быть из нашего рода. Упорядоченная, юридически выверенная схема Ансельма изображала Бога мыслящим, рассуждающим и взвешивающим различные варианты так, будто Он тоже человек. Помимо прочего, такая картина укрепляла сложившийся на Западе образ неумолимого Бога, которого может удовлетворить только страшная смерть собственного Сына – через добровольное человеческое жертвоприношение.
Доктрину Троицы на Западе часто понимали превратно. В народе либо воображали сразу три божественных существа, либо вообще пренебрегали троичностью и «Богом» считали только Отца, Иисусу же отводили место Его божественного товарища – рангом, правда, пониже. Иудеев и мусульман идея Троицы тоже озадачивала; им она казалась богохульством. Тем не менее, как мы вскоре убедимся, в иудаизме и исламе мистики разработали почти такие же представления о Божественном. Например, в каббале и суфизме очень важное место заняла идея кенозиса [kenosis], самоопустошающего экстаза Бога. В Троице Отец передает всё, чем является, Сыну, отказываясь даже от возможности выразить Себя в другом Слове. С тех пор, как Слово это изречено, Отец хранит молчание, и мы тоже не в силах ничего о Нем сказать, поскольку единственный известный нам Бог – это Логос, или Сын. Таким образом, Отец лишен индивидуальности, у него нет «я» в привычном смысле, Он не вмещается в наши представления о личности. У истоков этого Бытия – Ничто, проблески которого ощутили Дионисий, Плотин, Филон и даже Будда. Поскольку Отец обычно олицетворяет завершение поисков, путь христианина ведет его ни к кому и в никуда. Идея обладающего личностью Бога или Абсолюта всегда была важна для человека. Индуистам и буддистам пришлось пойти на уступки и допустить существование персонализированного поклонения бхакти. Однако парадигма, или символика, Троицы предполагает, что всё личностное нужно превзойти, что верующему не достаточно воображать Бога как сверхчеловека, который ведет себя примерно так же, как мы сами.
В доктрине Вочеловечения можно разглядеть еще одну попытку избежать угрозы идолопоклонства. Если видеть в «Боге» лишь совершенно чуждую, «потустороннюю» действительность, Он может быстро превратиться просто в истукана, позволяющего человеку переносить свои мечты вовне и поклоняться собственной предвзятости и собственным желаниям. Другие религиозные традиции пытались предотвратить это, утверждая, что Абсолют так или иначе связан с человеческим бытием (как, например, в парадигме Брахман – Атман). Арий, а позднее Несторий и Евтихий, мечтали сделать Иисуса либо Богом, либо человеком; эти идеи встречали сопротивление отчасти потому, что разносили человеческое и божественное по независимым сферам бытия. Да, рассуждения ересиархов были подчас логичнее, но догма, в отличие от керигмы, не должна ограничиваться только объяснимым, что роднит ее с поэзией и музыкой. Доктрина Вочеловечения – даже в неуклюжих пояснениях Афанасия и Максима Исповедника – была попыткой выразить словами интуитивную уверенность в нераздельности «Бога» и человека. На Западе, где идея Вочеловечения толковалась иначе, Бог оставался достаточно далеким от людей, а Его бытие отличалось от известного нам мира. В результате оказалось намного проще сделать из такого «Бога» проекцию, которая утратила свою значительность лишь относительно недавно.
Так или иначе, провозгласив Иисуса единственным аватаром, христиане приняли довольно ограниченную религиозную истину: Иисус был первым и последним Словом Божьим, обращенным к человеку, что сделало любые дальнейшие откровения излишними. И христиане – как прежде иудеи – были сильно возмущены, когда в VII веке в Аравии появился пророк, утверждавший, что он получил прямое откровение от Бога и принес своему народу новое священное писание. Тем не менее еще одна разновидность единобожия, получившая впоследствие название «ислам», с поразительной скоростью распространилась по Ближнему Востоку и Северной Африке. Многие новообращенные-мусульмане из тех мест (а эллинизму так и не удалось там прижиться) с огромным облегчением отказались от греческой триипостасности, где Божественная тайна выражалась слишком чужим языком, и приняли более понятные семитские представления о Божественной реальности.
5. ЕДИНСТВО: БОГ МУСУЛЬМАН
Около 610 года один арабский купец, который никогда не читал Библию и даже не слышал, по-видимому, про Исайю, Иеремию и Иезекииля, испытал переживания, поразительно схожие с видениями древнееврейских пророков. Мухаммад ибн Абдаллах из племени курайш, житель процветающей Мекки, что в Хиджазе, каждый год, в месяц рамадан, удалялся с семьей на гору Хира для духовного уединения, как было заведено у многих арабов полуострова. На горе Мухаммад молился верховному богу и раздавал хлеб и милостыню нищим, навещавшим его в эту священную пору. Немало времени, вероятно, проводил Мухаммад в тревожных раздумьях. Последующие события его жизни показывают, что он очень остро переживал общее беспокойство, царившее в Мекке несмотря на ее удивительные успехи. Всего за полсотни лет до того курайшиты, подобно многим другим бедуинам, кочевали по Аравийским просторам. Новый день не сулил ничего, кроме все той же тяжкой борьбы за выживание. Однако в последние годы VI века племя чрезвычайно преуспело в торговле, и Мекка превратилась в один из важнейших центров Аравии. Курайшиты разбогатели невообразимо, но столь крутые перемены в образе жизни племени привели к тому, что прежние ценности сменила безудержная страсть к наживе. В душах царило смятение. Мухаммад понимал, что курайшиты ступили на опасный путь и нуждаются в новой идеологии, которая помогла бы приспособиться к изменившимся условиям существования.
В то время политические решения чаще всего принимали религиозный характер. Мухаммад сознавал, что новая религия племени строится на деньгах. Этому едва ли стоило удивляться, ведь люди не сомневались, что именно богатство избавило их от опасностей кочевой жизни, постоянного голода и жестоких нравов обитателей Аравийских степей, когда каждое племя ежедневно сталкивалось с угрозой истребления. Теперь же еды у курайшитов было вдоволь, а Мекка постепенно становилась международным центром торговли и крупных денежных операций. Члены племени чувствовали себя хозяевами собственной судьбы, а кое-кто готов был поверить, что богатство способно принести бессмертие. Но Мухаммад опасался, что новый культ самодовольства (истака) приведет к распаду племени. В прежней кочевой жизни на первом месте были общественные заботы, а личные оставались делом второстепенным: каждый понимал, что его жизнь зависит от благополучия всего племени. Этим объяснялся неукоснительный обычай помогать бедным и неимущим своей этнической группы. Однако теперь общинные ценности сменились индивидуализмом, нормой стало соперничество. Люди заботились только о личном достатке и не обращали никакого внимания на тех, кто попадал в беду. Каждый род племени боролся с остальными за свою долю богатств Мекки, и некоторые менее удачливые семьи (в том числе и род хашим, к которому относился сам Мухаммад) чувствовали, что стоят на грани гибели. Мухаммад не сомневался, что если курайшиты не сумеют сделать центром своей жизни что-то возвышенное и не преодолеют алчное самолюбие, то очень скоро племя уничтожит себя морально и политически в междоусобных стычках.
Не лучшим образом обстояли дела и в других районах Аравии. Бедуинские племена Хиджаза и Наджда столетиями вели между собой яростную борьбу за самое необходимое. Чтобы поддерживать у членов племени общинный дух, который только и мог обеспечить им выживание, арабы выработали идеологию мурувва, во многом заменявшую религию. На религию как таковую у арабов просто не хватало времени. У них был языческий пантеон и свои храмы, но они так и не создали сколько-нибудь развитой мифологии, которая отводила бы божествам и святыням место в духовном бытии. У арабов не было представлений о загробной жизни: они просто верили в высшую силу дарб, что можно перевести как «время» или «судьба», – в условиях высочайшего уровня смертности такие взгляды были, пожалуй, вполне оправданы. Западные ученые часто переводят понятие мурувва как «мужество», но спектр его значений намного шире: оно обозначает и отвагу в битве, и терпение, и стойкость в страданиях, и непоколебимую преданность своему племени. Нравственные каноны мурувва требовали от бедуина безоговорочного подчинения саййиду, главе племени, и мгновенного исполнения его воли без раздумий о собственной безопасности. Араб обязан был целиком отдавать себя благородному делу мести за любую обиду, нанесенную племени, и не щадя своей жизни защищать слабых сородичей. Саййид поровну распределял пищу и пожитки между членами племени, а за убийство любого из них отбирал жизнь у кого-то из рода обидчика. Именно в этом яснее всего проявлялась общинная этика: не было нужды наказывать самого убийцу, поскольку в таком обществе, каким оно было в доисламской Аравии, личность и без того могла бесследно исчезнуть в каждый миг. Для мести вполне годился любой член вражеского племени. На территории, где каждое племя само устанавливало себе законы, где не существовало ни центральной власти, ни полиции, кровная месть была единственным средством поддержания социального порядка. Если племени не удавалось отомстить обидчикам, оно сразу теряло уважение соседей и те получали право безнаказанно его истреблять. Кровная месть была, таким образом, грубой формой правосудия, но благодаря ей ни одно племя не могло добиться превосходства над остальными. С другой стороны, этот обычай не раз приводил к тому, что многочисленные племена быстро втягивались в замкнутый круг насилия: когда людям казалось, что отмщение не соразмерно с первоначальным проступком, одно убийство следовало за другим.
При всей своей жестокости мурувва, несомненно, обладала многими достоинствами. Она воспитывала глубокое чувство равенства и безразличия к материальному достатку – что тоже было весьма немаловажно в условиях, когда не хватало самого насущного. Возведение в культ щедрости и великодушия призвано было избавить арабов от тревог о завтрашнем дне. Как мы вскоре убедимся, те же добродетели займут важное место в исламе. Кодекс чести мурувва веками служил арабам верой и правдой, но к концу VI века уже не мог дать ответ на запросы эпохи. На последнем этапе доисламского периода, который мусульмане называют ал-джахилийа («эра неведения»), во всем арабском мире царила обеспокоенность и духовная тоска. Со всех сторон полуостров окружали две могучие империи – Персия Сасанидов и Византия. С обжитых земель в Аравию начали проникать современные идеи, а караванщики, побывавшие в Ираке и Сирии, рассказывали местным жителям о чудесах цивилизации.
Тем не менее арабы были, казалось, обречены на вечное варварство. Непрестанные войны между племенами просто не позволяли им объединить свои скудные ресурсы и стать единым арабским народом, хотя общность смутно сознавалась всеми. Им никак не удавалось завладеть нитями судьбы и создать собственную цивилизацию, поскольку то и дело приходилось покоряться внешним силам: например, самый плодородный и развитый район Южной Аравии, где ныне находится Йемен – его преимуществом были муссонные дожди, – стал заурядной провинцией Персии. В то же время новые идеи, проникавшие в этот регион, несли на себе отпечаток индивидуализма и подрывали прежний общинный дух. В частности, христианская доктрина загробной жизни придавала неизбежной судьбе личности священную значимость – но как можно было примирить это с племенными воззрениями, где личность уступала место роду, а бессмертие человеческой души зависело от выживания общины?
Тут и проявился исключительный гений Мухаммада. К концу жизни (он умер в 632 году) ему удалось сплотить все аравийские племена в единое сообщество – умма. Он дал арабам духовность, прекрасно сочетавшуюся с давними традициями. В ней таилась такая сила, что не прошло и сотни лет, как у арабов уже была совершенно своеобразная цивилизация и собственная великая империя, протянувшаяся от Гималайских гор до Пиренеев. Конечно, сам Мухаммад не мог предвидеть всего этого в месяц рамадан 610 года, когда молился в крошечной пещере на вершине горы Хира. Как и многие его соотечественники, Мухаммад верил, что Аллах, высшее божество арабов, чье имя означает просто «Бог», – тот же Господь, которого почитают иудеи и христиане. Кроме того, Мухаммад не сомневался, что трудности его народа разрешит только пророк, посланный этим богом, хотя, конечно, и помыслить не мог, что сам окажется этим пророком. Арабы с горечью сознавали, что Аллах никогда не посылал им ни провидцев, ни священных писаний, хотя в самом сердце Аравии с незапамятных времен существовало святилище в его честь. Большинство арабов свято верили, что Кааба (ал-Каба) – древнее сооружение кубической формы в центре Мекки – изначально была святилищем Аллаха, хотя к VII веку перешла к набатейскому божеству Хубалу. Мекканцы очень гордились Каабой, главной святыней Аравии. Ежегодно арабы со всего полуострова совершали паломничество (хаджж) в Мекку и на протяжении нескольких дней проводили там традиционные обряды. В окрестностях Каабы запрещалось всякое насилие, и потому в Мекке, где привычные междоусобицы приостанавливались, арабы могли торговать в полной безопасности. Курайшиты понимали, что едва ли достигли бы преуспеяния без этой святыни; почтительность, какую питали к мекканцам другие племена, во многом объяснялась тем, что курайшиты были хранителями Каабы, стражами ее давней неприкосновенности. Тем не менее Аллах, проявивший к курайшитам особое расположение, ни разу не посылал к ним таких вестников, как Авраам, Моисей или Иисус. У арабов даже не было священных текстов на родном языке.
Это неизбежно порождало массовый комплекс духовной неполноценности. Иудеи и христиане, с которыми жители Аравии тесно соприкасались, часто насмехались над арабами, считая их варварским племенем, не ведавшим божественного откровения. У самих же арабов к чувству обиды примешивалось невольное уважение к тем народам, которые обладали недоступными знаниями. Иудаизм и христианство в этот регион почти не проникали, хотя арабы признавали, что эти прогрессивные религии превосходят традиционное язычество Аравийского полуострова. В селении Йасриб (позднее Медина) и в оазисе Фадак, что к северу от Мекки, существовали иудейские общины сомнительного происхождения, а некоторые северные племена, чьи земли примыкали к владениям Персидской и Византийской империй, обращались в монофизитское и несторианское христианство. Однако бедуины превыше всего ценили свободу, решительно противились влиянию крупных сообществ (например, государства их собратьев в Йемене) и остро сознавали, что как персы, так и византийцы непременно воспользуются иудаизмом и христианством для того, чтобы распространить имперскую власть и на Аравию. Вероятно, подспудно арабы ощущали, что их культура и так сильно пострадала, ведь местные обычаи неумолимо отмирали. Иноземная идеология, выраженная чужим языком и незнакомыми традициями, подписала бы коренной культуре окончательный смертный приговор.
Кое-кто из арабов пытался, похоже, найти нейтральную форму единобожия, которая не была бы окрашена имперскими притязаниями. Еще в V веке Созомен, христианский историк из Палестины, писал, что сирийские арабы возродили исконную веру Авраама, который не был ни иудаистом, ни христианином, поскольку жил в те времена, когда Бог еще не дал людям Тору и Новый Завет. Первый биограф исламского Пророка Мухаммад ибн Исхак (ум. в 767 г.) свидетельствует, что незадолго до того, как Мухаммад обрел свой пророческий дар, четверо мекканских курайшитов пытались возродить ханифийа, истинную веру Авраамову. Некоторые западные учение доказывали, что крошечная секта ханифийа – вымысел, символизирующий духовные метания эпохи джахилийа, «языческого неведения», но даже у вымысла должна быть какая-то фактическая подоплека. Ранние мусульмане хорошо помнили имена троих из четырех ханифов: Абдаллах ибн Джахш был Двоюродным братом Мухаммада, Барака ибн Науфал – одним из первых его духовных советников, а Зайд ибн Амр – дядей Умара ибн Хаттаба, близкого друга Мухаммада и второго халифа Исламской империи. По легенде, прежде чем отправиться в Сирию и Ирак на поиски Авраамовой веры, Зайд некоторое время стоял, прислонившись к стене Каабы, и обращался к курайшитам, совершавшим в это время освященный традицией ритуальный обход вокруг святыни: «О, Курайш, по воле Того, в Чьих руках душа Зайда, ни один из вас не следует вере Авраамовой, кроме меня». Затем он с грустью добавил: «О, Боже, если бы только знал я, какого поклонения Ты желаешь, так бы Тебе и поклонялся – но я не знаю…»[1]1
Muhammad ibn Ishaq, Sira, 145, quoted in A.Guilaume, trans., The Life of Muhammad (London, 1955), p. 160.
[Закрыть]
Мечты Зайда о божественном откровении сбылись: в семнадцатую ночь месяца рамадан 610 года, на горе Хира, Мухаммад внезапно пробудился и понял, что окружен ошеломляющим божественным присутствием. Позднее он описал этот непередаваемый опыт в истинно арабском духе. По его рассказу, ангел предстал перед ним и повелел: «Читай!» Подобно еврейским пророкам, которые обычно произносили Слово Божье с большой неохотой, Мухаммад пытался возражать: «Я не прорицатель!» Он действительно не был кахином, одним из тех исступленных предсказателей, что бродили по Аравии и возвещали якобы ниспосланные свыше пророчества. В ответ ангел просто стиснул его в объятиях, да так сильно, что у Мухаммада перехватило дух. В тот самый миг, когда боль стала невыносимой, ангел отпустил его и повторил: «Читай!» Будущий Пророк снова отказался, и ангел опять крепко сдавил его и держал, пока Мухаммад мог терпеть. После третьего ужасного объятия Мухаммад почувствовал вдруг, как из его уст рвутся слова нового священного писания:
Читай (и возгласи!)
Во имя Бога твоего, кто сотворил —
Кто создал человека
Из сгустка.
Читай! Господь твой самый щедрый, —
Он – Тот, кто (человеку дал) перо
И научил письму,
А также обучил тому, что он не знал.[2]2
Коран, 96:1–5; здесь и далее цитируется по изд.: Коран. Перевод смыслов и комментарии Валерии Пороховой, 1997.
[Закрыть]
Слово Божье впервые прозвучало на арабском языке и стало той вестью, которую со временем запишут и назовут ал-куран, «чтение вслух».
Мухаммад очнулся в ужасе и отвращении к себе. Он боялся и думать, что стал одним из презренных гадателей-кахинов, к которым обращались, когда пропадали верблюды. Люди верили, что кахины одержимы джиннами: эти своенравные мифические существа населяли всякую местность и любили подшучивать над людьми. Считалось, в частности, что свой джинн есть и у каждого поэта. Так, например, Хасан ибн Табит, поэт из Йасриба, обратившийся позднее в ислам, утверждал, будто обрел поэтический дар после того, как появившийся перед ним джинн повалил его на землю и силой вырвал из его уст вдохновенные слова. Это была единственная известная Мухаммаду форма воодушевления извне, и мысль о том, что, вероятно, и он превратился в маджнуна, «одержимого», вызвала у него такое отчаяние, что ему расхотелось жить. Он всегда искренне презирал кахинов, чьи предсказания обычно сводились к невразумительной болтовне, и решительно отличал стихи Корана от традиционной арабской поэзии. И в тот день, выбежав из пещеры, он был полон решимости броситься вниз с вершины. Однако на склоне горы ему явилась еще одна сущность, которую он впоследствии отождествил с архангелом Гавриилом (Джибрилом):
Потом я вышел, и когда дошел до середины горы, услышал голос неба, говоривший: «О Мухаммад, ты – посланник Аллаха, а я – Джибрил!» Я поднял голову, глядя в небо, и увидел Джибрила в облике человека, стоявшего ногами на горизонте и говорившего: «О Мухаммад, ты – посланник Аллаха, а я – Джибрил!» Я стоял, глядя на него и не двигаясь ни вперед, ни назад, потом стал отворачиваться от него в разные стороны, но куда бы ни посмотрел, везде видел его таким же.[3]3
Ибн Исхак. Сира, 153. Перевод Вл. В.Полосина. Цитируется по изд.: Ибн Хишам. Жизнеописание господина нашего Мухаммада, посланника Аллаха (Сират саййидина Мухаммад расул Аллах) // Хрестоматия по исламу. – М.: Наука, 1994. – С. 19.
[Закрыть]
В исламе Джибрила часто приравнивают к Святому Духу, посредством которого Бог вступает в общение с человеком. Это не привычный нам образ миловидного ангела, а всенаполняющее, вездесущее присутствие, от которого невозможно скрыться. Мухаммад пережил встречу со всемогущей сверхъестественной реальностью, которую еврейские пророки называли каддаш – святость, вселяющая ужас непохожесть Бога на все известное. Сталкиваясь с ней, древние евреи тоже испытывали предельное физическое и душевное напряжение, подобное чувству близости смерти. Однако, в отличие от Исайи или Иеремии, у Мухаммада не было уравновешивающих метания одиночки познаний о давней традиции. Тяжкие переживания обрушились ни с того ни с сего и вызвали глубочайшее потрясение. Нестерпимо страдая, Мухаммад вне себя бросился к жене Хадидже.








