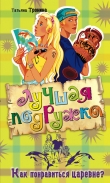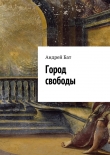Текст книги "Самый счастливый год"
Автор книги: Иван Лепин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 5 страниц)
11
В классе у нас висит лозунг: «Знание – сила». Я долго не понимал его смысла. Как это могут знания стать силой? Сила – это мускулы. У Кольки Зубкова они потверже, значит, он сильней меня. Пашка тоже ловкий, хоть и уступает Зубкову. В первом классе мы с ним не дрались, а раньше до драки доходило часто, и в этих поединках Пашка успевал больше надавать тумаков. Значит, и ловкость – сила.
А знания – представить себе не мог, чтобы были сильными.
И вдруг я совершил открытие! Нашел смысл! Я знаю больше, чем Пашка и Колька, и они, чувствую, к концу второй четверти явно заискивают передо мной: чуть ли не каждый день слышу:
– Давай вместе учить уроки, я жмыха принесу, наедимся от пуза.
Это Пашка просит. А Колька:
– Не будем больше драться, идеть? А если тебя кто хоть пальцем тронить, я заступлюсь… Слушай, отчего у меня двойки да тройки по письму? Дай твою тетрадку посмотреть, возможно, я что-то не так делаю… Дашки дома не будить? Тогда я забегу. И коньки принесу. Хочешь на коньках покататься?
Вот что такое «Знание – сила»! Правильно на стене написано.
Колька с последней просьбой сегодня пристал. Ладно, уважу. Неделю мы с ним не разговаривали, теперь вот колобком подкатился. Хотя мы, ребята, обычно быстро миримся, но я на принцип пошел: Колька виноват, пусть первым и ищет примирения. По-моему и получилось.
Через час, может, после возвращения из школы Колька явился ко мне. С тетрадкой и коньками-снегурками.
– Садись, – указал я на коник, – гляди, как я писать буду.
Колька, плотный крепыш, снял ватный, не по росту, полусак. Поудобней уселся, развернул тетрадку.
– Ну, пиши, – сказал я. – Э-э-э, да ты тетрадь неправильно ложишь, вот у тебя и не получается наклон. Надо вот как, чтобы нижний угол тетради упирался тебе в грудь. Иван Павлович ведь объяснял. Не слышал? Не надо мух ловить во время урока (это выражение я у Ивана Павловича перенял). Потом: зачем все перо в чернила обмакиваешь? Надо только кончик, иначе будить клякса.
Колька пыхтел, сопел от страдания, а я, почувствовав власть над ним (знание – сила), продолжал его поучать:
– Следи за нажимом… Так, молодец. А теперь напиши строчку большого «Щ».
– Нам ведь «Щ» не задавали.
– А ты напиши: Иван Павлович за это не заругаить. У тебя «Щ» плохо получается, потрудись.
Кольке ничего не остается делать, как подчиниться. Раз на помощь напросился, получай ее, только, чур, не лениться. Думаешь, пятерки легко даются? Терпение и труд нужны, говорил по этому поводу Иван Павлович. И еще одну пословицу приводил: «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда». Так что пиши, Николай Зубков, и не выкаблучивайся.
– Фу, – облегченно вздохнул Колька, справившись с моим заданием.
– Все? – заглянул я в его тетрадку. – Ну, а ты не знал, отчего у тебя двойки да тройки бывають. Вот постарался – и хорошо получилось. Четверка верная будить.
– Шутишь?
– Спорим?
– Ладно, если поставять четверку, я у Егора твои патроны стырю и верну тебе.
– Не нужны они мне…
– Тогда пойдем кататься.
– Пойдем. Только давай и Пашку прихватим.
– У нас же одни коньки.
– А мы по очереди.
Вышли на улицу: я – в лаптях, сплетенных Надей, Колька – в бурках с галошами. Только что перестал падать снег, глаза резало белизной. Пока к этой белизне не привыкнешь, смотришь прищурившись, подслеповато.
Пашка жил по соседству – в тридцати шагах. Мы по припорошенной тропке направились к нему – я впереди, Колька следом.
Едва я отворил дверь, как столкнулся с Пашкой носом к носу. Он как раз возвращался из закута – давал корове сено.
– Уроки сделал? – спросил я.
– По чтению осталось.
– Вечером прочитаешь?
– Прочитаю. А что?
– Айда на коньках!
– На чьих?
– Колька достал. Он за дверью дожидается.
Пашка покрутил головой: нет ли рядом матери.
– Идем. Корову накормил – что еще?
Речка Снова от Пашкиной хаты близко, не далее пятидесяти метров. К речке с крутого берега ведут скользкие ступеньки. Скользкие они по одной причине. Внизу – прорубь, где женщины полощут белье. Когда они его несут, с белья капает вода и тут же замерзает на ступеньках. Потому спуск небезопасен.
Но это взрослые спускаются еле-еле. Мы, мальчишки, поступаем просто: скатываемся, как с горки. Только б в прорубь не угодить. Впрочем, угодить в нее может лишь слепой: прорубь находится немного в стороне от сбегающей с кручи дорожки.
Мы подошли к спуску и друг за дружкой съехали на стекольный, надежный уже, лед. У берегов замело его снегом, а середина реки была чистая, подметенная ветром.
– Ну, кто первый? – спросил Колька, снимая с плеча коньки.
– Я, – вызвался Пашка.
– Не, пусть он, – кивнул на меня Колька («Знание – сила!» – вспомнил я свое открытие).
Пашка необидчиво махнул рукой:
– Он так он.
Я на коньках маленько кататься умел. И не кататься даже, а стоять. Если меня тянуть за руку или подталкивать сзади, то я мог еще с горем пополам катиться. А чтобы самому разогнаться – ни-ни.
Примерно так же освоил коньки и Пашка: мы с ним прошлой зимой вместе учились.
А вот Колька уже заправски катался. Оно и понятно: Егору его друзья часто давали коньки на день-два, а Егор – Кольке. Стыдно было бы ему не уметь!
Коньки крепились к обуви веревками, которые у взъема закручивались крепкими, длиной сантиметров по двадцать, палками.
– Не больно? – спрашивал Колька, приспосабливая к лаптю первый конек (мне это дело он не доверил).
Было больно, особенно пальцам, но я терпел. Лапоть мой под натиском веревок сжался, сморщился.
– Порядок. Давай вторую ногу.
Таким же макаром Колька прикрутил и другой конек.
– Теперь катись.
Я попытался сделать по гладкому льду шаг, но коньки разъехались в разные стороны.
– Давай руку, – бесцеремонным тоном, каким я командовал Колькой полчаса назад, сказал он.
Он взял меня за руку и потащил за собой. Шахтерские галоши его почему-то не скользили, Колька бежал по льду быстро и легко. Вот он достиг наивысшей скорости и, отцепив свою руку от моей, юркнул в сторону, а я, подгоняемый попутным ветром, далеко покатился один. Но тут левый конек неожиданно попал в трещину, и я спикировал. Упал на колени, больно ушибся.
Подбежали Колька с Пашкой, спросили в один голос:
– Не убился? А вообще понравилось?
– Понравилось, – сквозь слезы ответил я. – Кто следующий? – спросил и принялся откручивать палки.
– Почему так мало?
– И вам же надо, – не сознавался я в истинной причине. – А то вечер скоро.
И тут Пашка сказал:
– Ну их, коньки, айда, ребя, на санях кататься.
– На каких?
– На колхозных. Возле конюшни стоять. Анадысь взрослые ребята укатили их и целый вечер катались.
– А сторож?
– Он приходить, когда стемнеить.
Мы с Колькой переглянулись и приняли Пашкино предложение без слов. К тому же мороз сегодня слабый, не страшно, если с саней свалишься в снег.
По тем же скользким овальным ступенькам мы вскарабкались на берег. Запыхались, Колька чуть коньки вниз не упустил: они у него связанные висели на плече.
На санях, я знаю, взрослые ребята и подростки лет четырнадцати-пятнадцати катались часто. Сядет их десятка полтора и несутся со смехом, с шумом-гамом в низ покатого оврага, что начинается невдалеке от колхозного двора. И нам, мелкоте, иногда выпадала удача скатиться со взрослыми. Сани неслись с ветерком, опасно кренясь на поворотах. Иногда и опрокидывались, и тогда все огромным черным комом летели в сугроб. Потом кто-то искал в снегу шапку, кто-то вязенки, а то и валенок, смеха и шума было еще больше. И странно, что при этом никто не получал ушибов. А может, кто и получал, но помалкивал – во избежание насмешек.
Сторож Пантелеич, сухонький, вечно покашливающий, незлой мужичонка, во время катания обычно стоял на верху оврага и, когда сани поднимали туда, жалостливо просил:
– Только не поломайте сани, а то я буду отвечать. И привезите их на место.
– Хорошо, Пантелеич, привезем, – успокаивали его ребята, но он не уходил и продолжал наблюдать за катанием. Может, в эти минуты вспоминал он свою далекую молодость, тоже, должно, озорную и шумную, и теплое чувство былой радости согревало вдруг его душу.
Но это взрослых да подростков не трогал Пантелеич, когда они без спроса угоняли сани. А как он на нас посмотрит? Прогонит от конюшни, а то и огреет ореховой палкой, что неизменно носит с собой? Ввечеру заявится на работу Пантелеич? Это Пашка так сказал. А вдруг он уже сейчас там? Ну, не он, так бригадир или председатель, что еще хуже. Председатель, говорила Даша, уже ругал Пантелеича: «Зачем разрешаешь сани брать? Поломають, а у нас их и так – раз-два и обчелся. Заметишь, кто сани береть, – сообщай мне, я лично буду меры принимать». Вот еще не хватало, чтоб нас Пантелеич застал, доложил предколхоза. Каково будет Даше, если ее однажды вызовут в правление и скажут: «Ты оштрафована на столько-то трудодней». – «За что?» – «Твой брат замешан в краже саней». Ничего себе будет подарочек для сестры!
И чего меня во всякую шкоду вечно тянет?..
Тронулись на колхозный двор.
Нам повезло. Вдвойне. Во-первых, возле конюшни ни сторожа, ни бригадира, ни председателя, ни конюха, никого, в общем, из взрослого народа не оказалось, и мы легко нашли за конюшней сани без оглобель. Полозья малость примерзли, но мы втроем подналегли на сани, и они сдвинулись с места.
Во-вторых, нам еще вот в чем повезло. Едва мы откатили сани, как нас догнал Егор Зубков – он как раз из школы возвращался.
– Га! Во молодцы, и я с вами! – налетел он сзади, перепугав нас, и сразу начал помогать.
Так что сани доставили мы к оврагу без особого труда.
Много в моей восьмилетней жизни было тяжелых, грустных, пасмурных дней, но не затмить им нежданную радость редких, вот таких, как нынешний день. Мы неслись на санях под гору, они летели сами, будто по щучьему веленью, и не было на свете силы, способной остановить наш стремительный полет. Уши моей шапки весело трепыхались на ветру, в груди под ватным полусаком возбужденно билось такое маленькое – с кулачок, но согревавшее всего меня горячее сердце. Что значат нехватки еды, одежды, учебников, тетрадок по сравнению с этим белым снегом, с этими вот сказочными санями и лихим встречным ветром?! Ничего не значат!
Вскоре к нашей компании пристали еще двое мальчишек, и сани втаскивать на гору стало значительно легче.
Вот мы снова вспрыгнули на сани, Егор с криком «Держись!» толкнул их, и снова – ощущение полета. Зря участливые соседки говорят порой про меня, что несчастный я сиротинушка. Я сейчас самый счастливый! Ласкает меня снежный ветер, несут меня крылья-полозья, а в санях рядом со мной – ватага звонко хохочущих братьев. Какой же я сирота?!
Сани наконец остановились, и мы выпрыгнули на снег. Я при этом за что-то зацепился и упал. Глянул на левую ногу: не было печали, так черти накачали! Опорка развязалась, онуча сползла. Снял мокрые, многажды латанные вязенки, присел на снег, чтобы привести свою амуницию в порядок.
– Ты чего? – подскочил Колька.
– Да вот, опорка.
– Давай помогу.
– Помоги.
Мы вдвоем замотали как следует ногу тяжелой суконной онучей, надели лапоть, и Колька туго завязал опорки.
– Порядок?
– Порядок.
– Айда кататься…
Домой я вернулся затемно, весь в снегу, шмыгая носом, возбужденный и радостный.
– Где тебя черти носили? – охладила мою радость Даша. – Посмотри на себя: местечка сухого нетути.
Я молча снял полусак, бросил его на печь, вязенки сунул в печурку.
– Лапти в печь давай положу, – сказала менее строгим голосом Даша – отошла уже, – а то к утру не высохнуть.
Я снял лапти, подал их сестре.
– Катался на коньках?
– Не, – соврал я.
– Не бреши, вон носки скрючены, не вижу, что ль. Катайся, катайся на свою голову. Новые лапти теперь некому плести, а галоши до половодья не дам носить.
– И этих хватить, – несмело возразил я.
– Если будешь их уродовать – ползимы, можить, всего и проходишь. Не знаю я, что ли…
Поворчала Даша и успокоилась, принялась за свое дело – вязать кружева. А я, поев картошки с соленой капустой, залез на теплую печь, лег на живот, подложил под себя ледяные руки и вскоре уснул самым счастливым на свете сном.
ПОМЕТКИ И. П. ЖУРАВЛЕВА
Оригинально же ты истолковал афоризм «Знание – сила!». Это только ребенок может так истолковать – наивно, но по-своему. Мое упущение, что я вам не подсказал истинный смысл этих слов.
Запоздавшее тебе спасибо за подтягивание отстающих учеников! Я ведь ваш класс отлично помню, и был я тогда приятно удивлен, что у Зубкова и Серегина появились четверки.
Растревожил ты мне душу эпизодом о катании на санях. Действительно, незабываемы ребячьи забавы. Мне вон скоро шестьдесят, а как явственно помнится детство! Я, наверное, до полуночи не мог сегодня уснуть, перебирая его в памяти, перелистывая, словно книгу, день за днем.
12
В конце декабря Даша велела мне подстричься.
– Отрастил патлы, скоро, как девке, нужно косы заплетать.
Насчет кос она, конечно, присочинила, но подстригался я последний раз еще в начале четверти, и, действительно, пора уже снова идти к Никите Комарову, Вовкиному отцу. У него, единственного в деревне, есть машинка для стрижки волос – трофейная, и он бесплатно обслуживал всю нашу Хорошаевку – и взрослых, и детей.
Что бы ни делал Никита, чем бы ни был занят, если приходил к нему человек, он бросал любую работу и спешил обслужить очередного клиента. Он усаживал его посреди хаты на шаткую, скрипучую табуретку, накрывал плечи большим – с каймой – черным платком и доставал из сундука машинку.
Не знаю, как взрослые, а дети шли к Никите без особой охоты. Дело в том, что машинка у него была старая и, наверное, тупая и во время стрижки она вырывала немало волос с корнем. До поры до времени терпишь, потом начинаешь от боли закусывать губы, потом пускаешь молчаливую слезу. Никита, конечно, замечает твои мучения и пытается подбадривать:
– Терпи, казак, атаманом будешь.
Иной «казак», единожды подстригшись у Никиты, потом обходил его хату десятой дорогой, предпочитая быть стриженным овечьими ножницами и ходить затем с полосатой головой, чем пользоваться услугами Никиты.
Даша подстригать меня не любила, боясь теми самыми овечьими ножницами отхватить мне пол-уха или кусок кожи на голове. Так что иного выхода у меня не было, кроме как подставлять свои патлы под машинку Никиты Комарова.
Вот и очередной раз подставил. Сжав кулаки, зубы, чтобы не закричать от боли, я сидел мужественно и даже не вертелся. А Вовка смотрел с печи на мои муки и посмеивался:
– Пап, больно медленно ты его стрижешь, побыстрей надо, побыстрей.
Никита, срезая на макушке последний клок, тоже усмехнулся:
– Придется… Машинка, должно, лучше стала стричь, раз терпить…
– Куда там – лучше, – чуть не плача, обиделся я. – А ты не подначивай, – посмотрел я на Вовку. – Сам небось орешь, когда стригуть.
– Ореть, – поддержал меня Никита. – Все вы орете. Ты вот случайно вытерпел.
Может быть, и случайно, может быть, потому, что уже не дошкольник какой-нибудь я, а первоклассник как-никак.
Я соскочил со скрипучей табуретки и полез на приступок поближе к Вовке.
– Что ты тут делаешь? – спросил его.
– Ничего.
– Пойдем со мной.
– Куда?
– К деду Емельяну. Он болеить. Дуня, когда к вам шел, встретила меня, говорить: «Что ж ты деда не проведаешь? Он велел передать, чтобы проведал». Пойдем к нему, а?
Одни соседи у нас Серегины, другие – тетка Дуня и муж ее дед Емельян, старый учитель, учивший долгие годы, еще, рассказывают, с дореволюционных лет, в Борисовской начальной школе, что в пяти километрах от Хорошаевки. Месяца два назад он приболел, на ноги стал жаловаться, и пока не учит. Я его часто навещал – папиросы покупал для него, – он все на печи лежал, грел свои старые кости. В последний раз он подробно расспрашивал меня, как учусь, нравится ли учитель. Я сказал, что нравится, и он тоже похвалил Ивана Павловича: «Серьезный, я его еще с подростков знаю. Когда колхозы организовывали, он всё лозунги писал, плакаты, стенгазету рисовал. Рисовать он мастер. Так что тебе повезло с учителем». Я согласно кивнул. А потом дед Емельян попросил почитать. «Как хоть ты читаешь – послушаю», – сказал он и протянул газету. Я зарделся, боясь оконфузиться (газет я никогда еще не читал), и, сославшись на то, что меня ждут на улице ребята, пообещал почитать в следующий раз.
Теперь вот у меня идея родилась. Сходим-ка мы к деду Емельяну с Вовкой. Если оконфузимся, то вдвоем. А может, и не оконфузимся, наоборот, смелее будем держаться, увереннее.
– Ну, пойдем? – повторил я вопрос.
– У отца сейчас отпрошусь…
Отец Вовку отпустил, тем более к деду Емельяну, человеку в деревне уважаемому, только предупредил, чтобы нигде кроме не шлялся.
На дворе тихо, морозно. Снег вкусно похрустывает под ногами, беснуются воробьи возле свежего конского навоза.
Мы шли с Вовкой посреди улицы, цепко взявшись за руки.
Минут через пять (деревня наша небольшая, тридцать с лишним дворов) мы стояли на крыльце деда Емельяна и веником из вишневых прутьев обметали с ног морозный снег.
Робко вошли в хату. Дед Емельян лежал на печи, повернувшись к нам спиной. По тому, что он не пошевелился, мы поняли: спит.
Тетки Дуни дома не было. По соседям небось ходит, новости рассказывает. Это ее любимое дело – по соседям ходить.
Я нарочно кашлянул в кулак, чтобы дать о себе знать.
Видим: дед Емельян заворочался. Он повернул голову, долго всматривался в нас.
– Кто там?
– Я.
– Один?
– Нет, с Вовкой.
– А я гляжу: ай у меня в глазах двоится? Мне бабка говорила, что ты обещал прийти… Ну, снимайте одёжу, проходите.
Дед Емельян сел на край печи, свесив ноги на приступок. Квадратная сивая борода его, сивые же волосы были взлохмачены. Дед пригладил бороду ладонями, извинился:
– Вот уже и стричься-бриться перестал. Обленился, как старый кот. Но ничего, уже легчает, скоро топать начну… А это хорошо вы придумали, что вдвоем. Садитесь вот на приступок.
Он достал из-под подушки очки в кожаном футляре, зачем-то надел их. Причем одной дужки у очков не было, и дед Емельян вместо нее привязал суровую нитку, которую и намотал на ухо.
– Ну, что за погода на дворе? – видимо, просто так спросил дед Емельян.
– Мороз, – ответил я.
– Снег. Но и не особо холодно. Воробьи вон летают, – добавил Вовка.
– Эти холода не боятся.
Дед Емельян был одет в льняную рубашку-косоворотку, каких ныне не носят, на ногах у него были белые шерстяные носки.
– Есть хотите?
Мы переглянулись.
– Нет.
– Тогда, – сказал он мне, – пойди в другую комнату, там на этажерке, на средней полке, лежит книжка. «Рассказы» называется, Антон Павлович Чехов ее написал, принеси ее.
Через минуту я подал ему тонкую книжку в белом бумажном переплете.
– Еще в детстве, – листая книжку, говорил дед Емельян, – я услышал замечательный рассказ Чехова «Ванька». Я его перечитывал потом, может, тысячу раз и сейчас попрошу, чтобы вы его мне прочитали. Глаза мои стали слабые, очки помогают мало, а по рассказу я соскучился… Вот он, на сорок первой странице начинается. – Дед Емельян протянул нам раскрытую книгу. – Ну, кто первый? Один устанет, другой продолжит.
– Давай ты, – шепнул я Вовке.
– Не, ты начинай, а я – за тобой.
Я взял из белых, сморщенных рук деда Емельяна книгу. Откашлялся, подвинулся поближе к небольшому окошку над приступком.
– «Ванька Жуков, девятилетний мальчик, – медленно начал я читать: буквы были намного меньше, чем в букваре, – отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкапа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать…»
Я остановился, взглянул на деда Емельяна, снова прилегшего. Он уже снял очки и глазами сказал мне: хорошо читаешь, продолжай.
Продолжая, я вспомнил, что и мне надо написать письмо – брату в Ростов. Вишь, какой Ванька Жуков молодец. Дедушка его, Константин Макарыч, который служил ночным сторожем у господ Живаревых, и не просил написать, а Ванька сам догадался. Мне же брат целый выговор сделал: «Когда в школу не ходил – присылал мне письма, а пошел учиться – ни одного не написал». Нехорошо я поступаю, тем более что мне не надо, как Ваньке, тайком письмо сочинять.
– «А вчерась мне была выволочка, – дошел я до Ванькиного письма. – Хозяин выволок меня за волосы на двор (я представил рождественский мороз, Ваньку, одетого в одну сатиновую рубашку) и отчесал шпандырем за то, что качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул (бедный Ванька, ему и поспать вволю не давали). А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала мне в харю тыкать…»
Чем дальше я читал, тем явственней представлял Ваньку, обиженного судьбой мальчишку, моего ровесника, которого те самые Аляхины плохо кормили, а спать велели только в сенях. Ну что бы Ваньке не родиться попозже, после революции, лучше, чтоб в одном со мной году. Мы бы с ним ходили в школу, катались на санях, ходили к Вовкиному отцу подстригаться. Я бы сегодня его взял с собой к деду Емельяну – вместе с Вовкой. И мы бы сейчас по очереди читали, только не вдвоем, а втроем…
– «…Милый дедушка, сделай божескую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности…»
На этом месте я задергал носом, начал часто останавливаться. Если б никого сейчас рядом не было, я бы расплакался.
– Теперь ты, – передал я книгу Вовке и уступил ему место возле окошка.
Дед Емельян слушал, прикрыв глаза. Вот он их вытер указательными пальцами. Неужели и ему хочется плакать, жалеючи Ваньку? А старики разве плачут? Я думал – только дети и женщины…
Вовка читал не хуже меня, а даже чуть бойчее, правда, при этом иногда неправильно прочитывал какое-нибудь слово, и ему приходилось останавливаться, повторять его.
– «Милый дедушка, – громким голосом продолжал чтение Вовка, – а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи: для Ваньки».
Барышня представилась мне в образе молодой красивой девушки, одетой в легкое белое платье. Она добрая и, конечно, не пожалеет для Ваньки ореха. Вот только осмелится ли дедушка подойти к барышне? Он, наверное, очень робкий.
– «Ванька свернул вчетверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку… Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес:
На деревню дедушке».
– Так и написал? – перебил я Вовку.
– Так, – спокойно ответил Вовка. – А что тут такого?
– Не дойдет же.
– Почему?
– Нужно указать область и район, а также название деревни и фамилию дедушки. Меня Надя учила, я знаю…
– Тише, – успокоил меня дед Емельян и приподнял раскрытую ладонь, – пусть дочитывает.
Рассказ вскоре закончился, но я не слышал, что было в конце. Так обидно мне было за Ваньку, так обидно!.. Не дойдет письмо, не узнает Константин Макарыч, каково живется его внуку у сапожника Аляхина, не попросит он для него гостинец, не заберет обратно… Будут Ваньку по-прежнему тыкать селедкой в харю, кормить чем попало, спать велят только в сырых и холодных сенцах.
– Ты прав: не дойдет. Жаль Ваньку, я столько в детстве слез пролил по его несчастной судьбе, – медленно говорил дед Емельян, затягиваясь папиросой. Он помолчал. – Хорошо вы читаете, бегло, молодцы. Теперь вам под силу будут любые книги. А в тех книгах написано про добро и зло, как они борются меж собой. Чаще в той борьбе побеждает добро, потому что его на земле больше. Но случается и наоборот. Так что, читая книги, учитесь быть добрыми и ненавидеть зло. Учитесь сочувствовать слабым, но добрым, как Ванька Жуков. И тогда вы, милые мои ребятки, вырастете нужными людьми…
Звякнула щеколда, и в хату вошла тетка Дуня. Увидев меня и Вовку, она всплеснула руками:
– Да у нас гости. Двое… А я уж, грешным делом, подумала: забыли нашего деда.
– Не забыли, – ответил с печки дед Емельян. – Они мне такой рассказ прочитали… такой рассказ…
Тетка Дуня достала с полицы неначатую ковригу ржаного хлеба, положила ее на стол.
– Ну, идите полдничайте, коли моего деда уважили…
На сей раз меня не нужно было упрашивать: здорово уже проголодался. Сели за стол.
Тетка Дуня нарезала тонкими скибками хлеб, налила в кружки топленого молока. Молоко еще было теплым, оно пахло… Ни с чем не сравнить запах топленого молока!
Мы не спеша разжевывали хлеб, запивая его желтым густым молоком. Тетка Дуня пододвигала нам скибки хлеба поближе, а с печи удовлетворенно поглядывал на нас старый учитель дед Емельян.
ПОМЕТКИ И. П. ЖУРАВЛЕВА
Может, сократить то место, где меня дед Емельян упоминает? Лозунги я писал, стенгазету выпускал – это верно. Но ведь у меня помощников сколько было! Про них же – ни слова. А это неправильно.