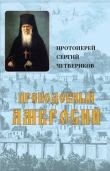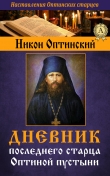Текст книги "Пути небесные. Том 2"
Автор книги: Иван Шмелев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
XVII
В ДЫМУ КАДИЛЬНОМ
– И вдруг совсем no-новому показал себя, дивную школу выстроил. О ней писали. На открытии были известные педагоги, Ушинский даже. Олюшеньке прислал почетное приглашение, но она уже болела. После граф Толстой приезжал смотреть, остался недоволен почему-то и сказал Кузюмову: «Не пыль в глаза, а свет в душу надо! на такие деньги три школы можно завести». Кузюмов ловко ему ответил: «Вы, граф, за всех светите в вашей Ясной». Толстой засмеялся, сказал: «Ловко вы… „светите в Ясной“!» Умный Кузюмов.
Дарья Ивановна поминает про этот разговор в «записке»:
«Меня взволновал рассказ Нади, особенно про гусара. Я подумала: это Дмитрий В. И была рада, что он держал себя целомудренно. Видела я ту барышню, много спустя, в Шамординке, в обители, созданной батюшкой отцом Амвросием. Какая чистая, строгая подвижница. Как знаменательно: шутка пременилась в пример высокий волею Господа. Как же не научаться сим? О, тайна промышления Господня!»
– И вот, – продолжала Надя, – вошел он в церковь. Я сразу почувствовала… что-то произошло: зашептались. Гляжу – все смотрят, а лица совсем испуганные. Сначала он стоял у дверей. Вбежала Манюшка с вашими цветами, даже его толкнула, и всех распихивала, как чумовая. Тихо было, Володёк Шестопсалмие читал, а она на всю церковь скрипела, будто ее душили: «Да пропущайте скореича, твиточки барыне!» Конечно, он слышал, смотрел, кому эти дивные цветы. Как он смотрел, когда вы возлагали на налое! Чтобы лучше вас видеть, перешел направо, где «Вход Господень в Иерусалим». Вы опустились на колени. Вы особенно преклоняетесь, как никто, духовно как-то, все любовались… И вот «Хвалите…» Все стали на колени, Пимыч поджег зажигательную нитку паникадила. Петра и Павла у нас большой праздник, полное многосветие, полиелей. Да солнце еще, хрусталики… А он так и остался стоя, откинулся к стенке: и я вижу с ужасом: в руке у него… нагайка! Чуть не сорвала на выносе, так смутилась. Евангелие… это дивное «Симоне Ионин, любиши ли Мя…». Взглянула, чувствует ли он это? Все так же, у «Входа в Иерусалим», смотрел к вашему окошку. Вы слушали коленопреклоненно, вашего лица не было видно. И так велелепно, в дыму кадильном!.. Потом понесли в придельчик лилии. Вы показались мне… светлым ангелом! Эти рукавчики с «плечиками» – крылышки! Как же он смотрел!.. А я думала: «Смотри, это не твоя тьма!» Смотрел, как давали вам дорогу, любовались… Темное его лицо напряглось, перекосилось как-то… и я вдруг подумала, как осенило меня: «Он весь захвачен…» Боже мой, вы так напомнили мне Олюшеньку!.. Простите меня, но я не могу утаить от вас… мысль вдруг: может быть, и ему напомнили?..
Даринька смутилась, растерялась. Едва промолвила:
– Что вы, что вы… откуда это у вас… не знаю, что общего…
– Ну, простите меня, я иногда так сболтну… Но, право, мелькнуло так. Вы вошли в придельчик, и он ушел. Почему вы грустны?..
– Нет… – растерянно вымолвила Даринька, – устала я.
– Да… забыла вам сказать. Когда хоронили Олюшенъку, он провожал до могилки, подошел к Костеньке и молча пожал руку. Все-таки он несчастный…
Даринька не ответила, покусывая травинку.
– Звал Костеньку к себе. У него огромная библиотека, вся философия имеется. Костенька как-то ездил за книгами. Когда узнали, что усадьба продается, он давал «сколько хотите». Мальчики хотели продать с выбором, многим отказали, и ему. Ваш муж был в мае, понравился им… совсем непрактичный, говорили. И папа их такой был. И Олюшенька наша. Их растрогало, когда ваш муж сказал: «Моя жена очень любит цветы, и так тихо тут, а ей это необходимо, она очень была больна». Вы были сильно больны?..
– Да, раньше. Хотелось тишины, уюта… потому и зовем Уютово.
– А было Ютово! Как удивительно!.. И продали вам. Мама тоже очень любила тишину. Так им было легче расставаться. Кузюмов через других пробовал, но Матвевна как-то узнавала. Боялась: «Ну-ка темный гнездышко схватит наше!» И вот Господь послал нам вас. Олюшенькина душа теперь спокойна.
Даринька пошла в Уютово, стараясь удержать мир в душе, гоня тревожащие мысли, не сознавая их. Что-то неопределимо смутное осталось от рассказов Нади, и это смутное мешалось со светом тихим от лучезарной всенощной.
На «Фаворе» она остановилась, полюбовалась на розовую от заката церковь. Повернулась к Уютову и увидала над ним, на закатном небе, розовых голубей, кружившихся в блеске над усадьбой. Сказала, радуясь:
– И белые голубки у нас… как все чудесно!..
Пошла, в мире, и в сердце ее пело– Аллилуйа.
XVIII
ЖИЗНЬ ЖИТЕЛЬСТВУЕТ
Виктор Алексеевич благостно вспоминал о первой поре в Уютове, безмятежно-светлой.
Он радовался, что смущавшие Дариньку «знамения», мешавшие вполне отдаться жизни, кончились. Она стала живей, свободней, земней. Это делало ее доступней. Настала жизнь, то, что называется – «жизнь жительствует», где-то удачно сказано, помнилось. Эта «живая жизнь» открывалась ему в Уютове впервые, в хозяйственных даже мелочах. Он охотно выслушивал советы Матвевны прикупить смежную рощу, которую можно почистить, будет дров года на три, и усадебка округлится; говорил с Карпом о лошадях, о починке экипажей, о поросятах. И было ему приятно, что Даринька участвовала в этих разговорах, понимала все лучше его, и Матвевна с Карпом соглашались с ней. Виктор Алексеевич переживал хозяйственный захват, ему как бы открылось, – прочел недавно «Анну Каренину», перевоплощался в Левина, – что труд «на земле», жизнь «от земли» – самая здоровая и чистая, самая даже красивая. Как хорошо, что купили Уютово! Он высказывал свое Дариньке. Она говорила:
– Будет еще лучше, ты увидишь.
Что же могло быть «еще лучше»? Время шло, и он чувствовал, что теперь было «еще лучше». В Москве ему казалось, что в захолустье никакой жизни нет, все изо дня в день, ни интересных лекций, ни концертов, ни обедов в «Эрмитаже» с Даринькой: он хотел привить ей вкус к жизни и развлечениям и сам увлекся. А теперь, в захолустье, открывались радости, на рассеянный взгляд едва приметные, но, если вдуматься, полные глубокого смысла, – радости бытия. Ему приоткрывалась не уловимая тугим ухом симфония великого оркестра – Жизни. Он спрашивал себя, почему же раньше ее не слышал, почему бывало скучно, почему ему слышался только шум?..
Эта симфония открылась ему с первых же дней в Уютове. Он услышал, как одухотворенно поет соловей, «высказывает себя». Почувствовал, как каждый цветок дышит своим дыханьем, единственным, не сравнимым ни с чем другим: жасмин, лилия, резеда, петуньи… как высвистывает зяблик, поет малиновка, выигрывают витютни свое уррр-уррр… как деловито гудят и реют пчелы в малиннике, кудахчут с заливом куры, квохчут с цыплятами нэседки, звенят жаворонки в лазури, кричат петухи вот так, а ночью совсем иначе, «как бы вещая что-то», и почему-то в урочный час… – и все эти песни, дыханья, крики связаны чем-то общим, что-то творят единое… – чудный какой-то гимн. Ему думалось, что все точно и мудро поставлено на место, назначено для чего-то, подчинено закону, до самого неприметного, до толкунчиков в солнечном луче, – «к теплу», по словам Матвеевны, – и во всем знак и мысль, и эти знаки и мысли, понятные Матвевне, Егорычу, Карпу, Анюте даже… – ему, инженеру-астроному, пока еще непонятны, но… «непременно надо заняться этим, тут что-то есть». Это «что-то есть» как-то соприкасалось с еще таинственным для него внутренним миром Дариньки.
Он был склонен к глубокомыслию. Но прежние размышления были совсем иные, «голые упражнения рассудка», без ядрышка, без плоти. А тут, в Уютове… – что за диво? – самое как будто неприметное вызывало живые размышления, закладывало в нем какую-то важную постройку.
В такой умягченности душевной, в радостности от новой Дариньки, расцветавшей жизнью от этой жизни по-новому, он забыл деловые планы, перестал кабинетннчать, отдыхал. Взял двухмесячный отпуск, в депо не ездил, – купался в уютовском приволье.
В Петров день охотно пошел с Даринькой к обедне. Церковь ему понравилась, а праздничные бабы, глазевшие на него, напоминали детство, лето в имении отца. С улыбкой слушал, как шептались, оценивали его: «И супруг красивый какой, звезда селебрена… инерал». Понравилось и пение, и батюшка. «Артистически возглашает…» – шепнул он Дариньке, но она укорительно повела глазами. Глазами она просила, когда надо преклониться, и он слушался и любовался, как она вдохновенно преклонялась. До конца дней помнилась ему эта обедня вместе, как возглашал в алтаре священник: «Твоя от Твоих…», как пели: «Тебе поем, Тебе благословим…» Он почувствовал особенное благоговение… – и от песнопения, и от милой головки, чутко склонившейся, от локончика, игравшего в дуновении полевого ветерка…
Осталось и другое, маленькое совсем, но сколь чудесное!.. Слушая пение, он посмотрел за окно – и увидал поразительное.
Окно было открыто. За ним было только чистое голубое небо. С коленей не было видно земной дали – только небо. И на этом небе, на его пологе лазурном, тихо покачивалась ветка. То была ветка розового шиповника: только ветка с розовыми цветами виделась из-за оконницы, будто висела в воздухе. И на этой ветке покачивалась птичка с розовым горлышком. Она тихо покачивалась – только что вот-вот села. Покачивалась… и, вытягивая шейку, заглядывала в окно, – заглядывала как будто с любопытством: «А что тут делают?..» Он не удержался и шепнул Дариньке: «Взгляни скорей… птичка…» Она взглянула, невольно, чуть с досадой, что отвлекает в великий миг, и увидала птичку, малиновку: малиновка заглядывала в церковь, вытянув шейку, присела и порхнула, и все качалась пустая ветка. Взглянула на Виктора Алексеевича светло, будто благодарила взглядом. После сказала: «И малиновка радовалась с нами… всё поет Господа».
Этот случай с малиновкой привел его в восторг и утвердил светлое настроение. После обедни, приняв почетную просфору, он прошел с Даринькой в придельчик, смотрел образ и признал, что выражено удивительно, как бы свет во тьме. Смотрел «родословное древо» в рамке, а Даринька светила свечкой.
В благостном настроении они пошли к настоятелю. Вспомнилось, как после экзаменов приезжали семьей в имение и в первое воскресенье, после обедни, ходили к батюшке, пили парадный чай и ели горячий пирог с зеленым луком и яйцами. Виктор Алексеевич пошутил: «А пирог с зеленым луком и яйцами будет? очень его люблю».
Было радушно, чай пили на террасе и ели горячий пирог с луком и яйцами. Виктор Алексеевич рассказал случай с птичкой и очаровал благодушием и простотой. Провожали всей семьей «до овсов», любовались Уютовом и расстались, очень довольные. И кругом все было благостное и ласковое.
Проходя парившим малинником, полюбовались обилием малинным. Укрытая в низинке, малина вызревала раньше. Немолчный пчелиный гуд стоял здесь, пахло малиновыми духами. Карп, праздничный, бывший у обедни, любовался на благодать, – «Уж и малина!..». От кухни тянуло пирогами. Листратыч, в белом параде, орудовал с кастрюлями. Даринька справилась, что сегодня к обеду, – малина со сливками?
– Бу-дет, бу-дет, все будет! – выкрикнул Листратыч бауточку. – Спаржа, сос-пританью, курячий бульон-шпинат, слоеные пирожки… паровые цыплята в молодом картофельце, сос-укроп-с… малина в сливках… сладкие подремушки на сахарной подушке!..
За праздничным чаем восхищались кружившеюся живой клубникой: на столе кружилась тумбочка, осыпанная клубникой и земляникой, смотревшими из дырок, – как перед Пасхой на окнах магазинов вертушка с пасхальными яичками. Вызвали Мухомора, и Виктор Алексеевич подарил ему три рубля – «на книги». Дормидонт сказал обычное: «Все это пустяки», – и галантно раскланялся. Даринька сказала: сегодня праздник, а он все в том же ужасном балахоне.
– Зачем вы так… боитесь каких-то мух!
Дормидонт растерялся, оправдывался, что эта нечисть всех может погубить… и рад бы, и «тройка» есть триковая, московская, да…
– Но все это прошло! – сказала Даринька, – я за вас молилась, и теперь никакие мухи не могут повредить вам!..
Дормидонт выкинул руки и воскликнул:
– Молились?!.. Ежели вы моли-лись… я спокоен! У меня все ваши слова записаны!..
К обеду все дивились: Мухомор в московскую «тройку» обрядился! Виктор Алексеевич высказал Дариньке, как она психологически чутко сумела подойти к этому казусу: явная мания – мухи эти.
– Не знаю, что такое мания, но я действительно за него молилась. Мне кажется, не мухи у него это, а… его пугает грязь, греховное, и он мучается этим. У него удивительно чистая душа, как у ребенка. Его испортили какие-то «петровцы»… неверы, да?
– Да, студенты. Но это довольно сложно…
– Не сложно, а… безумцы! – сказала она с сердцем. – Такие же, как и ты?..
– Ты высказала любопытную мысль… олицетворение грязи в мухах. Мне понятно это, ты, кажется, права.
– Теперь понятно… – сказала она с укором, – ты все знаешь, а не думаешь о «грязных мухах».
– Нет, я думаю… – задумчиво сказал он.
Увидали в комнатах опять повешенные семейные портреты: утром Алеша поместил их на старые места. Он тут же и появился.
– Вот лучший портрет мамы. К… писал ее в шестьдесят первом году, ей было двадцать пять лет. Только она тут не вся.
На бирюзовом небе, в раме окна, будто у балкона, стояла, в пояс, светлая, юная совсем, с тонким, прелестно округленным лицом, в три четверти, – всматривалась, чуть вверх. Она была в легком, открытом пенюаре, в уложенных на голове косах, как причесывались тогда. Лицо нежное, с чуть приоткрывшейся нижней губкой, как у детей, в удивлении. Глаза – ласково-изумленные, большие, голубоватые, «мерцающие, – подумал Виктор Алексеевич, – озаряющие…». Он вспомнил эти глаза: там, в Страстном. Эти радостно-изумленные глаза смотрели в небо, отражали его в себе.
– До чего же… удивительно!.. – воскликнул Виктор Алексеевич.
Он другое хотел сказать. Вечером он сказал ей. Она не находила этого: бывает сходство. Вспомнила, что говорил Пимыч, Надя…
Смотря на портрет, Даринька «вся была как бы вознесена», вспоминал Виктор Алексеевич, – не слыхала, что ее спрашивал Алеша, нравится ли мамино лицо. Он вглядывался в Дариньку, переводил взгляд к портрету… и в этом взгляде было изумленье.
– И вдруг, – рассказывал Виктор Алексеевич, – у Дариньки чуть приоткрылась, чуть сникла губка… совсем, как на портрете. Бывает так у детей. Она смотрела, как та, в небо. Это уловил Алеша, чуть отступил, и в лице его был испуг.
Виктор Алексеевич думал, какое поражающее сходство. Даринька сказала едва слышно: «Какая чудесная, чистая…»
– Это какой-то миг в ней… – сказал Алеша. – Мамино лицо так живо, так многообразно. Говорила всегда, что ее умягчили тут, одевичили… даже восвятили. К… удалось, такой она бывала даже позже, когда я уже научился видеть.
В тот же день Виктор Алексеевич написал знакомому знатоку российских родов, прося сообщить, что может узнать о роде…, особенно о бароне Федоре Константиновиче, который, по слухам, застрелился. Написал и адвокату: не жалеть расходов, разыскать и опросить лиц, служивших у барона, особенно – кто из молодых женщин жил у него в такие-то годы. Дал ему все, что было у него в дневнике, с неясных рассказов Дариньки.
XIX
ПОДНЯТИЕ ИКОН
Узнав от Матвевны, что покровские придут поздравить с новосельем и принесут хлеб-соль, Даринька распорядилась.
Перед верандой устроили помост и накрыли чистыми простынями. Дормидонту Даринька сказала, чтобы побольше цветов, будет Высокое Посещение, молебен о благоденствии всех здесь живущих и всего, до последней травки. Дормидонт записал в тетрадку. Послала в город закупить угощенье для народа. Узнав, что баб дарили платками, а мужиков ситцем на рубахи, нашла, что мало это, – бабам надо дать по полтине, а мужикам по рублику. Купили сластей, подсолнухов, пива-меду и хлебного вина – всего вдосталь. Все весело суетились, словно к Светлому дню готовились.
Воскресенье выдалось, как Петров день, – ни облачка. Все ушли в церковь. Счел долгом присутствовать и Виктор Алексеевич. Даринька не просила, чтобы и он присутствовал, – знала.
– Она так меня изучила, угадывала мои мысли даже! – говорил он. – В это воскресенье, оставшееся во мне, до вдохновенного блеска в ее глазах, до белого платься с приколотыми васильками, она была как бы вознесена над всем. Когда стали выносить иконы, она шепнула: «Ты примешь Крестителя Господня», – и так взглянула, словно мне в душу заглянула, прося и – веля. Я растерялся. Никогда не носил икон, а тут, во всем этом благолепии, на всем народе… Она видела мое смущение, улыбнулась, как бы жалея меня, и повторила: «Да, да… я уже сказала батюшке». И я принял.
Дариньке пожелалось, чтобы подняли и Святителя, и она удивилась, что нет иконы Святителя, а написано на камне в заломчике и одето рамой, как кивотом. «Пожелала так зиждительница, – не тревожить Святителя, а всегда чтобы был над нею», – сказал Пимыч.
Несли иконы крестным ходом, со всенародным пением «Царю небесный», в ликующем трезвоне. Впереди нес на древке фонарик с крестиком батюшкин Сережа, весь в фонарике, в высоте небесной. Четыре за ним хоругвицы, повитые цветами, убранные лентами и солнцем, запрокинув головы, благоговейно-строго, несли Листратыч с Егорычем, Агафья, Поля. Так водится: куда подымают, с того места и трудники. Благообразный Карп и кучер Андрей приняли тяжелую икону Спаса. Престольную – Покрова понесла Даринька с Танюшей. Николая-Угодника, старинную, несли на расшитых ручниках Алеша с внуком Пимыча. Икона
Покрова была в лилиях, с подзором-пронизью, в жемчугах. Шла она в середине хода, и все на нее взирали: прекрасна была она, сияющая солнцем и самоцветами, и обе трудницы, принявшие на себя ее, блиставшие чистотой и юные, привлекали к себе глаза. Виктору Алексеевичу отец Никифор вручил небольшой образ «Рождества Крестителя Господня», сказав; «Потрудитесь и вы с народом, жить-то с народом будете». В этих словах Виктор Алексеевич почувствовал назидание. Принимая образ, он с непривычки смущался, но скоро обошелся, и ему чувствовалось, как хорошо идти с народом и петь.
– Я не ожидал, что этот крестный ход оставит во мне глубокий след, – вспоминал он, – явится сдвигом в моей духовно косной жизни, вызовет чувства и мысли глубокого содержания. Это были мгновения мыслей-ощущений. Несу образ, не чувствуя даже, что несу, и от этой поющей толпы, от лиц, обращенных к небу, от сверканья позлащений, от глаз, от умиления-радости носителей иконного благолепия… передавалось мне чувство связанности моей с толпой, с захватом высоким делом, которое она свершает, с полями хлеба, с перезвоном от Покрова, с голубизною неба. Это были миги мысли, как бы ожоги мыслью… от чего пробегало дрожью, намекающим во мне новым чем-то: «Вот это его правда, народная, его устремленье к Абсолютному, укрытие под недосягаемый покров от тяжелой жизни», – и: «Хорошо, что я с ним… он так же в эти минуты стремится ввысь, как я стремился, отыскивая „Начало“ и „Абсолютное“… но я готов был убить себя от сознания тщетности познать все, а народ, плечо к плечу, сердце к сердцу, в чудесном подъеме духа, не сознавая – знает… нет, проникнут „Началом“ этим и этим „Абсолютным“…»
Так опаляемый, в искрах мыслей, от единения с народом, сплотившимся радостью потрудиться для благолепия, «для души», Виктор Алексеевич не слышал, как ступают ноги, и этот ход с народной святыней показался ему мгновеньем. Но за это мгновенье он все замечал и слышал. Помнил, как на повороте в Уютово, когда показались столбы въездной аллеи, золотилась-сияла белыми лилиями икона Покрова, как светилось Даринькино лицо, выбились локоны из-под лазоревой повязки, пылала ее щека… Помнил, как Карп ласково покивал ему, и сияла его благообразная костромская борода. Приметил Анюту даже, в канареечном платьице, как радостно-пугливо несла она священное для нее, – кропило, сунутое ей в руки Пимычем на ее слезное моленье – «чуточку понести чего божественного». Несла она это чудесное для нее кропило вдохновенно, держа обеими руками перед собой, как свечу, и ее неприметное лицо с носом-пуговкой показалось Виктору Алексеевичу прелестным. От этой, такой раньше незаметной Анюты его осветило мыслью: «Все мы – одно перед Непостижимым, маленькие и незаметные… и все в какой-то миг поможем измениться и стать прекрасными в устремленье к тому, что так ищем и вдруг откроем!» …«Все мы единым связаны, одному и тому же обречены, как перст…» Мысль не закончилась, вспыхнула другая: «Откуда такая красота в лицах, в ликах? откуда такое вдохновенье персти? скрепляющая общность, устремленность к небу? откуда все, до скудоумной Поли, теперь – вдохновенно-взыскующий „тростник“?» – переиначилось в нем паскалевское «мыслящий тростник». И всплыло, связалось с принятым образом Предтечи давно, казалось, забытое, заученное в училище, слышанное в детстве, читанное во дни Страстной: «Что смотреть ходили вы в пустыню? трость ли ветром колеблемую?.. Что же смотреть ходили вы? пророка? Да, говорю вам, и больше пророка…» Вспомнив эти слова, он почувствовал в руках образ, а то не чувствовал. Вызвал воображением пустыню и… – «Эти, все, знают и чтут его, и Даринька уповает… тысячелетия протекли, а вот, все живет, влечет…»
Тут оборвалась его мысль: он увидал суровый лик Матвевны. Она – ход поворачивал в аллею, и видно было голову шествия – несла запрестольный крест, повитый зеленью с гроздями рябины, горевшими на солнце. Она шла сильным, мужичьим шагом, высокая, прямая, поднявши крест. Этот суровый лик, решительная поступь и высокое держанье большого, тяжелого креста изумили его и тронули: в этом почувствовалось ему значительное и строгое. «Что я вижу!.. – спросило в нем. – Как это глубоко и как чудесно!., и она это чувствует, и потому лицо ее сурово и крепок шаг… удивительный наш народ». Когда так думал, почувствовал горячо в груди и в глазах. И услыхал: «…сокровище благих и жизни подателю… приди и вселися в ны… и очисти ны от всякий скве-э-рны-ы» – и напевно слился со всем народом. Пели различно, простонародно, сильно, отсекая и вынося, где велит душа, н выходило мощно, словно пела сама земля. Слышал бодрящий шепот: «Сам анженер несет…» Это всем прибавляло духу. Об этом крестном ходе говорили после по деревням.
Было полное благолепие. Пришло народу… – пришлось переставить помост на луговину перед домом. Над помостом высилась сень, «воздушная беседка», сквозная, повитая хвоей и цветами, – так Дормидонт надумал.
Вносили иконы в дом, окропляли святой водой. Носили и по службам, и по хлевам. Даринька попросила пронести по яблонному саду. Кропили тихие яблони, сникавшие от плодов. И тут отец Никифор читал молитву – «…от всякаго вреда соблюди невредимы, благословляя тех зде жилище…». Дормидонт слушал умиленно: было его здесь шалаш-жилище.
Угощали завтраком и чаем причт. На луговине, после поднесения хлеба-соли на ручнике, в коклюшечных кружевах искусных, угощали народ, и не с одного Покрова пришедший, Хозяева выходили, их благодарили за угощение и ласку, желали жительствовать в благополучии. Растроганная Даринька сказала:
– Спасибо вам, милые… какая нужда будет – скажите мне… поможем…
Заговорили гулом-благодарением. Вышел речистый, по прозвищу Голова, и сказал за всех:
– Слово ваше золотое. И наше вам будет в полновес. Не будет отказу нашего во всякой помочи. Помолились, нагостились… припечатали.
С обедом запоздали. До ночи стоял в Уютове светлый дух, праздничное во всем светилось. Сказала Матвеева Дариньке:
– Так все хорошо было, барыня, сказать нельзя. Пондравилнсь вы покровскнм нашим.
Похвалила – дополнила чашу радости.