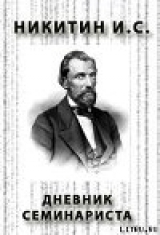
Текст книги "Дневник семинариста"
Автор книги: Иван Никитин
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 8 страниц)
23
– Тебя зовет Яблочкин, – сказал мне фельдшер, вызвав меня из класса, – иди скорее… – Сердце мое дрогнуло, я побежал в больницу и осторожно подошел к постели больного.
– Ты здесь? – сказал он, открывая свои впалые глаза, под которыми образовались синие круги. – Умираю, Вася… все кончено! – Он хотел протянуть мне свою руку, но бессильная рука как плеть упала на постель. Я сел подле него на табуретку. В комнате была тишина. Пасмурный день слабо освещал ее мрачные стены. На дворе шел дождь, и его крупные капли, заносимые ветром, звонко ударялись об стекла. Яблочкин дышал тяжело и неровно.
– Коротка была, – сказал он, – моя жизнь, и эта бедная жизнь обрывается в самую лучшую пору, как недопетая песня на самом задушевном стихе. Прощай, университет! Прощайте, мои молчаливые друзья, мои дорогие, любимые книги!.. Ах, как мне тяжело!.. Дай мне, Вася, свою руку…
Я понял, что приближается страшная минута.
– Друг мой, – сказл я, не удерживая более своих слез и тихо пожимая его холодные пальцы, – теперь тебе не время думать о земном. Видно, так угодно богу, что выпадает нам та или другая доля. Его бесконечная любовь имеет свои цели…
– Помоги мне сесть. – Я приподнял его и подложил ему сзади подушку.
– Хорошо, – сказал он, – спасибо… Вася, Вася! У меня нет даже матери, которой я послал бы свой прощальный вздох. Я круглый сирота! На что мне они – эти лица, которые меня здесь окружают! Какая у меня с ними связь?
– А разве я тебя не люблю? разве я не буду тебя помнить и за тебя молиться?
– Я знаю, знаю. У тебя добрая душа… – Голова его была свешена на грудь, неопределенный взгляд устремлен в сторону. Он говорил:
Чиста моя вера,
Как пламя молитвы,
Но, боже! и вере
Могила темна…
– Алеша! друг мой! – сказал я, – зачем это сомнение?
Он посмотрел на меня задумчиво.
– Что ты сказал?
– Зачем это сомнение? – повторил я.
– Это так. Грустно мне, мой милый! Слышишь, как шумит ветер? Это он поет мне похоронную песню… Скажи моей доброй старушке, что я ее любил и за все ей благодарен. То же скажи ее сыну. Пусть он учится. Тебе я дарю все мои книги и тетрадки. Ах, как мне грустно!.. Дай мне карандаш и клочок бумаги. – У меня было в кармане то и другое, и я ему подал и положил на его колени какую-то попавшуюся мне под руки книгу, чтобы ему удобнее было писать. Он стал неразборчиво и медленно водить карандашом. После пяти или шести написанных им строк на бумагу упала с его ресницы крупная слеза. Больной отдохнул немного и снова взялся за карандаш.
– Устал я… – сказал он, прикладывая ко лбу свою руку. – Возьми себе это на память о моих последних минутах. Прочтешь дома.
– Спасибо тебе, – отвечал я и положил бумагу в карман.
Вдруг Яблочкин вздрогнул и остановил на мне испуганный взгляд.
– Кто это сюда вошел? Выгони его!
– Здесь никого нет, мой милый. – Я сел к нему на кровать и обнял его одною рукою. – Здесь никого нет…
– Как нет? Видишь, стоит весь в черном… Выгони его… – Больной дрожал с головы до ног. Я встал, прошелся до двери и снова сел на свое место.
– Я его вывел, – сказал я.
– Ну, хорошо. – Яблочкин положил ко мне на плечо свою голову. Бред его усиливался.
– Горит!.. – вдруг он крикнул во весь голос и протянул вперед свои исхудалые руки. – Спасите!..
– Что ты, что ты? успокойся!.. – отвечал я, прижимая его к своей груди.
– Стены горят… Мне душно в этих стенах!.. Спасите!
– Опомнись, опомнись, – говорил я, и грудь моя надрывалась от рыданий. – Здесь все мирно. И чужих здесь никого нет. Это я сижу с тобою, я, Василий Белозерский, друг твой, готовый за тебя лечь в могилу.
Дыхание Яблочкина становилось все тише и тише. Руки холодели, но глаза приняли более определенное выражение.
– Это ты, Вася?
– Я, мой милый.
– Ступай в университет, а здесь…
Голова его упала ко мне на плечо. Я послушал, – не дышит… И тихо я опустил его на подушку, перекрестил, закрыл ему глаза и склонился на колени у изголовья его кровати. И долго, долго текли из глаз моих горькие слезы.
Вот что он написал мне на память:
Вырыта заступом яма глубокая.
Жизнь невеселая, жизнь одинокая,
Жизнь бесприютная, жизнь терпеливая,
Жизнь, как осенняя ночь, молчаливая, -
Горько она, моя бедная, шла
И, как степной огонек, замерла.
Что же? усни, моя доля суровая!
Крепко закроется крышка сосновая,
Плотно сырою землею придавится,
Только одним человеком убавится…
Убыль его никому не больна,
Память о нем никому не нужна!..
Вот она – слышится песнь беззаботная -
Гостья погоста, певунья залетная,
В воздухе синем на воле купается;
Звонкая песнь серебром рассыпается…
Тише!.. О жизни покончен вопрос.
Больше не нужно ни песен, ни слез!
24 августа
Сейчас между моими учебными книгами мне попался случайно забытый мною дневник. Первою моею мыс-лию было сжечь эти страницы, напомнившие мне столько горького. Но когда я пробежал несколько строк, когда подумал, что в них положена часть моей жизни, – рука моя не поднялась на истребление этой бедной измятой тетради.
Много протекло времени с той минуты, когда умер мой незабвенный Яблочкин. Этот человек имел на меня непостижимое влияние. Он заставлял меня жить напряженною, почти поэтическою жизнию. Умолкли его огненные речи, положили его в могилу, и, кажется, навсегда улетела от меня поэзия моей внутренней, духовной жизни. Все пришло в обыкновенный порядок: мечты мои остыли, желания не переходят за известную черту. Успокойся! сказал я своему сердцу, – и оно успокоилось. Только на лбу у меня осталась резкая морщина, только голова моя клонится теперь ниже прежнего.
В доме у нас невесело. Поля выжжены палящим зноем; все хлеба пропали. Неурожай в полном смысле этого слова. По улице не скрипят, как бывало, с снопами воза. При вечерней заре никто не поет беззаботной песни. Батюшка ходит печальный и угрюмый.
По приезде моем сюда, я заговорил с ним о моем намерении поступить в университет. "Видишь? – сказал он, указывая мне на обнаженные поля и на пустое наше гумно. – А до будущего урожая еще далеко. Пожалуйста, не серди меня пустяками: без тебя тошно…"
Переводный экзамен в богословие я выдержал не совсем хорошо. Вдруг, после смерти Яблочкина, мне трудно было взяться за дело. Батюшка остался мною недоволен. "Жил ты, говорит, под надзором профессора и едва удержался в первом разряде". Однако ж я переведен.
Прощание мое с Федором Федоровичем, у которого жить более я уже не буду, было довольно холодно. Он, конечно, ожидал от меня глубочайшей благодарности за все его заботы о моих дальнейших успехах, но благодарить его, право, не стоило.
Моя будущая судьба теперь окончательно определилась. Пройдут еще два года трудовой однообразной жизни, и я приму на себя звание духовного врача. Видит бог, намерения мои всегда были чисты. Если я заблуждался, мечтая о другой дороге, заблуждение мое было бескорыстно, мысль не заходила далеко и…
Я слышу голос батюшки, который зовет меня заплетать плетень, говоря: "Все равно – ты сидишь без дела".
Довольно! дневник мой окончен.







