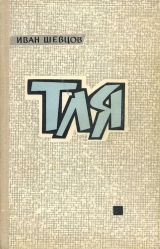
Текст книги "Тля"
Автор книги: Иван Шевцов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц)
– Я вполне разделяю ваш пыл, любезный э-э…
– Владимир Иванович, – подсказал Борис.
– …любезный Владимир Иванович, – мило продолжал Иванов-Петренко, рассматривая Владимира. – Но, как видите, Хюзу не чуждо новаторство. А новое в той или иной мере всегда является могильщиком старого. Такова диалектика, батенька. Хюз ищет и, как всякий ищущий, рискует ошибиться.
Осип Давыдович щедро одарил своей улыбкой собеседников, и оттого, может быть, не хотелось возражать ему. Один Лебедев, видимо, не заметил этой обезоруживающей улыбки и сказал без особой учтивости:
– Не всякое трюкачество нужно считать новаторством. Машков с благодарностью взглянул в бесхитростные глаза Василия Нестеровича.
– Излишняя назидательность убивает искусство, – сипло заговорил Винокуров, незаметно уводя разговор в сторону.
Владимир возразил:
– Наше искусство должно быть беспокойным. Художник должен сам волноваться и других волновать, радоваться и возмущаться.
– Художник должен творить, – тоном уверенного превосходства перебил Борис. – А для этого нужно время. Одно из двух: либо картину писать, либо возмущаться. И вообще… Год назад ты обвинял меня в том, что сейчас сам проповедуешь.
– Ничего подобного! – загорячился Владимир. – Я говорил тебе тогда, что ты всякую грязь смакуешь, злорадствуешь, точно радуешься чужому горю. А я хочу, как хозяин, критиковать наши недостатки, чтобы избавиться от них. Это совершенно разные вещи!
– А я-то думал, что здесь отдохну от искусства, – пожаловался Иванов-Петренко. – Беспокойные мы люди…
– Отдыхать надо на юге, – посоветовал Юлин-старший. – Москва – суматошный город. Не люблю я ее.
– Ялта, безусловно, лучше, – просипел Винокуров и громко причмокнул губами. – Разумеется, летом.
Лицо Винокурова непроницаемо, попробуй, пойми – иронизирует он или всерьез говорит.
– Ялта хороша в любую пору, – возразил Осип Давыдович. – Но чтобы жить в Ялте, надо иметь приличный и устойчивый заработок в Москве.
– Вы всегда были ортодоксальны, – просипел Винокуров все с той же неопределенной улыбочкой.
«Какие-то намеки, недомолвки… Трудно же, черт побери, разговаривать с такими людьми!» – подумал Владимир. К нему подсел и снова заговорил негромко, доверительно Иванов-Петренко:
– Как живете? Над чем работаете?
В его обращении и манере говорить было столько искренности, что Владимир с увлечением рассказал сюжет задуманной им картины «Хозяева земли». На весенней пахоте солнечным утром, когда над землей струится тонкий пар, стоят парень-тракторист и девушка-агроном. Она, должно быть, делает ему внушение за какую-нибудь оплошность, так как в лице его и во всей фигуре виноватость. А вокруг – волнующий пейзаж, ядреное утро…
Иванов-Петренко выслушал Машкова внимательно и сказал, почесывая жирный подбородок:
– Картины я не вижу. Стоят двое на пахоте – ну и что ж из того? Чем они меня взволнуют? Частный эпизод не может быть картиной. Настоящее искусство требует больших общечеловеческих страстей, а тут…
Владимир поспешно искал аналогии, перебирая в памяти одну картину за другой. Не найдя ничего более убедительного, сказал:
– В таком случае позвольте вас спросить: вот стоят в поле три русских богатыря такими, какими их Васнецов изобразил. И нет в них этих самых общечеловеческих страстей. Чем же они вас волнуют?
– А почему вы думаете, что они меня волнуют? – Более циничного и неожиданного ответа Владимир не ожидал. Он только плечами пожал. Человек этот ему показался безнадежно чужим и непостижимым. Осип Давыдович, видно, пожалел о сорвавшейся фразе и примирительно предложил:
– А вот если в вашу композицию внести, скажем, такую деталь: где-то вдали за вашими героями, на десятом или сотом плане, виднеется, чудный город, освещенный утренним солнцем, знаете, этак в розовой дымке – новый город будущего, или, как пишут газетчики, видимые контуры коммунизма? Город ваш будет носить функцию символа. Искусство не отвергает символику, а, напротив, предполагает. Символ делает произведение крылатым. Вот попробуйте, сделайте так, и вы убедитесь, что картина зазвучит по-новому, станет значимее, возвышеннее. Понимаете, поднимется над грешной землей. Искусство должно возвышать.
Он поднимал руки ладонями кверху, словно подбрасывал волейбольный мяч. Что-то было интригующее и любопытное в его неожиданной идее, выраженной в столь конкретной форме. Оно соблазнительно подкупало, и Владимир готов был забыть все предыдущее, что возбуждало в нем к Осипу Давыдовичу неприязнь и подозрительность.
Подошел Винокуров, поинтересовался, в каком состоянии находится картина «В загсе». Владимир сухо ответил:
– С вашего позволения, в прежнем.
– Жаль, хорошая картина. Там и доделать ее самый пустяк, на час работы.
«Испортить и за полчаса можно», – подумал Владимир, но промолчал. Ввязываться с Винокуровым в спор не было никакого желания.
– А у меня есть интересное для вас предложение. Хотите поработать с Барселонским?
– В качестве?
– Помощника.
– Это что же, вроде подмастерья? – не без иронии полюбопытствовал Владимир, тщетно стараясь прочесть что-либо на лице Винокурова.
– Подмастерье большого мастера – то же, что ученик великого учителя, – недовольно бросил Винокуров. Но его перебил Борис:
– Скажите проще: у Льва Михайловича какой-то музей покупает дубликаты его старых картин. Он ищет робота, который бы сделал копии. Старик потом слегка пройдется по ним кистью, и дело сделано.
– И продаст их как авторское повторение, – догадался Владимир.
– Разумеется, деньги пополам, – бесстыже улыбнулся Борис.
– Откуда вам известно, что пополам? – беспокойно и торопливо, будто боялся дать одуматься, предупредил Винокуров. – Достаточно и четверти. Это обычная плата копировщика.
– Но он получит не за копии, а за дубликат. Тут нужен опытный художник, – урезонивал Борис всполошившегося Винокурова.
Эта нелепая преждевременная торговля позабавила Владимира.
– Погодите делить шкуру неубитого медведя… – У Семена Семеновича округлились глаза.
– Вас не устраивают условия?
– Нет, меня не устраивает в принципе такая работа.
– Но вы поймите, что это будет полезно для вас, – не отступал Винокуров, делая обиженное лицо. – Копировать Барселонского под его непосредственным наблюдением – не каждый может удостоиться такой чести.
– Я думаю, что это с удовольствием сделают ученики и поклонники Барселонского. А я не совсем понимаю творческую манеру почтенного Льва Михайловича, – грустно усмехнулся Владимир.
Винокуров и Борис переглянулись. На их лицах трудно было прочитать что-либо определенное, разве только недоумение: вот как – Барселонского не понимает! Вот даже что! Странно, однако. Винокуров потер ладонью покрасневший лоб и демонстративно отошел в сторону. Борис тут же заговорил о даче Пашиного тестя. Владимир понял это как тонкий намек и начал прощаться. Вдвоем они вышли за калитку. Вокруг было тихо и душно.
– Говорят, ты на агрономе женишься? – с легкой, небрежной улыбкой спросил Борис.
– У тебя старые сведения. Уже женился, – пошутил Владимир.
– Вот как?! – Лицо Бориса расплылось в радушной улыбке. – Рад за тебя, Володька, очень рад. От души поздравляю и желаю…
– Теперь очередь за тобой. Женись, Боря.
Юлин остановился, что-то хотел сказать, но мгновенно передумал, ненужно откашлялся. «О Люсе хотел сказать, да вовремя остановился», – подумал Владимир и решил: «Никогда я не стану с Борисом говорить о ней».
Борис посмотрел на небо, на невесть откуда появившуюся тучку. Гигантские золотистые мечи солнца пронизали край тучи и вонзились в землю. И казалось, лучи принадлежали не солнцу, а темно-синей разгневанной туче, глядящей на землю сердито и угрожающе. От ее дыхания деревья затрепетали.
Владимир восторженно произнес:
– До чего же величественно! Прелесть какая!
– Зловещая картина! – с пафосом возразил Борис. – В ней есть что-то роковое, неотвратимое. Это – необузданная человеком стихия. Словно какой-то властелин вселенной занес над нашей планетой свой карающий меч.
Владимир с усмешкой посмотрел на Бориса:
– Какие ужасы ты говоришь.
– А ты всмотрись лучше. Такое небо и Брюллову не довелось увидеть. Иначе «Последний день Помпеи» был бы более убедительным. – Он посопел носом, одним глазом, как петух, взглянул на небо и произнес философски: – Там своя жизнь, нам не известная.
Два художника видели один и тот же пейзаж, но каждый воспринимал по-своему.
В это самое время на другой даче три молодых художника писали этюды. Павел Окунев сосредоточил все свое внимание на лучах солнца, которые рассекали тучу, вырывались на голубой простор неба и зеленый ковер земли.
Петру Еременке этюд не удался.
А Карен поражал своей манерой восприятия мира. Казалось, он и мыслит цветом. Этюд выходил у него исключительно ярким, сочным, звенящим. Но краски его не казались пестрыми, не раздражали глаз. Карен достиг такой гармонии, сочетания цвета и света, что и зритель мог поверить в существование таких красок в природе, в жизни. Художник покорял какой-то неразгаданной, волнующей прелестью своих красок, благородством, восхищением и трогательным уважением к природе, как покоряет зрителя зеленоватая луна над Днепром Архипа Куинджи.
– И Борис пишет ярко, – обронил Владимир, глядя на новый этюд Карена, – но у Юлина получается почему-то грубо и неестественно.
Карен оглянулся и вздрогнул.
– Володька! – И бросился в объятия Владимира, крича: – Эй, ребята, давай сюда, Володька приехал!
Прибежали Павел и Петр. Оба с этюдниками. Павел в украинской рубашке с открытой грудью, Петр в синем штатском костюме. Друг друга отталкивая, начали мять Владимира.
– Тебя во сне видел, – сообщил Павел.
– Это к дождю, сострил бы Пчелкин, – отшутился Владимир.
– Нет, к сыну, – поправил Карен.
Все дружно засмеялись.
Дача Пашиного тестя стояла на высоком берегу речушки со студеной прозрачной водой. Небольшой скромный домишко, окруженный фруктовыми деревьями и сиренью, весело и удивленно смотрел открытыми окнами на юг. Территория участка представляла зеленый пригорок, круто сбегающий вниз к густым кипучим зарослям ольшаника, прятавшим от солнца неугомонный ручей. Над ручьем поленовский мостик, под ним в летнюю жару хранились бутылки нарзана и цинандали. На склоне красовались уже немолодые березки-близнецы. У самой воды стоял длинный стол со скамейками, а чуть поодаль, в самой густой заросли, – беседка. С двух сторон участок окружали ровные шеренги рябин.
Все тут было живописно, солнечно, все запоминалось и пришлось по душе Владимиру. А вот у Юлиных он был дважды, но, спроси его про их дачный участок, и он ничего бы не мог сказать.
Вышла Таня, полная, большеглазая, с длинными толстыми косами. Подошла к Владимиру и сказала с улыбкой:
– А я на вас обижена…
Голос мягкий, и вся она – воплощение спокойствия и доброты.
– Чем я, Танечка, провинился перед вами?
– Не могли раньше-то приехать? Тоже, друг называется.
– Это ему не простится, – поддержал Павел жену с деланно-грозным видом. – Вот сядем за стол и припомним ему!
Таня ушла хлопотать о закусках. Друзья сели на скамейке под березами-близнецами.
– Ты как нас нашел? – спросил Павел:
– Борис показал…
– Ты был у него? – Широкое лицо Павла нахмурилось, глаза потемнели.
– Вы что, поссорились? – насторожился Владимир.
– Просто выяснили отношения, – ответил Павел, – Борис оказался тем золотом, которое и в воде не тонет… – Петр в подтверждение молча покачивал головой.
– Перед свадьбой я имел удовольствие познакомиться с его отцом, – с нарастающим возмущением продолжал Павел. – Видал это мурло? Ну вот. Танечка целый месяц гонялась за шифоньером и книжным шкафом и все не могла достать. Однажды в магазине какой-то тип шепнул ей: «Вам шифоньер? Двести рублей, и все будет». Таня возмутилась, конечно, а потом видит, привезли прекрасную венгерскую мебель. Эх, думает, черт с ним! Уплатила тому типу двести рублей, он ей чек, она в кассу. Прибегает ко мне, рассказывает: «Купила две вещи, пойдем перевезем». Тут как раз и Борис был. «В каком магазине?» – спрашивает. Таня назвала адрес, и Борис почему-то сильно смутился. Ну, я не придал этому значения. Приехали мы с Таней в магазин, слышим, называют фамилию директора – Марк Викторович Юлин. Я подошел к нему и, еле сдерживаясь, спрашиваю: «Вы отец Бориса?» – «Да, – говорит, – а в чем дело?» – «Просто, – говорю, – хотел познакомиться. Я – художник Окунев. Благодарю вас за услугу». Думаете, смутился? Ничего подобного! Принял как должное и глазом не моргнул. Вот вам тип нового спекулянта!
Павел поднялся, шумно сплюнул и ушел помогать жене.
Петр стал рассказывать о «салоне» у Иванова-Петренки. По его словам, тот вечер открыл ему глаза.
Из кустов выпорхнул ловкий веселый Карен. В каждой руке – по две бутылки. Он запыхался, должно быть, бежал в гору. На матово-бледном лице, оттененном черными усиками, сияло задорное легкомыслие. Голос его звенел:
– Не жизнь, а подмосковная сказка! – Но, увидев серьезные хмурые лица друзей, переменил тон: – Стряслось что-нибудь?
Владимир поднялся, обнял его, сказал со вздохом:
– Не все же сказки, Каренчик, есть и суровые были. Впрочем, и сказки бывают жуткими, но пугают они только детей. У взрослых страх – дело субъективное… Ну, как ты живешь, Карен?
– Скучно и жалко.
– Скучно – я понимаю… А жалко почему? Кого жалко?
– Себя, Володька. И на кой черт я пошел в этот квартет на должность проказницы мартышки!
– Ничего, терпи. Зато лауреата получишь, – добродушно подначивал Владимир. Карен криво ухмыльнулся, и эта ухмылка была похожа на то, словно человек проглотил какой-то горький комок.
От дома к ручью с большой салатницей в руках торжественно спускался Павел. Его низкий раскатистый бас звал ребят к столу.
Сели. Помолчали. Еременко снова заговорил о наболевшем:
– Уже раздаются голоса: к черту батальную живопись, к черту искусство, которое воспитывает патриотизм! Да здравствуют общечеловеческие страсти!
– Да! А ты Петину статью читал? – спросил Павел.
– Петину статью? О чем? Где?
– Э-э-э, дорогой товарищ! Главного ты еще не знаешь! – воскликнул Карен.
Павел и Владимир одновременно посмотрели на Ёременку: один – торжествующе, другой – вопросительно. А Карен продолжал, лукаво сверкая своими черными быстрыми глазами:
– В «Красной звезде» о батальной живописи, вернее – о тех, кто пытался ее заживо похоронить.
– Статью или живопись? – спросил Владимир.
– И то и другое, – с улыбкой вставил Еременко.
– Да где же мне читать: в деревне «Красную звезду» не выписывают.
– Эх ты, темнота! – протянул Карен, дружески обнимая Владимира. – Да он, можно сказать, нанес первый удар по «салону» Осипа Давыдовича.
– Не столько по «салону», сколько по себе, – возразил Павел. – Статья – бумеранг.
– Это мы еще посмотрим, – задиристо произнес Еременко. – Что они со мной сделают? Грязные сплетни распускают? Ну и черт с ними: грязь не пристанет.
– Ты думаешь? – Павел внимательно и обеспокоенно посмотрел на Петра.
– Да мало ли они анекдотов сочиняют о тех, кого ненавидят, – не соглашался Еременко. – Ну и что из того! О Камышеве чего они только не сочиняли! А разве авторитет его как художника среди народа пострадал от этой болтовни?
– В какой-то степени – да, – с грустью сказал Владимир. – Девять человек не поверили, а десятый поверил. Меня в деревне об этом спрашивали: верно ли говорят, что Камышев третью жену бросил и сошелся с восемнадцатилетней дочерью министра? А картины свои, говорят, по фотографиям делает. Будто специально двух фотографов держит: они ему фотографируют все, что надо, потом на холст, как на экран, переносят, а он уже раскрашивает. Дескать, техника облегчает труд художника.
– И до деревни дошли эти байки? – удивился Еременко.
– Представь себе, дошли. Значит, умеют распространять.
Еременко задумался. Дело в том, что, пока он ездил на Волгу, по Москве было пущено несколько подобных баек и в его адрес. Фабриковались они в «салоне» Иванова-Петренки, в этом никто не сомневался, но Петр как-то не придавал им значения. Он это воспринимал как пример бессилия противника, способного на мелкую пакостную месть. То, что Борис Юлин перестал с ним здороваться, Петра просто смешило. Но вот однажды его пригласил к себе начальник студии и показал ему письмо, подписанное группой художников. Письмо это было адресовано на имя начальника Главного политического управления Советской Армии. В нем сообщалось, что родная мать военного художника капитана Еременки ходит по селам и побирается, а сын ее, пьяница и развратник, ни разу в жизни не прислал ей ни копейки денег. Фамилии авторов письма оказались вымышленными. У Петра Еременки не было родителей, об этом, очевидно, знали и авторы этой грубой анонимной фальшивки. Но на что они рассчитывали? Хоть не надолго, на минуту, навести тень на ненавистного им человека. Авось эта тень сохранится в памяти начальников: время пройдет, сам факт забудется, а тень останется.
Показывая эту анонимку Еременке, искушенный в подобных делах подполковник сказал уверенно:
– Началось. Оськина работа. Но ты не придавай этому значения. Просто не замечай.
Легко сказать – не замечай, когда ты живешь в обществе, а о тебе распускают грязные сплетни. Владимир не зря говорит: «Девять не поверят, а десятый поверит». Разве этого мало? Нет, тут есть над чем задуматься.
Павел наполнил бокалы. Карен предложил выпить за счастье молодоженов. Дружно, в три глотки, закричали: «Горько!» Молодожены охотно поцеловались. Снова выпили и опять заговорили об искусстве.
– Неужели Яша был с ними? – горестно спрашивал Владимир.
– Нет! – Петр отрицательно мотал головой. – Нет и нет. В последний вечер Яша вел себя очень странно. Вы знаете, он не любил высказываться, молчал и в этот раз. Но было видно, что нервничал. Я боялся, что он не выдержит, взорвется…
Павел поежился, будто стряхивая с себя что-то.
– Когда ты рассказываешь о таких вещах, мне становится как-то не по себе, ей-богу. А может быть, они все же заблуждаются, все эти винокуровы, юлины, а? И потом – нельзя всех валить в одну кучу. Иванов-Петренко и Винокуров – это одно, Юлин и Барселонский – другое, Пчелкин – третье. Борису премия во сне видится, и не столько деньги, сколько золотая медаль, потому что денег у него и так до черта. Если он получит премию, взовьется к звездам, как метеор. В академики пробьется, вот увидите!
– И в энциклопедию, – подсказал Петр.
– Факт, – подтвердил Карен. – Пока до «Ю» будут печатать, Борис выдвинется. Вернее, его выдвинут.
– А вы знаете, Борис не любит искусство, – сообщил Павел и крепче уперся руками в колени. – Я это недавно обнаружил. Ему слава нужна. Слава и деньги. Идеи? У него их нет. Чужими живет и сходит за умного. У него даже слова чужие…
– И все-таки он талантлив, – перебил друга Владимир. – Кисть у него бойкая.
– Что значит «талантлив»? – загорячился Карен. – Барселонский сейчас делает иллюстрации к Бальзаку, я видел их – все сделано манерно и плохо. А ведь талантлив!
– Ну, то Франция. Где нам ее понимать! – не то иронизируя, не то оправдывая Барселонского, нараспев сказал Павел, грузно откидываясь на спинку скамейки.
Глаза его, карие, опечаленные, смотрели сквозь зелень листвы туда, где весело журчал ручей. Ветка орешника щекотала его лицо. Он отмахивался от нее, как от мухи, наконец разозлился, сорвал назойливый лист и зажал в зубах. Беспокойные думы одолевали его, но он не умел толком разобраться в них. «Вот Петр или Владимир – для них всегда все ясно, а я…»
– А, собственно, откуда вы взяли, что Барселонский талантлив? – вдруг спросил Петр. – Со слов Винокурова? Винокуровы создают таланты навязчивой рекламой. А что у Барселонского за душой? Полдюжины посредственных плакатов. А в живописи он просто профан.
Павел повернулся к Еременке всем корпусом, сказал с добродушной улыбкой:
– Быть бы тебе, Петр, министром культуры, ты бы навел порядок в нашем хозяйстве.
Друзья засмеялись.
Говорили о Барселонском. Его ведь хвалили в печати и на собраниях те же поклонники, немногочисленные, но поразительно активные. Для них слово Барселонского считается священным. Репродукции с его картин и рисунков, целые альбомы постоянно лежат на полках магазинов. Официально его давно уже произвели в классики, а неофициально, в кулуарах, к его имени приставляется и слово «гениальный». Настоящие художники, правда, посмеиваются: дескать, мы-то знаем, что король гол!
Вспомнили, что Лев Михайлович Барселонский родился в белорусском местечке Копысь, на левом берегу Днепра, но жил там совсем недолго, и поэтому в душе его слово «Копысь» не производило решительно никакого отзвука. Академию художеств в Петербурге он не окончил, так как, по словам критиков-искусствоведов, академия не удовлетворяла его новаторскую натуру. Незадолго до Октябрьской революции Барселонский уехал за границу. В Париже друзья помогли ему устроить выставку, которая, однако, успеха не имела и попросту не была замечена. Приятели объяснили ему причину неуспеха: реализм отжил свой век, надо следить за модой. Барселонский стал присматриваться к моде и быстро постиг ее. Никаких полутонов! К черту палитру! Достаточно трех-четырех красок: небо – синее, трава и деревья – зеленые, вода – желтая.
Через год открылась выставка нового Барселонского. В газетах появились хвалебные статьи. Картины покупались аристократической знатью. Лев Барселонский стал не только знаменит, но и богат. Он предпринял путешествие по Европе, побывал в Америке, растратил сбережения и в начале тридцатых годов возвратился в Советский Союз после того, как перепробовал в живописи все «измы», начиная от импрессионизма и кончая конструктивизмом. Человек умный, эрудированный и в меру талантливый, отлично знающий искусство, он быстро сориентировался и не без колебаний сделал выбор между Парижем и Москвой.
Из Европы он привез несколько десятков своих работ, среди которых были и произведения живописи и графики, но главным образом – сатирические плакаты и карикатуры. Вокруг его первой персональной выставки был поднят ажиотаж: знаменитый скиталец возвратился на Родину! И ему были созданы условия, о каких за границей он и мечтать не мог. Он принял это как должное.
Социалистический реализм давался Барселонскому нелегко. Жизнь простых советских людей он знал по газетам, по курортам юга, по дачному Подмосковью. Однако его крымские и подмосковные этюды критики вроде Иванова-Петренки встречали с помпой, а массовый зритель, не находя в них ничего особенного, смущенно молчал. Та же критика внушала им, что народ, мол, не дорос до понимания такого искусства.
Однажды Барселонский написал картину, которая называлась «Красные партизаны». Перед зрителем позировали полупьяные, озверелые, с мясистыми красными лицами люди, вооруженные вилами и обрезами. Зрители говорили: «Типичные кулаки, антоновская банда, восставшая против Советской власти!» А критики из кожи вон лезли, доказывая «типичность и глубину образов народных мстителей». Картина не удалась, потому что художник взялся за чужую и не понятную для него тему. И красный флаг с надписью «За власть Советов» в руках откормленного краснорожего вожака выглядел кощунственно, как издевка. Зрители говорили: «Такие не за власть Советов идут, а против Советской власти». Но критики в печати сделали свое дело, отстояли и расхвалили эту картину.
Сам Барселонский, будучи человеком умным, конечно, знал подлинную цену безудержному славословию и старался изо всех сил создать хоть что-нибудь мало-мальски подходящее для советского зрителя. Незадолго до Великой Отечественной войны ему удалось наконец написать реалистическую картину «Счастье Марины Ткаченко». Поговаривали, что картину эту писал вовсе не Барселонский, а его помощник – молодой художник, очень способный. Как бы то ни было, а картина имела успех, и к славе Барселонского прибавились золотой значок лауреата и звание действительного члена Академии художеств.
И все-таки это не было всенародное признание. Признание пришло в годы войны. Он не заперся в башне из слоновой кости, как это сделали многие из его западных коллег, а работал без устали, с небывалой энергией и страстью, делал военные плакаты, карикатуры на наших врагов. Их можно было видеть всюду: на огромных щитах фронтовых дорог, на крестьянских избах и зданиях городов. Имя Льва Барселонского хорошо знали советские солдаты. К масляным краскам в годы войны он почти и не притрагивался, если не считать картины «Мародеры».
После войны Барселонский писал тихие, мирные этюды «для души» и никогда их не выставлял. Затем принялся иллюстрировать Стендаля. Однако это не был уход на покои. Имя Барселонского по-прежнему громко выкрикивали его друзья и поклонники, сам он появлялся в президиумах различных собраний и заседаний, иногда выступал в печати по вопросам изобразительного искусства.
– Неужели и Барселонский, и Иванов-Петренко, и Винокуров – одного поля ягоды? – пытливо спрашивал Павел. Друзья молча пожимали плечами. И для них люди, подобные Винокурову, были не до конца понятны. «Кто же они такие и чего хотят?» – подумал Владимир.
– В Братиславе в сорок пятом году один молодой живописец показал мне свои творения. Сперва я ужаснулся, но потом понял его, – вспомнил Владимир, задумчиво глядя на друзей. – У меня тогда не возникал вопрос, почему тот художник считает разноцветное бесформенное пятно настоящим искусством, а произведения Рембрандта чем-то вроде лучины, которая отжила свой век. Да, он так и сказал: искусство реализма перестало быть искусством после изобретения фотоаппарата. Искусство есть то, чего не в силах запечатлеть фотообъектив, то есть чего нет в действительности. Его этому учили с детства. Такие идеи нужны буржуазии, чтобы обезоружить художника, оторвать искусство от действительности, лишить его народности.
Взволнованный голос Машкова звучал искренне и тревожно. Тревога вперемешку с негодованием. Еременко сосредоточенно слушал, прислонившись к дереву. Чистенький, всегда аккуратно одетый Карен сидел чинно выпрямившись.
– Но почему винокуровы хотят увести наше искусство от жизни народа? Почему? – Еременко начинал горячится.
– Народа они не знают, не понимают, не любят. Чего же ты удивляешься? – в тон ему ответил Карен. Петр вспомнил почему-то Ефима Яковлева и сказал:
– Сценарий о Чайковском написал, а в музыке ни бум-бум. В шутку ему вместо Чайковского «Пятый концерт» Бетховена подсунули – не понял. Сценарий, конечно, не прошел, а деньги он получил. И большие деньги, – проговорил он со вздохом и, сделав паузу, заговорил о личном: – За диораму боюсь я. Тот же Иванов-Петренко назовет «обветшалым жанром» или еще как-нибудь в этом роде. Три года работы. Да какой!
– Чепуха! – горячо перебил Владимир – Что винокуровы? Вспомните двадцатые и тридцатые годы. Разве тогда не было попыток увести наше искусство в сторону от столбовой дороги? Были, да еще какие. Но партия, ЦК не позволили. Не позволят и теперь, вмешаются. А как же иначе?
На Всесоюзную выставку Машков решил предложить две картины – «Прием в партию» и «В загсе» – и, кроме того, несколько портретов колхозников. Ждал членов выставочного комитета. Один из них, Николай Николаевич Пчелкин, как-то забежал к Владимиру мимоходом. По обыкновению он торопился, сдержанно хвалил и картины, и портреты, и покровительственно пообещал «решительно поддержать».
– А когда же остальные члены выставкома придут? – поинтересовался Владимир.
– А зачем они тебе? – И рассмеялся. – Кто-нибудь заглянет.
На другой день нагрянули академики живописи Михаил Герасимович Камышев, живой, крепкий старик с трубкой в зубах, и Винокуров. Владимир заволновался: с именем Винокурова он почему-то связывал все свои неудачи. Встреча с Камышевым обрадовала: имя его было хорошо известно не только в мире искусства, но и среди народа. Пожалуй, не было уголка во всей кашей огромной стране, где бы люди не встретили репродукций или копий с картин Камышева, написанных широко и ярко, сочной крепкой кистью большого мастера. Михаил Герасимович, человек прямого и несколько крутого характера, ученик Репина и Архипова, пришел в искусство в канун первой мировой войны, принеся с собой запах чернозема, душистых трав и полевых цветов Тамбовщины, ширь лугов и удаль не былинных, а действительных богатырей – своих земляков, с которыми он когда-то состязался в кулачных боях. Реалист в каждом своем мазке и борец по характеру, Камышев стал коммунистом еще в годы гражданской войны и на протяжении десятков лет вел непримиримую войну с формалистами разных мастей, подвизавшимися в живописи. Не удивительно, что у него было много и друзей и врагов. Камышева ненавидели бездарные выскочки и псевдоноваторы, объявившие реалистическое искусство обветшалым, отжившим свой век. У него много было недоброжелателей и среди одаренных, но завистливей художников. Были и такие, которые высоко ценили и уважали в Камышеве художника, его большой самобытный талант и в то же время недолюбливали за его прямой и резкий характер, за острый язык и нетерпимость к конъюнктурщикам от искусства. Эстеты и формалисты окружали имя Камышева паутиной клеветы и сплетен, ненавидели его и побаивались, потому что он слишком хорошо знал их повадки, их «тактику и стратегию», разгадывал их ходы и уловки, никогда и никому не давал спуску. Он пользовался авторитетом среди лучших советских художников, но еще больше он был авторитетен среди простых советских людей и их руководителей.
Художественная молодежь относилась к Михаилу Герасимовичу по-разному: ученики Иванова-Петренки и Барселонского, такие, как Борис Юлин, не любили Камышева и в то же время при случае заискивали перед ним: все-таки академик, народный художник. А наследники передвижников, подобные Машкову и Окуневу, искренне восхищались им.
Машков не был близко знаком с Камышевым. Приглашая сейчас его в комнату, Владимир почувствовал, как дрожат руки. Но, взглянув на свою картину, повеселел, успокоился: умные глаза колхозного парторга будто говорили не только девушке, но и ему: «Не волнуйся, все будет хорошо».
Камышев вел себя запросто, как дома, ходил по комнате, пришаркивая ногами. Быстрые зрачки его темных глаз профессионально прощупали всю обстановку и наконец остановились на картине. Владимир придвинул академику кресло. Тот сел, не отрываясь взглядом от полотна. Винокуров сел рядом на стул, а Владимир стал позади них. Пышная, слегка поседевшая шевелюра академика заслоняла правый угол картины. Молчали минуты три-четыре. Потом Камышев с неожиданной резвостью вскочил, подошел к картине вплотную, потрогал краски голубого неба и солнечной ржи, отошел к окну, посмотрел на улицу. Потом повернулся и опять посмотрел на картину. Владимир заметил, как шевелятся в улыбке его обветренные губы.








