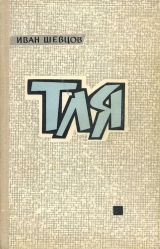
Текст книги "Тля"
Автор книги: Иван Шевцов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 19 страниц)
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
«Любовь, это восхитительное чувство, животворящее вселенную, у нас всегда соединена с грустью».
М. Глинка
С выставки Люся приехала расстроенная, бросилась на тахту и заплакала. Слезы размочили тушь на ресницах и черными ручейками потекли по щекам. Взглянув в зеркало, она испуганно и торопливо начала вытирать лицо, а слезы все лились и лились. Дома, кроме нее, никого не было. Она умылась холодной водой, согнав с лица краску и пудру, и лицо сделалось другим: приветливым, девически милым. Снова разглядывая себя в зеркале, она обнаружила морщинки на лбу. Открытие это испугало ее, и ей снова захотелось плакать. Села на тахту, подобрав под себя ноги, и стала смотреть на картину Владимира. «Зачем она здесь? Зачем я здесь, а не с Борисом, у которого сегодня большой торжественный день? Почему я не разделяю его радости?»
Люся редко бывала у Юлиных и шла к ним точно по обязанности, только бы не обидеть Бориса. Об инциденте во время помолвки ей никто не напоминал, все относились к ней с подчеркнутой любезностью, но день от дня Люся вес более сознавала, что свадьбы у нее с Борисом не будет. Надо бы с ним объясниться, но она не знала, как это сделать. Да и не хотелось начинать неприятный разговор. Она чувствовала себя виноватой и перед Владимиром и перед Борисом.
Люся встала, вынула из шкатулки фотографию Владимира и стала внимательно, как будто впервые, рассматривать лицо человека, которого любила. «Милый, милый Володя! – беззвучно шептала она. – Если бы ты знал, какая я дурочка… Но ты этого никогда, никогда не узнаешь!»
И ей захотелось, чтобы все стало так, как было несколько месяцев назад. Возможно ли это? «А может, он уже ту любит, что на портрете и на картине? Она, кажется, моложе и свежей. Но все-таки, все-таки была бы она, Люся, счастлива с ним? Нет-нет, он не простит! Никогда не простит! Ну, а она, если бы Володя так поступил, простила бы?» К своему ужасу, она должна была сознаться, что, если бы Володя устроил помолвку с Валей, она ни за что не простила бы его. «Значит, и он… и он? Какой ужас! Что я наделала?!» Что же ей теперь делать? Как жить? И зачем?
На раздумье ушло несколько дней. Наконец Люся решилась: «Пойду к отцу. Да-да, расскажу все по совести и попрошу совета, как дальше жить. Он добрый, он поймет…»
Люся сидела рядом с отцом и молчала. Заговорить первой она стеснялась, ждала, когда заговорит отец. Она была уверена, что он это сделает, и готовилась к неприятному, но необходимому разговору, который должен, как ей казалось, облегчить душу, ответить на уйму неясных вопросов, беспокойно роящихся в голове. Люся чувствовала себя беспомощной и слабой, но не хотела никому, даже себе самой, в этом признаться.
Для нее было совершенно неожиданным, когда отец, отложив «Правду» со статьей академика Камышева, которую Люся еще не успела прочесть, заговорил совсем не о том, чего она ждала. Он заговорил об искусстве, которое бывает очень разным: одно помогает людям жить, согревает душу, будит разум, волнует и зовет к новым горизонтам; другое раздражает, отталкивает, пугает, вносит в мысли какую-то сумятицу, подрывает веру в человека и в красоту жизни, оставляет на душе нехороший осадок.
– По-моему, твоему Борису и его друзьям ближе второе искусство, чем первое, – медленно выталкивая слова, говорил Василий Нестерович. Серое болезненное лицо его было угрюмым, в усталых глазах появилась настороженность.
– Их надо понять, – сказала Люся и почувствовала, что защищает Бориса и его друзей. А на самом деле она хотела защитить только себя и уж никак не их.
– Понять, чтобы оправдать? – И в этом утвердительном вопросе отца Люся почувствовала упрек. – А я не могу. И понимаешь, Люсенька, не я один, но и Камышев, и другие. Большинство не принимает того искусства, большинство не только таких, как я, простых зрителей, но и ценителей.
– Понимать искусство – это тоже большое дарование, и не каждый им владеет, – повторила Люся чужие, Осипа Давыдовича, слова. – Надо уметь слушать музыку, смотреть картины, спектакли…
– …И кинофильмы и читать романы? – добавил Василий Нестерович. – Значит, искусство для избранных. Я это слышал, когда тебя на свете не было. Слышал и видел то искусство: кубистов, футуристов, конструктивистов, импрессионистов. И все кричали о новаторстве, о революции, о шедеврах новоявленных и непризнанных гениев, которых, дескать, поймут лишь потомки. Где они сейчас, эти шедевры? Разве не кажутся тебе их опусы обыкновенным дилетантством? А Микеланджело и Рембрандт были одинаково понятны как своим современникам, так и потомкам. Чтобы их понимать, не надо было кончать специальных университетов. А наши Иванов, Репин, Шишкин! Разве когда-нибудь их не понимал народ, массы? Недоучки, кривляки не принимали их тогда и третируют теперь. Так это от зависти, потому что сами так писать не могли и не могут.
– Репин и Шишкин – не одно и то же, – заметила Люся и сообразила тотчас же, что говорит не свои слова, потому что в душе она любила Шишкина, которого Борис и его друзья считали просто-напросто фотографом, натуралистом и вообще не художником. – Но согласись, папа, что надо воспитывать эстетический вкус народа.
– Надо, конечно. Только не надо убеждать народ в том, что черное есть белое, а белое есть черное. Взрослые не поверят, ни за что не поверят. Разве только молодежь можно обмануть такими штучками. А кто позволит обманывать несовершеннолетних? Взрослые не позволят, отцы, наконец, партия, правительство не позволят дурачить народ.
Василий Нестерович говорил с твердой спокойной убежденностью. И Люся чувствовала, как иссякали ее аргументы, ей нечем было возразить. Позиции ее были очень шаткими. В сущности это не были ее, Люсины, позиции и убеждения. Она стояла на позициях людей, которые ее учили в университете, с которыми сталкивалась по работе, людей, которые считали себя мэтрами и законодателями в искусстве. Она им верила. В их теориях, преподносимых с таким апломбом, шумом и феерическим блеском, было что-то заманчиво-привлекательное для людей неискушенных, не имеющих твердых собственных взглядов и убеждений. Тем более что противоположная точка зрения на искусство Барселонским и его друзьями всячески высмеивалась, объявлялась дилетантской, старомодной. А кому из молодых людей, особенно самовлюбленных девиц, к числу которых принадлежала и Люся, хочется слыть дилетанткой, да еще старомодной, быть предметом насмешек? Для нее и Камышев был старомоден. А вот Барселонский – это уже «шаг вперед», это «европейская цивилизация», потому что его искусству «чужда русская национальная ограниченность», как говорит Осип Давыдович. Нравился ли Барселонский, а точнее – его искусство, Люсе? В душе – нет. Но она восторгалась им «за компанию», она не хотела «отставать от моды». А мода создавалась в «салоне» Осипа Давыдовича. Но об этом Люся ничего не знала. Об этом не знал и ее отец, хотя и догадывался. Друзья будущего зятя были ему несимпатичны. Даже Пчелкин, которого Василий Нестерович любил как художника, вызывал в нем чувство настороженной сдержанности. «Это еще не известно, с кем идет маститый и популярный, преуспевающий и везде успевающий Николай Николаевич» – рассуждал отец Люси. Ведь над ним есть Лина, жена его.
Неужели Люся, его дочь, на которую он возлагал столько светлых надежд, оказалась среди людей, не любящих национального искусства, далеких от народа своего? И почему такое могло случиться? Не верилось, что это серьезно, просто она еще очень молода, не смогла разобраться, где настоящее искусство, а где поддельное, фальшивое. Она разберется, внушал он себе, но это было слишком легковесным утешением, вызывавшим в душе еще большую тревогу. Волновала дальнейшая судьба Люси, судьба, которая решается сегодня. То, что Люся увлеклась «левым» искусством, это было еще полбеды, потому что он чувствовал непрочность ее позиций; это, мол, ненадолго, временно. Опомнится, разберется, и все пройдет. Пугало и тревожило другое: не увлеклась ли она и Борисом вот так же легкомысленно, случайно? Инцидент с картиной Машкова «В загсе» убеждал его в этом. И в таких догадках было что-то приятное: он чувствовал, что Люся неравнодушна к Владимиру, который ему определенно нравился.
– Вот Машков, он совсем другой, чем Борис, – размышляя, произнес Василий Нестерович. – Он не скажет, что Репин и Шишкин устарели. Чтобы понимать его искусство, – Василий Нестерович поднял усталые, но уже сверкающие тревожными искорками глаза на картину «В загсе», – не надо кончать специальных курсов и университетов. Мне кажется, человек и художник – это едино. Потому что в искусстве – душа художника. Если ты подлец, ловкач, деляга, так это будет заметно и в твоем творчестве. Этого не скроешь, когда-никогда, да прорвется.
Был ли это деликатный намек – трудно сказать, но Люся поняла его именно так. Она вдруг посмотрела на отца большими влажными и необыкновенно открытыми доверчивыми глазами, в которых светилось большое искреннее чувство.
– Спасибо тебе, папа! – сказала она.
С тех пор прошло немало времени в муках и напряженных трудах. Валя поступила в Тимирязевскую академию, жила в Москве, но с Владимиром не виделась. Машков знал, что она в Москве, но встречи с ней не искал. Люсю он также не видел больше года. О Люсе он думал все время, с ней хотелось повидаться. Теперь уж он почти не верил, что она выйдет замуж за Бориса, но в нем задним числом, все более разгоралась обида:
«Она плюнула мне в душу! Знала, что я ее любил, а побежала за Борисом… Ну и пусть теперь за ним бегает, и пусть!».
Да только обида и злость почему-то не заслоняли образ Люси. Владимир не хотел себе признаться, что все еще любит ее. Желая себя урезонить, он начинал сомневаться: «Да и был бы я счастлив с ней?». Перебирая в памяти семейную жизнь своих знакомых, он, к огорчению своему, обнаруживал, что многие из них не смогли создать счастливой семьи, о которой мечтали. Так могло быть и у него с Люсей. Люди они разных характеров, вкусов и привычек. Говорят, любые противоречия между супругами примиримы, если они доверяют друг другу. Но возможно ли теперь доверие между ним и Люсей. Он-то любил ее и надеялся, а она – к Борису… Не повторится ли это потом, когда они все же окажутся вместе?
Грустно, томительно было думать об этом.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
«Дурной человек не может быть хорошим автором».
Н. Карамзин
Успех на предыдущей выставке картины «Прием в партию» и ее признание, последовавшее после статьи Камышева в «Правде», окрылили Владимира Машкова, улучшили его материальное положение. Он с новыми силами и надеждами работал в течение года над картиной «Родные края».
В творческих организациях после известных решений партии по идеологическим вопросам обстановка также резко изменилась к лучшему. Эстеты и формалисты всех мастей, апологеты «искусства для искусства» были оттеснены на задний план. Все эти винокуровы, яковлевы, ивановы-петренки, как тараканы, попрятались по щелям и временно не проявляли особой активности. В тиши дачных особняков они производили перегруппировку своих сил, вырабатывали новую тактику и вели разведку наблюдением.
Осип Давыдович в печати теперь не выступал, на собраниях художников не появлялся. Запершись у себя на даче, он писал теоретический труд «О закономерном исчезновении конфликтов в жизни и в искусстве». Этим «открытием» он собирался потрясти мир и… снова выдвинуться. Это был поворот «на несколько румбов», как говорят моряки. Теперь Осип Давыдович проповедовал то самое, что отрицал вчера. Спекулируя правильными лозунгами, жонглируя громкими фразами, он даже забегал вперед своего времени и доказывал, что в жизни нет классовых противоречий, а следовательно, нет и не может быть непримиримых конфликтов. А поскольку искусство есть отражение действительности, значит, и в произведениях искусства не может быть никаких конфликтов. Таким образом, Осип Давыдович хотя и завуалированно, но недвусмысленно призывал художников и советскую общественность к примирению старого с новым, отсталого с передовым, идейного с безыдейным, обывательским.
Выслушав своего друга, Лев Михайлович Барселонский хитро улыбнулся:
– Очень остроумно и заманчиво! Но уверены ли вы в неуязвимости вашей теории? Все-таки в жизни еще немало мерзостей, и диалектики призывают нас к борьбе с пережитками…
– Я вас понимаю, – подхватил Осип Давыдович, – но на это есть убедительный ответ: то, что конфликтно, то нетипично. Все теневое в нашей действительности – нехарактерная случайность, не заслуживающая внимания…– Он ухмыльнулся.– Ну, а случайность, как вы понимаете, годится только для водевиля… – И, помолчав немного, таинственно сказал: – Эта штучка может понравиться и в верхах.
Это была тайная мечта, вдруг доверительно высказанная вслух.
Барселонский, прищурившись, довольно гмыкнул и, побарабанив пальцами по столу, повторил:
– Очень остроумно и заманчиво, очень! – Подумал и сообщил как новость: – А Семен Семенович по-другому вопрос ставит…
– У него другой план, – уверенно возразил Иванов-Петренко. – Я с ним говорил…
Семен Семенович Винокуров всю зиму и лето жил на даче Барселонского на полном его иждивении и писал большую журнальную статью «Об искренности в искусстве».
По вечерам художник и критик медленно прохаживались по чистеньким аллейкам просторного дачного участка, обнесенного высоким зеленым забором, и вели нескончаемый разговор на эту тему. Говорил больше Барселонский, а Винокуров слушал, запоминал и приводил в систему мысли «патриарха». После каждой прогулки Винокуров садился к письменному столу и заносил кое-что на бумагу.
Так постепенно рождалась острая, полемического тона статья, в которой тенденциозно и однобоко освещалось положение в советском искусстве. Упор делался на теневые стороны нашей действительности, будто бы замалчиваемые искусством и литературой. Основной смысл статьи сводился к тому, что советские художники неискренни. А неискренни они потому, что лишены «свободы творчества», пишут не так, как им бы хотелось, а якобы только так, чтобы потрафить вкусам вышестоящих товарищей и невзыскательных зрителей и читателей. «В основе нашего искусства, – писал Винокуров, – лежит проповедь, облеченная в грубую форму пропаганды. Ее нужно заменить исповедью. Натуралистическое искусство факта должно уступить место подлинному искусству психологического анализа».
Обе статьи были готовы почти одновременно. Но авторы понимали, что обнародовать их нужно в разное время. Сначала появился в печати труд Иванова-Петренки об исчезновении конфликтов в советской действительности и в искусстве, потом, спустя определенное время, в порядке развернувшейся дискуссии опубликовал свою статью Винокуров. И снова общественность и художники были искусно сбиты с толку этими ловкими критиками, утверждавшими непримиримые вещи.
Статья Иванова-Петренки с претенциозным названием «Время и конфликт» была опубликована в журнале. Статью показал Владимиру Павел Окунев.
– Видал, Иванов-Петренко снова выполз на свет божий! Удивляешься, как они живучи.
– О чем статья? – спросил Владимир. Окунев статью не читал, он лишь полистал ее и, не найдя в ней ничего для себя интересного и не уловив главного смысла ее, швырнул журнал в угол мастерской. Владимиру ответил: – Меня интересует не содержание, а сам факт слишком скорого воскресения ее автора.
Владимир читал статью Иванова-Петренки внимательно, находя в ней мотивы, которые касались и его творчества, как-то перекликались с его личными настроениями. Чей-то посторонний голос и раньше упрямо внушал ему мысль о необходимости изображать нашу действительность только в радужных тонах и оттенках. Владимир не понимал, зачем это нужно, и внутренне противился такой идее. Однако те два полотна, над которыми он сейчас работал, вольно или невольно были отражениями этой идеи. И не только потому, что главные герои их были абсолютно положительные люди. Художник ставил их в обстановку беззаботного благополучия, где каждая деталь, каждый мазок кисти подчеркивали какую-то душевную беспечность. В «Родных краях» демобилизованный старшина идет полевой дорогой среди моря густой высокой ржи, тучной, урожайной. Над ним – ясное безоблачное небо, за ним блестит асфальт шоссе, по которому мчатся автомобили. А дальше, за шоссе, на солнце сверкают белым шифером новенькие крестьянские домики. Выражение лица демобилизованного воина – это выражение беззаботного счастья.
Статья Осипа Давыдовича поселяла в нем сомнения, и, как ни странно, именно тем, что теоретические положения критика совпадали в какой-то мере с творческой практикой художника. Владимир не подозревал, что в его практику эти мысли о лакировке действительности, о бесконфликтности в искусстве были навязаны тем же критиком и его друзьями гораздо раньше, навязаны постепенно и незаметно. Владимир не знал, как ему быть: принимать такую статью или не принимать. Автор статьи по своим убеждениям был ему чужд, и поэтому надо бы отвергать все, что он предлагал. Но Владимир понимал всю несерьезность и наивность такого пути. Осип Давыдович не дурак, и не всегда он предлагает чуждые идеи. Иногда он вынужден высказывать правильные мысли, иначе его никто не стал бы печатать. А ведь печатают же, и прежде чем печатать, должно быть, читают люди понимающие и грамотные. Тем более что это было первое выступление Иванова-Петренки после резкой партийной критики в его адрес, и вряд ли в нем Осип Давыдович рискнет нести чертовщину.
Нет, никакой крамолы не находил Владимир в этой статье. Но она и не вносила ясности, а лишь усиливала гот разлад, который образовался в его душе. Как примирить соломенные крыши, которые он видел в жизни, с новенькой черепицей домов в колхозных кинофильмах? И он себя успокоил тем, что его творческая практика сходится с теоретическими положениями критиков, подобных Иванову-Петренке. В данном случае он считал, что в конце концов не столь важно, кто автор статьи, важно, что она напечатана в советском журнале. В этом свете он видел статью как плод коллективного разума.
Картина «Родные края» не доставила художнику ожидаемой радости. Его мучили сомнения. Хотелось послушать мнение авторитетов до того, как картина попадет на выставку. А может, вообще ее не выставлять? Такую мысль он как-то высказал Еременко. Петр посмотрел на него прищуренными глазками и, убедившись, что товарищ говорит серьезно, ответил:
– Ты стал излишне требователен к себе. А излишества, как тебе известно, вредны.
Владимир решил показать картину Пчелкину. Правда, Николай Николаевич уже не был для него безупречным авторитетом, как несколько лет тому назад, но все же.
Пчелкин охотно откликнулся на просьбу своего бывшего ученика. В квартиру Машковых он вошел легко, колобком вкатился, по своему обыкновению потирая руки, как азартный игрок. На картину смотрел внимательно, со всех сторон, дружелюбно и многозначительно хмурился, отчего лицо его, полное, круглое, делалось смешным, как у мальчишки, разыгрывающего роль взрослого.
– Ну что ж, – наконец важно протянул он, все еще не отрывая взгляда от картины, – хорошо. Я бы вот только здесь усилил рефлекс, сделал бы его поярче, посочней. – Он ткнул толстеньким, мягким с крапинками веснушек пальцем в левый край холста и добавил поучающе: – А правый угол неба надо еще проработать. Сделай его помягче, потеплей. – И быстро посмотрел на Владимира, точно сообщая, что у него больше нет никаких замечаний.
– Я не об этом спрашиваю… Это детали, их устранить недолго, – с тихой грустью в голосе произнес Машков. – По идее как? Понимаешь, о главном речь.
– Вообще… недурно. Я тебе скажу – даже хорошо. Жизнерадостный колорит, веселое, бодрое настроение. Ты читал статью Иванова-Петренки об исчезновении конфликта в нашем искусстве?
Этот неожиданный вопрос Пчелкина открыл Владимиру глаза.
– Солнечно, без облаков? Читал. Вначале даже как будто нравилось, а теперь вижу – не то…
– Что «не то»? – Пчелкин насторожился.
– И статья Осипа, и моя картина – все не то. Понимаешь, внутренне я чувствую, что-то здесь не так, – он постучал по холсту,– какая-то фальшь тут… слащавость. Вот именно – слащавость! – обрадовался он найденному слову.
– Самоанализ? – подозрительно спросил Пчелкин.
– Нет, что-то другое. Эту картину я начал в первые дни моего пребывания в Павловке. А потом, когда я ближе узнал трудную жизнь колхоза, мне хотелось бросить этот сюжет, но… как раз в эту пору появилась статья Осипа Иванова-Петренки, и я с новым жаром взялся за эту картину.
– Я тебя не совсем понимаю… – Пчелкин глядел в пол. Владимир пытливо взглянул на него сбоку и глазами спросил: «А ты искренне хочешь понять или только так, видимости ради?» Николай Николаевич, должно быть, угадал этот немой вопрос, положил руку на плечо Машкова и ласково попросил:
– А ты объясни…
Они сели на тахту, и Владимир стал терпеливо объяснять:
– Картина эта имеет определенное географическое место и время. Представь себе послевоенные годы, смоленскую деревню, разоренную и растоптанную войной. Скудную землю, одичалую залежь, которую надо было поднимать. А кому? В селе бабы да дети. И вот он, демобилизованный старшина, возвращается в родные края, к земле, за которую кровь проливал. Сколько дел ему предстоит! А что ты видишь на моей картине? Этому старшине уже делать нечего. Для него вон какой хлеб вырастили! Живи, как говорится, припеваючи. Ты говоришь, «веселая картина» вышла, а мне теперь кажется – беспечная.
– М-да, – промычал Николай Николаевич. – Это уже тема другая. То, что ты рассказал, – тоска-кручина, грусть…
– Грусть? – воскликнул Владимир. – Ну нет, брат, грустить тут некогда и незачем. Тут работать надо засучив рукава.
– Значит, все заново? – спросил Николай Николаевич, не находя для возражения ни нужных слов, ни убедительных доводов.
– Да, теперь решено: начну новый холст. Все, все заново: небо, земля, и главное – внутреннее состояние героя. Разве только композиция останется, – твердо сказал Владимир, хотя еще час назад не был уверен и в этом.
– Жалко рожь и небо, – заметил Пчелкин. – Это тебе удалось.
– Не думаешь ли ты, что мне жалко меньше твоего? – Владимир сокрушенно посмотрел на Николая Николаевича.
– Тогда поезжай на озеро Сенеж в Дом творчества художников: там найдешь и нужное небо и невспаханную землю, – посоветовал Пчелкин.
Это была недурная идея, тем более что в Павловку Владимиру ехать не хотелось: он боялся расспросов колхозников о Вале, с которой так и не виделся…
Наступил сентябрь, мягкий и солнечный. Надвигалась пора золотой осени, то самое время, от которого Владимир не знал, куда прятаться. Весна его окрыляла, наполняла энергией, и он готов был работать сутками напролет, недосыпая, недоедая, и всегда чувствовал себя бодрым. А ранняя осень среднерусской полосы с тонкими запахами увядающих трав и полевых цветов, с белой паутиной на стерне, шуршанием опавших листьев и горьковатыми дымками костров, с прохладой вечеров и грустным курлыканьем первых журавлей – эта осень выбивала его из колеи, напоминая о чем-то безвозвратно уходящем и бесконечно дорогом. Иной раз ему хотелось закричать на весь мир: «Стой, остановись, время! Дай поглядеть на землю, насладиться ее красотой, надышаться последними запахами ушедшего лета».
Расхаживая по живописным окрестностям Солнечногорска в поисках подходящей залежи, с которой можно было бы писать передний план картины, оглядывая живописные окрестности, Владимир думал: «Только здесь мог родиться гений Чайковского, в этой «русской Швейцарии»! Как приятно и легко здесь бродить! Куда ни ступишь – открывается новая сельская даль, зовет и манит, и ты идешь, не чувствуя усталости, и так хорошо мечтается, даже забываешь, что это не осень, а «бабье лето»… Странное название. В чем смысл его? Неужто в увядании женской молодости?
Владимир пошел опушкой леса по старинной дороге к бывшей барской усадьбе, где теперь расположен совхоз. Четыре шеренги старых берез бежали вдоль дороги. Дорога неезженная, поросшая травой и устланная желто-оранжевой листвой, выходила к тихому пруду.
Владимир спустился в лощину, дышащую влагой. Постоял немного, точно силясь совладать с одолевшими его чувствами, и поднялся на бугор. Из леса, пересекая лощину, выбегала проселочная дорога. Невдалеке – село, возле села – санаторий военных моряков, с аркой и белыми башнями у центрального въезда. А рядом – зябь и участок давно не паханной земли на краю оврага. Настоящая облога с мелкой, как поредевшие волосы, травкой, с кочками и ямочками… Да это же то, что нужно!
Обрадованный находкой, художник поднял глаза, посмотрел на запад и в расстоянии трех-четырех километров увидел Сенеж, зажатый с двух сторон пестрым лесом. Озеро сверкало отражением светлого западного неба. И вдруг эта картина напомнила что-то очень знакомое и близкое. Да это же пейзаж Ивана Шишкина! Да-да, именно здесь, вот с этой возвышенности и писал Шишкин свои «Лесные дали»! Теперь, спустя почти сотню лет, на том же месте стоял наследник великого пейзажиста и готовился написать фон для своей картины, в которую хотел вложить весь жар души, все свои мысли.
Открыл этюдник, поставил картон и начал писать. Работал, как всегда, быстро, но время шло еще быстрей. Солнце катилось к озеру, угрожая утонуть в его сверкающей пучине; на землю вместе с влагой тумана ложились длинные тени. Владимир разогнул натруженную спину и, убедившись, что краски на земле резко изменились, с сожалением стал свертывать работу.
На другой день он чуть свет пришел сюда писать этюд. Теперь озеро смотрелось еще лучше, хотя над ним дымился туман. Владимир просидел за этюдником до обеда. Был сделан новый вариант облоги – при другом освещении. Можно, пожалуй, возвращаться в «Дом творчества» к натянутому на подрамник холсту. Владимир поднялся на самый гребень бугра, чтобы еще раз взглянуть на озеро, потом вернулся за этюдником и неожиданно увидел, что облога стала другой, не похожей на ту, что изображена на картоне. Взглянул на солнце, неплотно прикрытое тучей, и все стало ясно: те два этюда он писал при солнечном освещении. А теперь что же, третий писать?
По замыслу в новом варианте картины «Родные края» небо должно быть облачным. Но закрывают ли облака солнце? Вспомнился могучий солнечный луч, пробивший фиолетовую грозовую тучу, ту самую необычную картину природы, которую он и его друзья на даче в Переделкине спешили занести в альбомы и на картон. Да-да, та туча и тот солнечный луч, символ жизни, сила и могущества, как нельзя лучше подходят к его новому замыслу!
Забыв даже про еду, он снова расположился на облоге и стал переписывать этюд заново…
И вот картина закончена. На первый взгляд почти все от старого варианта оставалось на месте, но это была все же совсем новая, другая по духу и мысли картина. От прежней беспечности не осталось и следа. Нечто мужественное, суровое и зовущее появилось на полотне. На заднем плане – асфальтовое шоссе. По нему в даль перелеска уносится грузовик. Можно догадываться: из его кузова несколько минут назад соскочил демобилизованный сержант. Вот он на первом плане с чемоданом и шинелью в руках, подтянутый и сдержанный. Теперь он шел не по проселочной дороге среди высокой спелой ржи, а по тропинке, проложенной через запущенную облогу, за которой открывались родные необозримые дали. Сложные и широкие чувства выражало лицо сержанта. Это было лицо человека, который после долгой разлуки вернулся в родные края, где он впервые появился на свет, где топтал босыми ногами пахучую землю, за которую пролили кровь его боевые друзья-однополчане и которую он должен переделать так, чтобы она зацвела изобилием. За шоссе – новый сруб избы, новый телеграфный столб и еще не убранный подбитый танк. Это «детали», которых (как и облоги, и тучи с солнечным лучом) не было в прежнем варианте. Но главное все же было не в этих деталях, а в образе героя – хлебороба новой деревни.
В тот день, когда в «Правде» была опубликована первая редакционная статья, разоблачающая «теорию» бесконфликтности, Осип Давыдович сидел дома и отвечал на телефонные звонки. Многочисленные друзья спешили засвидетельствовать ему свое сочувствие и советовали «не падать духом». А к вечеру тут собрались завсегдатаи «салона». Первыми пришли Борис Юлин и Ефим Яковлев, оба нарядные, возбужденные. О статье – ни слова. Хозяину это понравилось. С улыбочкой он спросил Яковлева:
– Какие новости у кинематографа?
– У нас, как вы знаете, в этом отношении всегда был порядок, – самонадеянно и тоже с улыбочкой ответил поэт-сценарист.
– Не спешите хвастаться, Ефим, подождите выхода на экран картины «Ломоносов», – предостерег хозяин, направляясь к телефону, чтобы ответить на очередное утешение. Вернувшись в гостиную, он продолжал: – Насколько мне известно, в этом фильме есть мысли, сомнительные для патриотической критики…
Яковлев кивнул, приподнял брови и возразил с ухмылкой:
– Фильм выйдет на экран в юбилейные дни Московского университета. Кто станет критической рецензией омрачать торжество?
Осип Давыдович одобрительно покачал головой, как бы говоря: «Ай да озорники!»
Семен Семенович Винокуров появился в «салоне» позже всех. Он пришел со своим киевским племянником, молодым художником, только что окончившим институт. Это был мелколицый, щуплый юноша с самодовольным, нагловатым взглядом, которому тоненькая ниточка рыжих усов придавала смешное выражение. Одет был юноша в украинскую сорочку с вышивкой и в серый костюм. Звали его Геннадий Репин. Институтские остряки говорили о нем: «Пустоголовый Гена с гениальной фамилией», что, впрочем, ничуть не смущало будущую знаменитость, по убеждению которой таланта, как такового, вообще не существует, а есть удачники и неудачники, как объективно не существует хороших и плохих произведений. Все зависит от точки зрения. И он был уверен, что добрые, близкие люди создадут ему славу великого художника. Первым шагом к этой славе была знаменитая фамилия.
С хозяином здоровались сегодня особенно тепло: никто не забывал, что он герой дня, хотя никто и не решался начинать разговор на эту тему. Когда все уселись по своим излюбленным местам и люстра начала таять в облаке табачного дыма, Осип Давыдович сообщил, как приятную новость:
– Звонил сегодня Лев. Приглашал на крестины своего детища…
Это означало, что Лев Барселонский закончил новую картину, которой заранее отводилось место в сокровищнице бессмертия.
Беседовали пока обо всем понемножку, и все понимали, что это лишь прелюдия. Говорили о том, что над миром сгущаются тучи, и о том, что Юлины купили себе «вполне приличный» домик за сто двадцать тысяч далеко от Москвы, в районе Томска, «там, где не было затемнения». Иванов-Петренко заметил, что лично он предпочел бы Алма-Ату, но без компаньона не обойтись, поскольку такая отдаленная и «приличная» дача «обойдется в копеечку». Винокуров изложил свой дачный план: он решил подыскать «за сходную цену» крестьянский домишко комнаты на три-четыре в прикамской глуши, вдали от шума городского…








