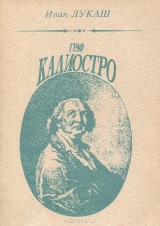
Текст книги "Граф Калиостро"
Автор книги: Иван Лукаш
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 6 страниц)
Иван Лукаш
Граф Калиостро
Повесть о философском камне, госпоже
из дорожного сундука, великих ро-
зенкрейцерах, волшебном золоте,
московском бакалавре и о про-
чих чудесных и славных
приключениях, бывших
в Санкт-Петербурге
в 1782 году
Печатается по изданию: Лукаш И. Граф Калиостро.
Берлин: Книгоиздательство писателей в Берлине, 1925.
ДОРМЕЗ У ЗАСТАВЫ
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный...
Пушкин
Петербургской белой ночью, к рассвету, когда столица тускло дымит серебристой мглой, у Митавской заставы, что за Обуховым мостом, часовой гренадер заслышал глухой гул колес о щебень государевой дороги.
Старый солдат, хвативший пенника в торговых банях у портомоен и продремавший всю ночь на крыльце кордегардии, взбил пятерней буклю, осыпавшую плечо мукой, и, кряхтя, поднял с земли фонарь.
– Кого черти несут? Чтоб их, неугомонники, – проворчал солдат, откидывая рогатку.
Желтая тропинка света нырнула в туман.
Покачиваясь, точно похоронная колесница, надвинулся дорожный дормез.
Запряженные четвериком лошади окутаны паром. Коренник злобно покосился на фонарь и чихнул, обрызгав гренадера пеной.
Щуплый возница ежится на высоком кучерском сиденье, подняв многие воротники шинели. Лицо утонуло в горбатой черной треуголке.
– Буди, чучело, барина, подорожную надобно, – окликнул гренадер.
Возница сипло затараторил, прищелкивая языком.
Старый солдат, понурясь, слушал непонятную болтовню: "Пускай-де немецкий щеголь отщелкивает". Кучер подернул локтями, хлопнул бичом – коренник, зачихав, поплыл мимо гренадера, обтирая ему плечо влажной шерстью.
– Да тебе ли говорят, стой!
Гренадер расставил ноги. Тень упала за ним, как раскрытые черные ножницы. Дубовая перекладина шлагбаума звякнула. Кони попятили.
Из кордегарии, – обвертывая канительный шарф вокруг живота и припадая на левую ботфорту, куда впопыхах не успел вбить всю ступню, – вышел заставный офицер.
– По какой причине шум? – равнодушно спросил он зевая и почесывая под буклей затылок.
– Да эфти вот подорожной выказывать не хотят.
Заспанный офицер посмотрел на козлы, зевнул и прикрикнул:
– Пашпорт!
Возница в горбатой треуголке что-то залопотал. Офицер ступил к козлам и дернул щуплого кучера за полу. Мелькнули кривые ноги, и у дормезного колеса офицер и солдат увидели на корточках странное существо: плоский нос, крутые скулы и обритые губы, изрезанные морщинами вдоль.
С запяток выглянул и другой слуга, форейтор, с длинным загнутым носом, похожим на клюв. Долговязый форейтор подбежал с поклонами к офицеру, путаясь в полах долгой шинели и прижимая к животу круглую шляпу.
– Кто таков? Оный вроде обезьяны, сей прямой попугай, – оттолкнул его офицер, подступая к стеклянным дверцам дормеза. Но тут же отпрыгнул: за темным стеклом горят два кошачьих зрачка.
– Испужал, – передохнул офицер и вежливо снял треуголку. – Коли не почиваете, сударь, извольте выдать подорожную вашу, понеже в столицу без сего не токмо иностранным, но и российским особам въезжать не дозволено.
Стукнуло стекло. Пухлая ладонь в кружевной манжете брезгливо протянула листок. Гренадер поднес фонарь:
Лист для проезду
Митавская канцелярия Его Высокопревосходительства Господина Генерал-губернатора свидетельствует, что показатель сего Его Высокоблагородие, Кавалер и Граф, Испанских Королевских Войск Полковник и Ученый Медикус Александр Феникс, он же де Калиостр, имеет быть без препятствий...
– Ка-ли-остр, – разбирал офицер круглые буквы.
Тем временем старый гренадер осматривал дормез. Верх у дормеза был черный, низ – желтый. "Важная работа, – примирительно похлопал солдат по кожаной обивке. – Надо полагать, в Гамбурхах эфтих мастерили, а то в каких Хранциях. Баре, оны што не придумают".
– Токмо долг служения повелевает чинить препятствия приятству вашего путешествия, – заговорил заспанный офицер голосом внезапным и тонким. Гренадер удивленно поднял лохматые брови, моргнул усом.
Из окна дормеза смотрела бледная дама в дорожной шляпке, повязанной лентами на подбородке.
Заставный офицер, кланяясь, отступал и до того крепко надавил гренадеру мозоль на мизинце, что тот крякнул – "Ыг".
Захлопнулось окно, кони стронулись, дормез закачался в туман, как громадная колесница.
– Ах, гордые персоны, кумплиманта терпения нет дослушать, – недовольно пожевал губами офицер, косясь на гренадера. – И тебя, как на грех, черт под ноги понес.
Когда старый солдат откидывал перекладину, возница, похожий на обезьяну в горбатой треуголке, захихикал, а долговязый форейтор, прокатывая мимо на запятках, явно показал язык.
– Черт-то не тут, – проворчал гренадер. – А вот он, в столицу покативши.
Миновав верстовой столб у караулки, дормез въехал на Обухов мост, скатился в беловатую мглу и поплыл тенью в сребристом сумраке ночи...
Накрытый кожухом мужик, запухший от сна, с всклокоченной бородой, был первым россиянином, какого встретили в Санкт-Петербурге ночные путешественники. На Невской прошпективе дормез прижал к забору мужицкий воз с сеном. Щуплый и тонконогий коняга, как щенок, расставил ноги, а мужик стянул рваную поярку, кланяясь барской карете. Возница огрел его арапником по склоненной спине.
– Батюшка, да чаво ж ты дерошься? – покорно пробормотал мужик, оправляя сбитую веревочную шлею.
РЫЦАРЬ РОЗЫ И КРЕСТА
Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
С виду сумрачный и бледный,
Духом смелый и прямой.
Пушкин
Обер-гофмейстер императрицы, канцлер и орденов кавалер, Иван Перфильевич Елагин, сухощавый старик с белоснежной головой, сидел в обтертых вольтеровских креслах, сцепив на коленях тонкие кисти рук. В бледной мгле рассвета мерцал на указательном пальце синий огонь квадратного перстня.
У кресел и на столе, где давно погасли свечи в жирандоле, навалены груды тяжелых книг в переплетах из свиной кожи, с красными тиснениями, все, как одна, похожие на древние библии.
Канцлеру не спалось. Всю ночь медленно перекидывал он пожелтелые листы "Хризомандера", "Путеводной книги чудес к храму древности" и рассматривал мистические эстампы в "Arcana Coelestia", славном творени Шведенборга.
Часы английского мастера Грагама мерно отбивали секунды и кварты...
А на рассвете послышался старику щемящий звук флейты, печальные переливы.
Елагин толкнул раму. Закашлялся от тумана. Теперь ясно слышалось, как в нижнем этаже льется и вздыхает флажолет.
– Секретарь мой спозаранок в музыке упражняется, – добродушно усмехнулся канцлер.
Обер-гофмейстер обходился без услуг дворовых людей. Сам опрятно убирал свое твердое ложе за щитом зеленой ширмы, сам вел счет кафтанам, камзолам и бриллиантовым пряжкам на башмаках.
В головах постели висит на стене мраморное Распятие. Старик, покряхтывая, опустился на колени. Он молился долго, ударяя костлявым кулаком в грудь...
И вышел в столовое зало уже в белом казимировом камзоле, причесав седые волосы в три букли.
В креслах, открыв рот буквой "о", спит старый дворецкий Африкан. Канцлер прошел мимо на носках. Он постоял перед дверью секретаря, слушая робкие переливы мелодии. Потом постучал.
С подоконника прыгнул молодой человек в набойчатом домашнем халате; стоптанные туфли на босу ногу. Флажолет, поблескивая клапанами, покатился под стол.
– Рано, господин Кривцов, изволите музицировать, – ласково прищурился канцлер.
Пойманный секретарь опустил голову. При поклоне закинулись на бледное, худое лицо рыжеватые пряди – красная грива московского поповича или аттического героя, каких представляют во французских трагедиях.
На подоконнике, на узком диване, над которым висит гравюра "Похищение Европы", навалены книги, как и в кабинете обер-гофмейстера.
На столе – медные часовые колеса, пружины, реторты, узкие щипчики, а стены увешаны коричневыми скрипками и грифами из черного дерева. Тут есть альтовиоли, виолончели и скрипки Страдивариуса, и Амати, и Штейнмейера.
Сводчатая комната молодого секретаря подобна неряшливому кабинету ученого, мастерской рассеянного часовщика и скрипичной лавке.
Действительно, секретарь господина Елагина, Андрей Степанович Кривцов, московского университета бакалавр, и музыкант, и механик, а всего больше – мечтатель.
Старый канцлер отметил его среди всех братьев Петербургской ложи Гигея и, – за благородную вежливость и похвальную пытливость, – позвал этого скромного брата к исполнению должности секретаря при особе своей.
В уединенном загородном доме, на Крестовском острове, в книжных трудах и ученых занятиях мирно проживал не только обер-гофмейстер императрицы, гордо носивший седую голову над пудреными головами царедворцев, не только великолепный вельможа, стоявший в своем парчовом кафтане, пылавшем пожаром, у трона северной монархини на приеме послов иностранных.
А жил там Великий Мастер всех масонских лож Российской Империи, Гроссмейстер Капитула Восьмой Масонской Провинции, Страны Снегов и Ветра, Московии, Сибири и Татарии, верховный брат Златорозового Креста – Иван Перфильевич Елагин... И в доме его нашел привет и приют молодой москвич, бедный рыцарь Розы и Креста, бакалавр Андрей Кривцов.
– Не прогневайтесь, сударь, за игру мою, – поклонился Кривцов. – Отменно тягостна белая ночь.
Елагин присел на жесткий диван. Был мил канцлеру сводчатый покой секретаря, все эти реторты, колеса, скрипки и старые масонские книги, открытые на страницах с чертежами звездных сфер, древ мудрости, цифрами каббалы. И сам секретарь-флейтист был мил одинокому старику, словно найденный сын.
– Дурно, батюшка, – пожурил канцлер секретаря. – Весьма дурно, что по ночам ты не спишь.
– Простите ли... За полночь над книгами сижу, а там и сон отлетает.
– Все знания таинств натуры чаешь?
– Ах, сударь, точно... Раньше, бывало, забавлялся я флейтами-скрипками, механизмы часовые разбирал, перед Музами грешен был, хотя госпожи сии меня и не жаловали... А как узрел свет в ложе Гигея, пошла кругом моя голова. И понял я, что сей видимый мир есть для человека логаринф и загадка.
– Логаринфы решаешь?
– Ах, сударь, кабы мне решить... Вот в древней книге Николая Фламеля Аш Мезереф на секрет философского камени напал: рецептура некая дадена. Нынче я ночи над тегелями просиживаю...
Елагин приподнял седую бровь, посмотрел на измазанную реторту, до половины наполненную тусклой жидкостью.
– Поди, посуды-то перебил...
– Справедливо, сударь: не токмо посуды, пальцы о стекла изрезал. Реторты – оне, проклятые, на огне лопаются. Намедни кафтан составами прожег... Свершаю все по строгому правилу, а получается у меня заместо философского камня сущая, – не прогневайтесь, – мерзость. И превонючая.
Канцлер и секретарь рассмеялись. Елагин утер платком веселое лицо:
– Момус изрек: боги были пьяны, когда сотворяли человека. Проспались и не могли без смеха глядеть на творение свое... Так и ты, вновь сотворенный брат-розенкрейцер, мне отменно забавен.
– Но взгляните, взгляните, – грустно усмехаясь, показал Кривцов на окно. – Кругом-то болота, сосны, туман, вод пустыня, заря незакатная. Все-то боязно, все тревожно: как исчезнет, подобно дыму рассветному, Санкт-Петербург и вся Империя наша – тут примется философский камень искать... Ах, сударь, ежели найти нам ключ Соломонов, учинили бы мы тогда на пространствах России Империю Златорозового Креста.
– Ишь, куда поскакал. Прыток ты, батюшка, на слова. Но из них заключаю, что книги наши читаешь отменно, хотя голова твоя точно кружится. Ничего, – все отцедишь... А о камени философском скажу: вот обожди, прибудет вскоре в столицу один человек, истинный маг. Может, ему посчастливится тайну сию отворить.
Уже занималась заря.
Румяный пар дохнул на стекла, прохладно озарил седую голову канцлера, красноватую гриву секретаря.
– Сударь, кого вы изволите ждать в столицу?
– Кавалера де Калиостро. Он мне писал, что камень ему якобы ведом... Я, друг, молчу, но мечтательства, подобные твоим, и мне, старому дурню, сродни.
На Петропавловских верках бодро звякнула заревая пушка.
– Вот и день, – поднялся канцлер. – Перелезай-ка ты, философского камени искатель, из халата в кафтан.
ПРОГУЛКА В КАРЕТЕ
Люблю тебя, Петра творенье...
Пушкин
Из низкой зальцы, где, дымя глиняными трубками, спорили у пузатого биллиарда об очках и ударах кия гвардейские офицеры, вышел плотный артиллерийский капитан в красном кафтане с отворотами черного бархата.
Сердито ворча, он поискал крюк, на который повесил свою черную треуголку:
– Буду я с ними играть, когда они, черти, у меня сто очков вперед забирают.
В трактир "Демута", что держал на Сенатской площади английский негоциант, приходил Андрей Кривцов читать по утрам газеты.
Прихлебывая черный кофе, он любил поговорить с трактирными завсегдатаями о спорах британских лордов в аглицкой народной каморе, о механическом фигуранте, изобретенном неким немцем в Гамбурге, играющем на флейте, пишущем под диктование и чихающем весьма натурально, также о приезжающих и отъезжающих, о кометах и двуголовых телятах, и о кошке-танцмейстере, которую нынче показывает французский дворянин на Мойке.
Приказав малому подать чашку кофе погорячее, Кривцов развернул серый лист "Санкт-Петербургских ведомостей" и пробежал глазами объявление:
В Большой Коломне, на Екатерининском канале, в доме с тремя колонками, что на углу, продается серо-пегий верховой мерик, пара пистолетов, четвероместная карета, попугай и за пять рублей здоровая девка, умеющая чесать волосы.
– Прожился некий барин в столице, так девку с попугаем на торг пустил, окаянный, – проворчал Кривцов, перекидывая лист.
Бакалавру вспомнилось, как еще в Московском университете professores – все больше немцы в коричневых сюртуках, головы как из слоновой кости выточены, нерусскими, твердыми голосами, точно обтесанными топором, – читали о римском гражданстве и афинейских вольностях, о Лейбницах и Декартиях, и как в масонской ложе, зачастую, когда гасили свечи, братья каменщики вполголоса беседовали за трапезой о низости подьячих, о неправде в судах и о позорище торга людьми.
– Не проявись лет десять назад тот мерзкой казак Пугачев, глупый изверг, государыня всенародно бы объявила равенство и вольность гражданству, а нынче не жди...
И тут артиллерийский офицер, вышедший из биллиардной, прервал мысли Кривцова.
– Андрюшка! Откуда тебя черт принес? – весело крикнул офицер и зашагал к бакалавру, задевая ботфортой дубовые табуреты.
– Шершнев! – поднялся тот. – Вот отменная встреча, друг ты мой, сразу признал: словечка, не чертыхнувшись, не скажешь.
Они звучно расцеловались. Шершнев приходится молочным братом бакалавру. Сын мелкопоместного дворянина, однокашник по Москве, философский кандидат, забубённая голова, первый бабник из всех московских студиозов, Шершнев был когда-то вместе с Кривцовым вскормлен одной мамушкой Агапигией, вместе запускал бумажного змея, гонял кубаря в Саратовских деревнях. Студиозус Шершнев по резолюции Magni professors ]Старшие преподаватели (лат.)[ был уволен от университета за леность и непосещение классов так же, как в свое время был уволен оттуда Григорий Потемкин, нынче первый вельможа в Империи, светлейший князь и генерал-аншеф.
– Так-то, Андрей, – весело болтал Шершнев, сидя верхом на стуле. – Тебя Миневра призвала, а меня Марс. Батюшка из студиозов меня в мушкатерские полки сержантом определил, а оттуда я, вишь, в гвардию залетел, к ее Величеству в пушкари.
И хлопнул друга по плечу.
– Да не бей ты, – поморщился Кривцов. – Плечо не казенное.
– Я и не чаял тебя в столице сыскать... Поди все нещадно скрипицы терзаешь, да книжную пыль нюхаешь? Не надоело?.. Тебя, брат, женить пора.
– Жениться поспею. А касательно Фортуны и мне жаловаться не след: я у самого гофмейстера всея Империи, господина Елагина, в секретарях состою.
– Ах, – откинулся на спинку стула Шершнев. – Постой, не тот ли Елагин, про которого сказывают, будто он с чертями компанию водит, в чернокнижие погружен и тайные братства заводит, имя же им – розенкрейцеры?
– Тот.
– Поди и ты чертовщиной заражен? К Богу с заднего крыльца забегаешь?
Кривцов потупился, переморгнул ресницами.
Потом окинул воспаленными от бессонниц глазами дымное, протабаченное зало, где маячили красные и синие пятна мундиров, оправил рыжеватые букли.
– Одному, друг Шершнев, утеха Венеры и Марса, другому же искус Минервы. Вот и я в искусе сем пребываю, стучу в дверь таинств натуры.
Шершнев недоверчиво оглядел помятый кафтан друга, его пальцы, обожженные чем-то, бланжевые чулки, сморщенные на икрах, и неряшливо пристегнутую медную пряжку. Подумал: "Ай, заврался мой Андрей", и сказал с насмешкой:
– Ты, значит, выходит вроде мага того, который нынче прибыл в столицу: графом Фениксом прозывается, а всем ведомо, что он Калиостр.
– Калиостр? – бледнея привстал бакалавр. – Врешь?
– Надо мне врать. Только и разговору с утра: Калиостр в столице. На Гороховой улице стоит. А с ним, сказывают, такая красавица...
– На Гороховой?
Кривцов не дослушал, схватил со стола треуголку и бросился из трактирного зала.
– Андрей, куда?
Грохнула дубовая дверь, задребезжали оловянные блюда на полке, покачалась клетка с говорящей пеструшкой – сорокой, трактирной забавой. Кривцов сбежал по каменным ступенькам к набережной.
В зеленой мураве, на пологом берегу Невы, проступают желтые лысины глины. У портомоен качается адмиралтейский пакебот. Матросские женки звонко хлопают вальками. Перед белой дорической колоннадой Адмиралтейства пасутся гуси, белеясь на зеленом лугу, как платки.
Трепещет флажок на высокой мачте за Невою над серой Петропавловской крепостью. И ясно видно, как по куртине шагает крошечный зеленый солдат у крошечной пушки.
Сонно выплыла из Лебяжьей канавки придворная гондола. На поднятых веслах солнечный блеск. За Исаакиевским мостом солнце четко чертит веревочные лестницы на мачтах купеческого корабля. Подвернуты белые паруса. Там снуют иностранные люди в красных колпаках, босые икры, как из бронзы: скатывают на берег бочки.
Кривцов потянул за углы шляпу: невский ветер бодро затрепал рыжую косицу.
Взбивая копытами комья земли, проскакал на тяжелом коне солдат в зеленом мундире с красной грудью – Преображенских батальонов вестовой. Тоже придерживает треуголку от ветра. У возов с соленой рыбой полудничают мужики: посыпав краюху государевой солью, крестятся на солнце.
– Чрезвычайное известие: надобно гофмейстера из дворца вызвать. – Кривцов рассеянно оглядывал полдневную набережную.
За Невой светлыми призраками высятся колоннады Академии наук, красные коллегии, деревянные переходы и лесенки вокруг возводимой Академии художеств...
Бакалавр проворно шагал к деревянной резиденции ее Величества, что за Летним садом. Над подстриженными липами полоскался навстречу оранжевый штандарт с двуглавым черным орлом.
Миновав мраморных Нептунов и Цирцей, дурные статуи времен петровских, Кривцов вбежал на крутой мост перед дворцом и тут приметил трехстекольную елагинскую карету вполуцуг, на огромных желтых колесах.
– Сударь, сударь, постойте, – пустился за каретой бакалавр.
Елагин в придворной шляпе с пышным плюмажем строго посмотрел сквозь каретное стекло и дернул шелковый шнур к вознице. Кони с белыми метинами во лбах осели на желтое дышло.
– Где изволил, ветреник, пропадать? – отпер Елагин тяжелую дверцу. – Влезай-ка.
Кривцов прыгнул на высокую подножку, забрался в карету. Он запыхался от бега.
– Ах, сударь, Калиостр в столице.
– Вот удивил. Я, батюшка, о том давно ведаю. Затем и тебя ищу, чтобы ты письмо кавалеру Калиостру отнес.
– Письмо? – передохнул Кривцов.
Желтые колеса гулко загремели по мостовой. Бревна деревянных настилов подымались кое-где, как серые пальцы.
На Невской прошпективе тесно пошли за каретными стеклами низкие дома – белые, желтые, розовые. Меж ними выбегали зеленые лужайки, тянулись заборы.
Блеснул круглый циферблат над магазином часовщика, посмотрел в карету турка в шальварах и с чубуком, намалеванный на вывеске табачника, мелькнула зеленая вывеска французского кондитера, черная ботфорта сапожника, золоченый крендель над булочной.
Под молодыми липками, стриженными в зеленые шапки, по деревянным мосткам, обливаясь то светом, то тенью, снуют пешеходы. Рослый гусар в доломане песочного цвета, опираясь на кривую саблю, смотрит на эстампы в аглицком магазине. Две дворянки в летних фишбейнах проплыли, как розоватое облако. Соломенные шляпки подобны корзинкам с цветами.
– Слушай, мой друг... – Елагин поскреб ногтями подбородок. Его старческое, тонкое лицо было сегодня усталым. Глаза печально и горячо замерцали под седыми бровями:
– Только и разговору во Дворце, что Калиостр... Обманщик-де, плут.
Кривцов повозился на сиденье, взглянул на строгий профиль старика, на седую буклю, которая развилась у впалой щеки.
– Помолчи, – сказал канцлер, хотя Кривцов молчал и так. – Сама Augustissima [Августейшая, императрица (лат.)] говорит мне севодни: «Ваши масоны, мой добрый Елагин, имеют особливый аппетит к мистическим бредням, как бы сей знаменитый обманщик Калиостр не стал водить вас за нос...» Тако рассуждая, все за обман почесть можно. А между тем, неопровержимо отнюдь, что Калиостр, знаменитый филозофус и доктор, в столицах Европы многих смертельно болящих исцелял, многим судьбы предсказывал, являл видения мертвых. И повсюду разливал золото, подобно воде, хотя и оставался сам бедным.
– Бедным? – Кривцов кашлянул. – А у Николая Фламеля прямо сказано: имеющий камень философский да останется бедняком, источая золото.
– Знаю сие. – Елагин потер лоб сухощавой горстью. – И не токмо сии признаки означены. Получено мною достоверное известие, что граф Феникс...
Канцлер наклонился к секретарю. Глаза у обоих блеснули. Старик прошептал:
– Что сам граф Феникс – великий Кофта египетских масонских лож, розенкрейцер, высоко посвященный... Уразумел?
– Да.
– Слушай же: вскоре будет собрание нашей ложи. Граф Феникс должен показать там несумненные знаки тайной магии. И тогда, быть может, тута, в северной Варварии, свершится то, о чем мечтал ты, мой бедный студиозус, бьющий реторты и обжигающий пальцы. О чем, впрочем, мечтаю и я.
– Великий мастер, вы говорите о философском камне? – спросил Кривцов, обнажая голову.
– О нем, мой друг. Для сего Калиостр и прибыл в столицу. Аминь.
Гофмейстер и секретарь умолкли.
Карета обогнала роту гренадер в зеленых мундирах и белых гамашах. Солнце плещется на медных орлах гренадерок.
– А ежели отыщем мы камень мудрости и соделаем чудесное золото, тогда что? – прошептал Кривцов, любопытствуя.
– Тогда будем искать квадратуру круга, сиречь perpetuum mobile, – покойно ответил канцлер.
– А после того?
– А после, победив первого врага человечества – нищету, будем побеждать и последнего – смерть. Тогда будем искать путь к гомункулусу.
– Все искать, искать, – вздохнул Кривцов.
– Да, все искать, понеже рыцари Креста и Розы, суть искатели истины, исследователи принципов божественного строения... Боже, Великий Архитектор, Ты, раздающий чашу радости всей вселенной, помоги нам, кавалерам Твоим, в державу Екатерины Второй учредить в Империи вечное пребывание Розы и Креста.
Старый гофмейстер перекрестился. Редкие слезы стекли в уголки запалых губ, загорелись солнечными огоньками в кружевах на груди. Кривцов взволнованно потеребил треуголку. Он смотрел вдаль. Синие глаза бакалавра полны были слез.
А Елагин уже улыбался. Букли распушились в белый дым. Почему-то на взъерошенной брови дрожит огонек слезы. Глаза блистают весело, ласково:
– А ежели наша затейка окажется забавой обманщика, – ну что ж, пусть посмеются счастливые потомки над мечтательным стариком и над молодым студиозусом с закруженной головой... Стой, кажись, и Гороховая... Тут тебе выходить... Сие письмо передай графу Фениксу в собственные руки.
КАВАЛЕР КОШАЧЬЯ ГОЛОВА
Первую песенку, зардевшись, спеть.
Поговорка
У Дворянской гостиницы, каменного двухэтажного дома, стоит дормез, красные колеса облеплены глиной. У дормеза толпятся зеваки.
Переходя немощеную улицу, Кривцов потянул из грудного кармана камзола таинственное письмо. Серый конверт с сургучовой – гербом – печатью надписан неведомыми значками, по-гречески и по-еврейски, – точно куриные лапки исходили его вкривь и вкось.
На дворе, у железных крылец, тоже толпятся зеваки.
– А может, про него газетиры все врут, – хмуро говорил тощий рябой человек в коричневом кафтане и обтертой треуголке на самой макушке, по виду сенатский канцелярист. – Дурак он, чтобы червонцы раскидывать. Полагаю, фальшивую монету делает. Много нынче мошенников развелось. Будь я губернатором, я фигуру такую и вовсе б в столицу не допустил... Больных исцеляет, золото раздает... Враки-с.
– Враки – не враки, а растворяй ворота, граф испанский, – посунулся из толпы старичок в поштопанном кафтане, морщинистая мордочка точно изжевана.
У крылец теснились столичные канцеляристы, купеческие писцы, нищие с гноящимися глазами, провинциальный дворянин в старомодных брызжах веером на обе стороны груди, армейский офицер на костылях. "Какова же слава у Калиостра, – подумал Кривцов. – Кого только нет. Ровно у архиерея на пасхальном приеме". И тотчас представил себе Калиостро высоким старцем в светлых одеждах, струящихся с плеч, – во образе пророка библейского, подобного тому, какого видел на гравюрном листе Рембрандия – славного мастера...
А дверь внезапно распахнулась вовнутрь, бакалавр потерял от толчка равновесие и, устремясь головою вперед, влетел в прихожую графа.
На двор выглянул носатый слуга в чудной ливрее: пелерина зеленая, полы желтые, как у канатного плясуна. Повел на толпу длинным носом, и почудилось всем, что самый кончик его шевельнулся.
– Прочь, графа нет, прочь, – гортанно крикнул слуга. Звучно защелкнулся ключ.
Бакалавр упал так сильно в угол прихожей, что набил шишку на лбу, а бланжевые чулки полопались на коленках. Он встал, одернул кафтан, огляделся: деревянная лесенка ведет из прихожей на антресоли.
Опираясь на перила, стоит там коренастый человек без парика, в нечистой голландской рубахе, засученной до локтей. На его полосатом камзоле, измятом по брюху в мягкие складки, мигают пуговки из стекляруса.
У коренастого человека – широкий нос, кошачьи раздутые ноздри, двойной подбородок, и торчат черным вихрем волосы вокруг лысины, похожей на тонзурку патера, выбритую на самой макушке.
"Точь-в-точь плешивая кошка", – подумал Кривцов.
Кавалер с кошачьей головой визгливо ругался по-итальянски. Бакалавр заметил теперь, что носатый слуга в желто-зеленой ливрее и другой слуга, неуклюжий горбун в сером фраке с заношенной грудью, волокут по ступенькам на антресоли кожаный тяжелый сундук, обитый обручами.
Кавалер Кошка вдруг выкатил рачьи глаза на Кривцова – блеснули черные огни, кавалер визгнул.
– Вот он!
Тяжелый чемодан загрохотал вниз. Внутри зазвенели пружины, откинулась крышка...
И увидел Кривцов, что в сундуке, сложив руки крестом, лежит бледная прекрасная госпожа в белых одеждах.
Бакалавр, ужасаясь, попятился.
У покойницы дрогнули вдруг ресницы, разомкнулись алые губы, совершеннее которых не видал Кривцов даже у Мадонн италийских, и мертвая госпожа стала медленно подыматься из своего гроба, подобно новой Афродите, рождаемой не из пены морской, а из дорожного сундука.
– О, mіо carissimo ] О, мой дражайший (ит.)[, – сказала она чисто и звучно, протягивая бакалавру руки.
Но тут кто-то сбил Кривцова с ног. Не красавица, а обезьянья морда горбатого слуги склонилась над ним, слуга в птичьей ливрее вцепился Кривцову в затылок.
Бакалавр отбивался ногами, как молодой конь. Он колотил слуг по головам, – пудра разлеталась белой пылью. Он вскочил на ноги, он крикнул голосом, не менее трагическим, чем голоса вестников во французских трагедиях, и потряс над головой помятым конвертом, сыплющим искрошенный сургуч:
– От Великого Розенкрейцера Верховного Мастера Лож Российских – Великому Кофте Египетских Лож Графу Фениксу.
И тогда в белом тумане пудры послышался женский голос мягкий, грудной:
– Джузуппе, Боже мой, тут драка.
Бакалавру показалось, что говорит госпожа из дорожного сундука, но теперь голос ее был теплее и не такой звучный.
Белый дым пудры рассеялся. Кривцов, застыдясь, оправил изорванное жабо. Слуга в сером фраке дышал по-собачьи, а носатый слуга ливреей смахивал пот.
Дорожный сундук стоит у лестницы. Крышка закрыта, а госпожа из сундука поднялась на антресоли, она смотрит из-за спины кавалера Кошачья голова.
Она кутается в беличью шубку, крытую голубым гарнитуром. Госпоже холодно. Глаза мерцают, как влажные звезды.
Кавалер Кошка топнул ногой и сбежал по ступенькам, подняв над головой руки, точно умоляя о пощаде.
– Ах, signore, несчастное приключение! Мною приказано никого не пускать, я думал, вы докучливый проситель, москов, и вот...
Кавалер щелкнул короткими пухлыми пальцами, повернулся на красных каблуках, от гневного крика затряслись на жирных икрах желтые чулки с красными запятыми:
– Жако, Жульен, табакерку, шпагу, парик, лучший кафтан – фрамбуаз!..
А Кривцов смотрел на госпожу в голубой шубке. "Или мнится мне, или от бессонных ночей дурость напала, – проносилось в его голове. Где же это видано, чтобы таких прекрасных Мадонн возили в сундуках, ровно дорожную кладь..."
– Подайте ваше письмо.
Бакалавр сунул кому-то конверт.
– Феличиани, тебе тут нечего делать – уйди.
Госпожа пугливо запахнула шубку, но влажные звезды еще изумленно бродили по лицу бакалавра, по синему кафтану и бланжевым, наморщенным чулкам.
Кривцов, покраснев от смущения, нагнулся, чтобы подтянуть эти проклятые чулки.
А когда поднял голову, прекрасной госпожи не было на антресолях. Стоял перед ним граф Феникс в натопорщенном французском кафтане, неторопливо читал канцелярское письмо. На коротком мизинце дрожат оранжевые огни в гранях бриллиантового перстня.
"Неужто сей плешивый кавалер – великий маг Калиостро, я почел бы его за барского парикмахера", – рассматривал Кривцов багровое, точно опаленное, лицо мага. Черные смолистые брови внимательно двигались, тяжелые веки были опущены. Двойной подбородок надавил нечистые кружева шарфа.
Граф пошуршал листом, верхняя припухлая губа заежилась от усмешки. Крылья носа раздулись, граф Феникс сипло вздохнул и вдруг поднял морщинистые веки.







