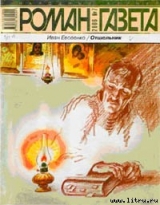
Текст книги "Отшельник"
Автор книги: Иван Евсеенко
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 20 страниц)
– Что? – насторожился тот, боясь, как бы отец не сказал сейчас каких-нибудь таких слов, после которых об училище и мечтать будет нельзя.
Но отец произнес слова совсем иные:
– Если ты хочешь быть не учителем, врачом или агрономом, чего бы мы с матерью очень желали, а непременно военным, то должен знать, что ты присягаешь, даешь клятву не только честно и смело защищать Отечество, но и первым умереть за него. Без этого знания и без этой клятвы офицера да еще десантника из тебя не получится.
Никогда прежде отец так не говорил с Андреем. До этого дня Андрей был для него все-таки еще мальчишкой, юношей, с которым можно беседовать снисходительно, мягко, учитывая шестнадцатилетний его неокрепший возраст, но сегодня отец признал в Андрее мужчину, будущего воина и защитника, поэтому и заговорил с ним как с мужчиной, на равных, без всякого снисхождения.
Андрей хотел было тут же ответить отцу утвердительно, мол, он все понимает и на все согласен (не маленький уже), но отец прервал юношескую его горячность:
– Не торопись! Подумай!
Больше они с отцом никогда к этому разговору не возвращались (а от матери так и вовсе утаили его), но до конца всю справедливость отцовских тяжелых предупредительных слов Андрей понял лишь на войне, когда увидел первых убитых, услышал крики и стоны раненых и сам представил себя на их месте. От присяги своей и клятвы он не отрекся, но лишь тогда понял, что значат они для солдата и офицера, которые призваны и обязаны защищать всех своих родных: отца, мать, своих жен, детей, возлюбленных, свои Кувшинки, Волошки, Старые и Новые Гуты от одного края державы и до другого. Оборонять и безропотно умереть за них. И, кажется, именно с этого дня Андрея и стали звать в полку Цезарем.
Слезы высохли у Андрея сами собой от ветра и редких, с трудом пробивающихся сквозь занавесь туч лучей солнца. Он развернулся и пошел к дому, почему-то стараясь попадать в свои глубоко вдавленные в землю следы среди зарослей полыни и нехворощи.
В повети Андрей опять выдернул из колоды топор, потом отыскал под верстаком в плотницком ящике отца гвоздодер-лапу и с какой-то необъяснимой яростью стал отрывать на окнах дома доски.
Дом сразу ожил, посветлел, словно открыл после долгой, почти предсмертной болезни глаза. Почувствовав, что смерть на этот раз еще миновала его, он с удивлением посмотрел на Андрея (признавая и не признавая бывшего своего хозяина) освобожденными от пелены глазами-окнами и поманил к двери, словно говоря: заходи, коли так, коли вернулся, будем знакомиться заново, будем жить дальше. Пререкаться с домом Андрей не решился: ведь с отцом-матерью он никогда здесь не пререкался. А дом теперь для него и отец, и мать, и сестра Танечка, и дед Матвей, и бабка Ульяна, и все другие далекие предки до седьмого-восьмого колена и даже, может быть, предавшие Андрея жена и дочь. Он вошел в дом с душою чистой и ясной и поразился, каким же ясным, незамутненным светом встречает он его, словно в благодарность за исцеление. Когда Андрей входил сюда полтора суток тому назад, утомленный и измученный дорогой, дом был совсем не таким, хмурым и темным, почти умершим, а теперь – такой ясный и светлый – он ожил и приглашает оживать Андрея, вступать в отцовское, дедовское и прадедовское наследство.
И вдруг Андрею показалось, что он в доме не один, что кто-то пристально и внимательно наблюдает за ним, должно быть, тайком проникнув сюда, пока Андрей был возле реки. Он напряженно и обеспокоенно заоглядывался по сторонам, сразу вспомнив (вначале подспудно, одним только изболевшимся телом) все прежние свои боевые вылазки, когда надо было быть предельно осторожным. Но долго Андрей ничего опасного для себя не находил: в доме было тихо и пустынно; все предметы и вещи за долгие годы уныло-ночного существования отвыкли и друг от друга, и тем более от человека, разъединились. Андрей стал обследовать их взглядом, начиная от лежанки и заканчивая старомодным одностворчатым шифоньером в углу, приручать к себе и самому приручаться к ним. Но вещи все-таки были неодушевленными, безмолвными, а за Андреем следил кто-то живой и говорящий, и не с пола, не с дивана или лежанки, а откуда-то гораздо выше, сверху: взгляд был наддомный и горний. Андрей, идя навстречу этому взгляду, оторвал глаза от пола, от лежанки, подоконников и окон, вскинул его как можно выше – и все понял. В красном углу, по-деревенски бережно и строго обрамленные вышитыми рушниками, висели три иконы. Посередине Иисус Христос с поднятыми для благословения перстами, а по сторонам Божья Матерь с Младенцем и Николай Угодник. Это были их родовые намоленные в веках иконы. Но никогда еще Андрей не видел этих икон висящими так вот в триединстве на узаконенном своем месте в красном углу. Никогда не взирали и они на него с этого крестовоздвиженного места. Сколько помнил Андрей по детству, иконы всегда таились в темном чулане-каморе, и не просто так, на виду, а еще и запрятанные в старинной опоясанной по всем четырем углам латунными накладками скрыне. Унесены они были туда не по злому умыслу или по небрежению, а по крайней необходимости, по приказу высокого партийного начальства. Отец ведь состоял в членах партии (вначале ВКП(б), а потом КПСС) еще с довоенного времени, с последнего курса техникума, и ему непозволительно было держать в доме иконы. Партийное начальство следило за этим зорко. Часто наезжая к отцу и в те годы, когда он был председателем колхоза, и в те, когда ушел в директора школы, оно строго указывало ему на висящие в красном углу иконы как на самое тяжелое партийное преступление. Отец долго отбивался от указаний райкомовского начальства, мол, иконы эти не его, а материны. Она же человек верующий, богомольный, и он силой не может заставить ее отречься от веры. Но в конце концов отец вынужден был сдаться. Времена пошли совсем тяжелые, бедственные, и дедовские-прадедовские иконы в доме могли стоить ему не только партийного билета, должности председателя колхоза и директора школы, а и много больше, вплоть до самой жизни. Бабка Ульяна отца поняла, согласилась спрятать иконы до поры до времени в скрыне, оставив себе лишь малюсенькую, величиной всего в ладонь, малеванную на темной дощечке, которую таила на кухне за рамкою с фотографиями. Нелегко было бабке Ульяне привыкать к этому надруганию над христианской православной верой, ее законами и обычаями, и особенно в те дни и часы, когда в дом заходили подружки-товарки и, не найдя в красном углу ни единого образа, чтоб помолиться на него, переступив порог дома, осуждающе, с укоризной качали головами. Бабка плакала и отвечала, оправдывая и себя, и сына раз и навсегда заученными словами: «Не в нашей воле». Старушки постепенно вошли в ее положение и стали прилежно молиться на рамку с фотографиями, то ли зная, а может, и не зная, что за ней запрятана икона Божьей Матери – хранительницы очага.
Бабка Ульяна была в вере крепкой и непреклонной, гонения на иконы переживала стойко, без особых стенаний. Но когда погибла Танечка, она не выдержала, сказала при гробе ее не столько в укор сыну и невестке, сколько самой себе: «Вынесли иконы из дома, вот беда и пожаловала». Одна была отрада бабке Ульяне, что Танечка умерла крещеной, и ангельская ее душа не останется бесприютной. Крещеным был и Андрей. Тут уж бабка ни в чем не послушалась отца, тайком окрестила внуков, правда, не в Кувшинках (когда родился Андрей, церковь уже была закрыта, и служба в ней не правилась), а в дальнем украинском порубежном селе Елино, где у нее был знакомый священник, отец Федот.
Но пока Андрей воевал, с отцом и матерью что-то произошло, случилось, раз они вернули иконы в дом и сами вернулись к вере, презрев все запреты и повеления начальства. Им можно только позавидовать. А вот что же теперь делать Андрею с этими иконами, взывающими к молитве. Он ведь ни единой молитвы не знает, не запомнил с детства, хотя бабка Ульяна и пробовала его обучать. А как было бы хорошо сейчас помолиться и обрести в душе полный покой и утешение. Впервые в своей жизни Андрей пожалел, что он человек неверующий, темный. Если бы он верил и молился, как его приучала бабка Ульяна, то ему бы, наверное, легче жилось, а теперь вот и легче умиралось бы в родительском изуродованном невидимой смертью доме.
Несколько минут Андрей стоял в тяжелом молчании посреди горницы, не в силах понять, о чем же спрашивают его эти святые лики, перед которыми молилось столько поколений его предков, и уж совсем не зная, что же и как он должен им отвечать. Чем отвечать?! Иконы эти, эти лики, тоже принявшие на себя запредельные дозы радиации, давно уже мертвы и теперь взирают на него как бы из иного, запредельного мира. Взирают и требуют воскрешения, ничуть не мысля о том, что не в его это слабых силах, что он и сам-то себя воскресить не может.
Андрей впал было в уныние и опять едва не заплакал, но потом (и как вовремя, как своечасно!) перевел взгляд на залитые солнцем окна, на открывшиеся ему в их проеме палисадник, двор, на родную улицу и дальше через ее неширокое пространство на соседние дома, налесную чащобу за ними и пришел в себя, опамятовался. Все здесь, конечно, мертвое, неживое: и дома, и улица, и сосновые дебри, и даже сама земля, но он-то пока жив, и живо солнце. И стало быть, им надо объединиться, хотя бы на время, на отведенный Андрею срок существования под его жаркими лучами. Сколь краток или сколь длинен будет этот срок, Андрею неведомо, но надо прожить его честно, без всяких жалоб и стенаний. Тут сетовать не на кого – сам выбрал себе такую судьбу. И многие, наверное, могли бы позавидовать Андрею: вернулся после стольких странствий в родительский дом и в этом доме под охраной древних родовых икон (несмотря ни на что живых и животворящих) ему посчастливится умереть. Он давно готов к смерти, но пока жив, то действительно надо жить в радости, пусть и смиренной, пусть и недолгой, но в радости. Тем более, что здесь, в заповедных лесах (и нынче заповедных вдвое и втрое), никто, ни единый человек не сможет, не посмеет нарушить ее. А раз так, то Андрею прежде всего надо привести в порядок столько лет пребывающий в запустении дом: пошире распахнуть в нем окна, чтоб дом как следует проветрился, напитался весенним солнцем, запахами хвойного леса, бескрайне разлившейся в половодье реки и, главное, ни с чем не сравнимыми запахами пробуждающейся к жизни земли.
Андрей так и сделал: одно за другим распахнул окна, легко и радостно взвизгнувшие в петлях, потом распахнул и все, какие ни есть, двери, чтоб дом хорошенько протянуло сквозняком (мать всегда так делала во время первой весенней уборки), унесло из него застоявшийся за зиму подвально-печной дух. А пока горница, кухня и сени будут наполняться свежим воздухом, Андрей решил сходить к колодцу по воду, чтобы после хорошенько здесь все вымыть, выскоблить, провести, говоря военным языком, дезактивацию и дегазацию, которые вряд ли в доме проводились, поскольку он оказался нежилым, заброшенным и наглухо забитым по всем окнам и дверям еще до чернобыльского взрыва.
Андрей подхватил в сенях с ослона два пустых ведра и уже шагнул было за порог, чтоб направиться через три подворья к дому деда Кузьмы, где стоял колодец с высоким легким в подъеме журавлем и где они всегда брали питьевую воду, но вдруг осекся, вспомнил, что было это лишь в пору Андреева детства, а в последние годы отец и мать носили воду из недавно отрытого в саду домашнего их колодца, и вовсе не потому, что ходить туда было ближе и сподручней, а потому, что вода там оказалась много лучше, чем в старом Кузьмином срубе.
Колодец в саду у них был и прежде. Дедовский еще, а может, и прадедовский, очень глубокий и темный, рубленный из сосновых обрезных плах. Над ним тоже возвышался журавель на дубовой ноге-подсохе. Стремительный и ровный, как стрела, свод с хитро устроенным на дальнем конце противовесом из камня-песковика поднимался почти вровень с верхушками яблонь и груш, и у маленького Андрея не всегда хватало сил, чтоб опустить его за скользкий отполированный руками до янтарного блеска крюк (бабка Ульяна звала его «круком») в пугающе-темный, казалось, бездонный зев колодца. Рядом со срубом стояло долбленое корыто-колода для водопоя скота и птицы, возвышалась лавочка, на которую удобно было ставить ведра. Еще на памяти Андрея колодец был по-речному полноводным и неодолимо крепким в срубе. Но потом он как-то враз стал мелеть, усыхать, вода уходила все ниже и ниже, заиливалась, обнажая покрытые зеленым болотным мхом и во многих местах напрочь подгнившие нижние венцы сруба. Всей семьей они несколько раз в году колодец чистили. Отец спускался на самое его дно по шатким связанным воедино лестницам, пробовал колодец подкапывать, менять подгнившие плахи, но ничего не помогало – колодец высыхал и рушился. Видимо, где-то под землей сменился ток воды, и родничок, столько лет питавший колодец, иссяк, переметнулся в иное место. Волей-неволей пришлось им ходить по воду в Кузьмин колодец, а это и далеко, и не по силам. Принести за день десять-двенадцать ведер для питья и прочих необходимых домашних дел: стирки, утренней и вечерней помывки, уборки в доме и сенях – ничего, конечно, не стоило, было необременительным и привычным в крестьянской жизни, но когда летом, в самую его жаркую, суховейную пору подоспеет время поливать сад, все тридцать пять деревьев да бессчетное количество кустов черной и красной смородины, крыжовника, малины, тут уж на улицу в Кузьмин колодец не находишься, никаких сил и никакой выдержки не хватит.
Несколько лет отец с матерью терпели это неудобство, боролись за каждое ведро воды, а потом кое-как собрались с деньгами и закупили в Брянске на железобетонном заводе восемь полутораметровых колец для нового колодца.
Андрей тогда уже заканчивал второй курс училища. И вот летом во время его каникул они и принялись с отцом рыть новый этот колодец. Выбирая для него место, отец долго ходил по саду с какой-то рогатулькой в руках, настороженно следил за каждым ее движением, приглядывался и прислушивался к земле, несколько раз ложился даже на нее и замирал, улавливая ток собственной крови, который должен был повторять ток подземных вод. В расчетах своих и приметах отец не ошибся, выбрал место самое удачное и верное: много в стороне от старого колодца, в междурядье вишен и слив, куда уклонилась водяная жила.
Колодцы в их местах (да, наверное, и в любых иных) роют двумя способами. Если где на просторе, на уличном пустыре или обочине да при большом стечении народа, при большой силе, то уступами, проникая все ниже и ниже в недра земли. Сруб или кольца тогда ставят, накатывают уже на пойманный ключик-родничок. Такой колодец можно соорудить за три-четыре дня, самое многое – за неделю. А если копать его в саду или во дворе, где пространство ограниченное и сил – всего два-три человека, то совсем по-другому. Кольцо или начальные венцы деревянного сруба ставят на выбранное место; один копач залезает внутрь его и начинает не спеша рыть, орудуя лопатой с укороченным черенком, а помощник поднимает землю на поверхность в бадье, подвешенной на длинной веревке, которая перекидывается через блок-полистпас в перекрестье трех врытых в землю слег. Сруб или кольца под собственной тяжестью постепенно погружаются в яму, вновь и вновь наращиваются, и так до тех пор, пока в них не появится вода, пока не забьется, не обнаружится на дне колодца подземный водяной ключик. Работа, конечно, долгая, изнурительная, но иного выхода нет: в саду, где выбранное место со всех сторон окружено деревьями и порушить их живые корни никак нельзя, копачам на узеньком пятачке двора между домом, сараями и поветью не развернуться и уступами колодец не вырыть.
Андрей с отцом копали колодец именно этим одиночным, внутренним способом, экономно щадя и оберегая садовую драгоценную землю. Само собой разумеется, что Андрей, как более молодой и выносливый, вооружившись саперной, военных еще времен лопаткой, работал внутри колодца-сруба, а отец снаружи, поднимал землю в бадье и после отвозил ее на двухколесной тачке к старому колодцу, который решено было засыпать.
Первые полтора-два метра они прошли довольно легко, всего за день, но потом начался глиняный пласт, и Андрей пробивался сквозь него целую неделю, иногда теряя по молодости всякое терпение. Отец необидно посмеивался над его горячностью, успокаивал, передавал в земляную преисподнюю частые гостинцы от матери: то кружку молока, то квасу, а то и горячий только что спеченный в печи перед полымем пирожок-блинчик.
Вообще работать Андрею с отцом всегда очень нравилось. Была в нем какая-то редкая крестьянская основательность: любую работу отец делал неспешно, несуетно, загодя все хорошенько взвесив и обдумав, чтоб после не переиначивать, не бросать на полдороге, как не раз случалось то у многих иных излишне торопливых и самонадеянных мужиков. С годами, уже на войне, эта черта отцовского характера вдруг проявилась, дала о себе знать и в Андрее. Он тоже любил все делать расчетливо, без заполошной суеты и надрыва, чему учил и своих подчиненных, всегда поминая добрым словом отца. Начальству же такая медлительность Андрея не нравилась: начальству хотелось побед скорых и громких, а какой ценой – это неважно, победителей не судят. Один лишь Рохлин во всем поддерживал Андрея, ценил его жесткую сосредоточенность при подготовке к операциям и, тем более, во время операций, когда видел, что Андрей выходит из боя с меньшими потерями, чем другие командиры взводов и рот, что победа ему далась меньшей кровью. Победителей Рохлин судил и иногда очень строго, тысячу раз повторяя в строю и вне строя, что главное на войне – солдатская жизнь.
Как жаль, что нет сейчас в живых ни отца, ни Рохлина, они бы во всем поняли Андрея и за все простили бы его. Понял бы и простил и еще один человек – Саша. И мало того, что понял бы (а уж простил бы точно), так еще и ушел бы вместе с Андреем в отшельничество. Ведь, похоже, он раньше Андрея догадался, что есть на самом деле человек и чего он на самом деле стоит. Никому Саша не сказал о своей догадке ни слова, даже Андрею – лучшему своему другу, унес ее с собой в могилу. Но когда Саша брал в руки гитару, то без всяких слов было видно, о чем думает этот русоволосый молчаливый лейтенант.
Добрался до воды Андрей только к концу четвертой недели работы, к концу своих всегда таких скоротечных курсантских каникул. (На этот раз они показались ему куда как длинными, прямо-таки нескончаемыми.) Вначале пошел влажный крупнозернистый песок, потом тягучий (лопату из него не вытащишь) ил. С ним Андрею пришлось помучиться ничуть не меньше, чем с сухой поверхностной глиной. Но зато как он был вознагражден, когда вдруг (и наконец!) пробился из глубины земли навстречу Андрею и навстречу едва мерцающему где-то в вышине пятнышку света солнца родниковый ломуче-холодный ключик. Не дожидаясь, пока отец подаст в бадье кружку, Андрей набрал воды в горсть и вдоволь и всласть испил ее, действительно ломуче-холодной, обжигающей все внутри, но какой мягкой и живительной. (Сколько раз после, на войне, в афганских песках и горах, когда вода была на исходе, а то и не было ее вовсе, Андрей вспоминал это мгновение, сколько раз грезилось ему и воочию слышалось клокотание подземного, настоянного на брянских травах, хвойных корнях и рудах родничка.)
Услышав победные крики Андрея, к колодцу поспешили и отец, и мать, пришел, опираясь на посошок, старый дед Кузьма, многие другие соседи, – и все, испробовав воды, в один голос порешили, что она самая вкусная и напойная в округе и, может, даже целительная. На что уж дед Кузьма был человек староверный, осторожный в похвалах и восторгах, а и тот, ни словом не обмолвившись, не загордившись своим колодцем (а ожидать этого можно было), водой остался премного доволен и даже пообещал отцу:
– На чай буду брать.
– Берите! – охотно согласился тот, зная, что в устах деда Кузьмы это самая лучшая похвала воде.
В те годы у них в Кувшинках воду для чая, для самовара брали только из реки, чистой еще и не замутненной отходами крахмальных заводов и животноводческих комплексов, которых по глупости понастроили в верховьях вдоль ее обрывистых берегов. Речная вода была прозрачно-голубой, мягкой, не давала в самоваре никакой накипи; без всякой заварки, хоть покупной, магазинной – краснодарского и индийского чаю, хоть своей, собранной из лесных и луговых трав – душицы, зверобоя, чабреца, кружила она голову и сердце, бодрила истомившееся от долгих трудов крестьянское тело. Одно было плохо: ходить к реке по воду все ж таки далековато – кому через свои летом заполоненные рожью и картошкой, а зимой занесенные снегом огороды, а кому так и через чужие, соседские. И вот теперь появился колодец, где вода ничуть не хуже (а может, и лучше) речной, и ходить к нему всего ничего, в сад к Ивану Матвеевичу, где специально для этого устроена калитка.
Пока соседи, передавая из рук в руки кружку, пробовали воду, определяли ее вкус и целебность, Андрей выложил дно колодца специально заготовленной щебенкой и, словно какой-то Посейдон – царь морских и подземных вод, полез на поверхность земли. Его встретили действительно как Посейдона-победителя, налили и воды, и за обедом, который тут же устроила мать в саду, возле нового колодца, рюмку домашней хлебной водки. Она была не лишней, потому что за месяц пребывания в подземном царстве Андрей порядком исхолодал, намерзся, и мать очень опасалась, как бы он не заболел перед самым отъездом на учебу. Но, слава Богу, все обошлось. Никакая болезнь Андрея не тронула, может, и вправду от целебной колодезной воды, а может, от хлебной водки, тоже лекарства известного, много раз в крестьянской жизни испытанного.
После этого неожиданного и тем особо желанного праздника Андрей с отцом еще несколько дней трудились возле колодца. Перво-наперво установили журавель. Соседи, правда (в основном женщины, большие охотницы до всяких нововведений), советовали отцу соорудить входивший тогда повсеместно в колодезную моду коловорот с притороченным к нему на длинной цепи или тросике ведром. Но отец от нововведения отказался, послушался не женщин, а старорежимного деда Кузьму, который рассудил все куда как верно. Коловорот удобен и заманчив на общественном, уличном колодце. Каждое приписанное к нему подворье берет за день воды немного: можно и потешиться, покрутить за блескучую ручку, медленно, внатяг поднимая на поверхность ведро. А в саду для полива деревьев и водопоя всей домашней живности воды надо черпать не один десяток ведер: за ручку не накрутишься, не навертишься, тут сподручней проверенный веками журавель. Поднимать им воду и ловчее и легче – противовес из камня-песковика помогает, только успевай перебирать на крюке руки.
Журавель они установили сообща, всем соседским подворным миром. Получился он на славу: подсоха и свод дубовые, крюк осиновый, гладкоствольный, хорошо держащий влагу, шкворень, которым подсоха и свод сращивались воедино, специально, по размеру кованный отцом в дедовской кузнице. От старого журавля в дело пошел лишь камень-песковик да старинной кузнечной работы (может, дед Матвей ковал, а может, еще и прадед Никанор) крюк-журавлик, за который цеплялось ведро. Был он сделан действительно в форме журавлиной запрокинутой высоко, почти за спину головки. Казалось, еще немного, еще мгновение – и журавлик этот вскрикнет, запоет, закурлычет, испив из ведерка живительной ключевой воды, и поднимется на крыло. Отец сразу признал, что выковать он подобный журавлик не сможет, не способен на такое искусство, поскольку дедовское умение перенял лишь наполовину, слишком рано уйдя из дому на агрономическое учение. Отца за это неумение никто не упрекал, наоборот, все хвалили, что он сознался в нем, что почитает дедовское мастерство настоящих кузнецов-искусников. Сообща было решено установить на крюке старинный журавлик, который простоит еще хоть век, хоть целых два. На нем был заменен лишь хитроумный болтик-чека, не позволявший ведру соскальзывать с журавлиной шейки. На это отцовского мастерства хватало, и он остался вполне доволен своей работой. Была возле колодца установлена и новая водопойная колода-корыто, которую отец тоже заготовил, выдолбил из дубового бревна загодя. Когда вода в каменном срубе отстоялась и наполнилась почти на два кольца, Андрей начерпал ее в колоду по самый венчик, и мать выпустила из сарая корову Зорьку, только-только вернувшуюся с пастбища. Зорька, припав к воде запыленными, иссушенными на лесном выгоне губами, долго и неотрывно пила ее, а потом вдруг совсем по-ребячьи начала отфыркиваться, мочить вислоухую морду в прозрачной глубине колоды по самые глаза, словно показывая тем самым, как ей нравится вода из нового каменного колодца. Вслед за Зорькой к колодцу потянулись гуси, утки, безбоязненно вспрыгнула на ее борта куриная стайка во главе с отважным и голосистым петухом Форпостом (отец, большой выдумщик на всякие клички, так прозвал его за верность в сторожевой куриной службе). Гуси и утки, испробовав воды, деликатно отошли в сторону и стали там обсуждать ее, выдавая свои восторги гоготанием и кряканьем, а Форпост вдруг запрокинул далеко за спину краснознаменный гребень и огласил всю округу победным торжественным криком. На этот крик-торжество выскочил из дому последний обитатель их подворья, вальяжный кот Чародей (тоже отцовская придумка), на минуту застыл у садовой изгороди: мол, что случилось, и если случилось, то почему без меня, – но тут же во всем разобрался, определился и неспешно подошел к колоде. Потеснив (и довольно-таки смело) на ее кромке Форпоста, Чародей тронул воду для пробы лапой, не слишком ли холодна и опасна для здоровья (тот еще Чародей!), и лишь после этого, во всем угождая хозяевам, отведал ее на вкус с такой жаждой и таким прилежанием, как будто колода всклень была налита парным коровьим молоком.
Само собой разумеется, что тут же был водружен и раздут самовар и снова приглашены в дом соседи. Чаепитием все остались очень довольны, даже привередливый дед Кузьма заказывал у матери чашку за чашкой и воду без устали хвалил, определяя, что она несомненно вкусней и полезней речной. Может и так, а может, просто на редкость удачной оказались заварка и особенно малиновое только накануне сваренное матерью варенье, до которого дед Кузьма был большой охотник.
… И вот теперь Андрей бежит к этому вырытому собственными руками колодцу, и ему кажется, что если не добежит, если не достанет из его подземных глубин хотя бы глоток целительной воды, так тут же упадет замертво на не оттаявшую еще землю, на сухие, обожженные радиацией бурьяны, не выдержав жажды, накопившейся во всем теле, в душе и сердце за долгие годы разлуки.
Андрей ускорил шаг, метнулся с утренней самим же проторенной в бурьянах тропинки в междурядье слив и вишен и вдруг замер – колодца не было. Вместо его каменного сруба сплошной, непроходимой стеной стояла колючая, в человеческий рост и выше трава череда. Не увидел Андрей ни водопойной колоды, ни подведерной лавочки, ни подсохи, ни свода с крюком на одном конце и камнем-песковиком на другом. Можно было подумать, что колодезный журавель, устав стоять в безлюдном, вконец одичавшем саду, однажды поднялся на крыло и улетел в другие края, на север, где пока в миру и согласии живут люди, слышны их голоса и песни, где нет гибельной для человеческого и птичьего существа радиации. Верить этому не хотелось. И Андрей не поверил. Он стал крушить череду солдатскими ботинками, пустыми, звенящими от каждого прикосновения ведрами, наваливался на нее всем телом, безошибочно зная, что не заблудился, не мог заблудиться в родительском саду и в родительском доме – колодец где-то здесь, только притаился, выжидает, а может, и боится, свой ли человек идет к нему. Андрей обозначил себя голосом и даже криком, который невольно вырвался из его уже почти задыхающейся груди. И колодец открылся ему. Со всего разбега, с размаха Андрей вначале натолкнулся на водопойную колоду, а потом и на цементно-каменное кольцо, которое издалека, с тропинки действительно никак нельзя было обнаружить. Мало того, что оно сплошняком заросло чередой, повиликой и диким плющом, так еще и осело, провалилось в землю едва ли не на полметра, словно хотело спрятаться в ее глубинах от всего, что происходило на поверхности. Отыскался и журавель. Он тоже был заполонен до самой макушки свода переплетением разросшихся слив и вишен, в основном дикорастущих, неплодоносных, увит и привязан к земле за камень-песковик вездесущим плющом, до того густым и непролазным, что даже сейчас, в весеннюю безлиственную пору скрывал от человеческого глаза и подсоху, и свод с поржавевшим журавкой и ведром на конце крюка.
Наверное, с полчаса Андрей боролся с нашествием повилики и плюща, которые длинными своими плетями проникли местами глубоко внутрь колодца. Но вот наконец пространство вокруг кольца, водопойной колоды и журавля расширилось, посветлело, и Андрей, захватив крюк рукою, стал опускать его длинными, размашистыми рывками в колодезный зев, радуясь, что застоявшийся свод, хотя и со скрипом и тяжестью, но все же поддается ему, склоняется все ниже и ниже, с треском проламывая густую сливовую и вишневую занавесь.
Но радовался Андрей преждевременно. Колодец был мертв. Вернее, полумертв: вода из него окончательно не ушла, светилась в темноте крошечным болезненным озерцом – но что это была за вода. Когда Андрей достиг озерца крюком и привычно опрокинул ведро набок, то оно не подчинилось его движению и не ушло вглубь, а осталось лежать на поверхности, сплошь затянутой колодезными водорослями, многолетним мхом и подгнившими листьями повилики и плюша. Пришлось Андрею, теперь уже с немалой силой, еще раз и еще опрокидывать ведро, насильственно топить в мутно-тяжелой болотной жиже, хотя, наверное, лучше было бы вынуть его из колодца пустым. Но вот ведро все-таки утонуло и даже увязло на несколько мгновений в песчаном иле. Андрей не без труда сорвал его с места и, широко перебирая на шершаво-сухом крюке руки, потянул наверх, почти не ощущая помощи камня-противовеса. Ведро было еще только на подходе, а Андрей уже понял, что не ошибся в своих догадках: от прежней живительно-прозрачной родниковой воды не осталось и следа, она действительно была мертвой, затхлой и непригодной для питья. Такой водой не утолишь жажды, не вернешь к жизни измученное донельзя тело. Андрей без всякого сожаления выплеснул ее далеко в бурьяны и, подхватив пустые ведра, хотел уже было идти через сад и огороды к реке, чтоб набрать там пусть и мутной еще, паводковой, а все ж таки проточной воды, но в последнее мгновение оглянулся на колодец, на одиноко застывший между одичавших слив и вишен журавль и остался на месте. Нет, все-таки колодец надо возвращать к жизни, чистить от застоявшейся, заплесневелой воды, мха и водорослей, песчаного ила и чистить немедленно, отложив все остальные дела на потом. Без воды Андрею здесь не прожить (к реке не находишься), да и дело тут не столько в самой воде, сколько в колодце, не может он, не должен быть мертвым, пока не мертв еще, жив Андрей. Иначе зачем ему и было сюда возвращаться.








