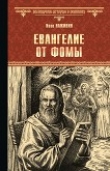Текст книги "Глаголют стяги"
Автор книги: Иван Наживин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц)
V. СТАРОЕ И НОВОЕ
Беси, подтокше, на зло вводять, по сём же насмисаются, ввергше в пропасть смертную…
Было очень раннее утро. Над безбрежной синей пустыней лесов тяжёлым синим валом повисла туча. Из-под тучи, из зелёного в этом месте неба, бешеными, весёлыми порывами летел по цветущей земле душистый весенний ветер, и леса с шумом, как море, волновались. Киев только-только просыпался. Это было скорее большое селение, которое от простого селения отличалось только тем, что в середине его был небольшой деревянный городок, детинец, кремль, крепость, куда при беде прятался старый и малый. Над городскими воротами стояли неуклюжие деревянные башни-вежи. Улички были узки, кривы и чрезвычайно пахучи. Лютые пожары то и дело опустошали городок, и он выстраивался сызнова. Ещё при Олеге весь Киев был на горе – «на Подольи не седяху людье, но на горе» – и караваны из варяг в греки приставали под Боричевым взвозом. Но теперь был заселён уже и Подол, и там, на Торговище, шла уже бойкая торговля, и над Почайной стоял Велес, покровитель не только стад, но и всякого промысла и людей торговых. Но на Подоле же, на урочище, Козарою именуемом, ютилась уже и маленькая церковка первых христиан во имя пророка Илии. Тут же, на Подоле, проживали обыкновенно и заезжие гости новгородские…
Две версты ниже Подола была другая пристань, Угорская, где ладьи приставали прямо у гор. Тут были убиты Олегом Аскольд и Дир. От Угорья шли горами пещеры, в которых скрывалась всякая босота, отстававшая от проходящих караванов. А ещё пониже привольно раскинулось среди своих вишнёвых садов живописное село Берестовое…
Варяжко, один из старших дружинников, оставленный Святославом при сыне его Ярополке, обходил утренним дозором стены городка. Он подошёл уже к Жидовским воротам, – так назывались они потому, что от них тянулась слобода, где жили преимущественно жиды, – как вдруг заметил скачущих от леса в золотой пыли всадников. Он с любопытством посмотрел из-под ладони – солнце слепило – на спеющих к городу неведомых гостей.
– Эй, там!.. – крикнул он воям вниз. – Береги ворота!..
Варяжко был полянин, и своё прозвище получил он за храбрость и вообще за эдакую военную щеголеватость. Невысокого роста, стройный, с золотистыми усами, он был в полном расцвете молодой красоты, и не одно девичье сердце на Руси туманилось думкой о нём. Любила его и дружина: он был прост, прям и весь открыт. Дружина разбивалась всегда на партии, которые спорили за близость к князю, подкапывались одна под другую, старались подставить противникам ножку – Варяжко всегда стоял в стороне от этих свар.
А всадники уже пылили среди лая пёстрых собак Жидовской слободой.
– Отцы наши… – ахнул вдруг кто-то. – А ведь это воевода Свентельд!
– Он и есть… Он!.. Уж не попритчилось ли чего?..
Ещё несколько минут, и гриди тесным кольцом окружили прибывших.
– Откуда вы взялись? А князь?..
– Нету у нас больше Святослава, други… – сказал Свентельд. – Большая беда стряслась над Русью…
И он в коротких словах рассказал, как разбил русь Цимисхий, как, обманув, напустил на них печенегов у порогов, как смертью храбрых пал среди своих воев отважный князь. И великая туга полонила сердца всех, опустились чубатые головы, в глазах загорелся сумрачный огонь, и руки невольно легли на жёсткие и холодные рукояти мечей.
– Что было, того не воротить… – сказал кряжистый, седоусый дружинник Блуд с угрюмыми бровями. – Вперёд теперь глядеть надо… А даром мы этого еллинским лисицам не спустим…
– Да и с печенегами посчитаться придётся…
– Что печенеги? Печенегов кто хошь купить может. Надо главных-то заводчиков достать…
– Беда, князь наш больно ещё молод…
– Молод не молод, а повадки давать им нельзя: «Аще ли ся ввадит волк к овце, – говорили в старину смысленные люди, – так выносит все стадо…»
Князь Ярополк готовился идти, благо погода стояла солнечная, на ловы. Это был цветущий юноша с русыми кудрями, с голубыми мягкими глазами, с румяным лицом, которое только-только опушил первый пушок. Его жена, Оленушка, черница-грекиня, которую Святослав полонил в разбитом его воями монастыре в Болгарии, пристроившись с гребнем к оконцу, пряла. Несмотря на свои молодые годы, вострая грекиня была хитра и пяличному делу, и прядиву, и хозяйством княжого двора без лености правила. Ей помогала состарившаяся уже ключница Ольги, любечанка Малка, с которой некогда слюбился Святослав. Это от Малки имел он младшего Володимира, которого он ещё ребёнком передал новгородцам и который княжил теперь там вместе с уем[1]1
Дядей. (Здесь и далее примеч. авт.)
[Закрыть] своим, Добрыней, братом Малки. Ярополк и Оленушка слюбились накрепко. Да и нельзя было князю не любить это кроткое создание с прелестным белым личиком и огромными сияющими чёрными глазами. Ярополку Оленушка казалась точно праздником каким светлым. Она никогда не требовала от рабынь, чтобы кто из них отрешил от ног её сапоги сафьянные, и говорила о слугах своих с этим своим милым иноземным выговором:
– Кто же я сама, убогая, что предстоят мне такие же человеки, создание Божие? Пусть Бог поручил их нам в рабство, но души их больше наших, может, перед Ним цветут…
Она любила подолгу молиться в особой моленной своей. И даже когда спала она, дорогим собольим одеялом прикрывшись, в ложнице своей, часто шевелились её уста во сне, творя молитву, и вся утроба её подвизалась на славословие Божие. И она считала себя большой грешницей, так как иногда даже на молитве искушал её нечистый: броситься бы скорее к Ярополку своему любимому, обнять бы его накрепко, заласкать всего!.. И потихоньку склоняла кроткая грекиня своего супруга к вере истинной, и незлобивое сердце Ярополка отзывалось на слова её милые. Но соромился он и отца своего сурового, и дружины…
Князь у оконца, в которое рвались солнечные лучи, осматривал одну за другой пернатые стрелы: он был большой любитель доброй снасти охотницкой и понимал в ней толк. Оленушка все пряла, и белые пальчики её проворно и ловко делали своё дело. Ей хотелось плакать: не любила она, когда князь уезжал от неё надолго. И опасность всякая от зверя, и непогодь, и нечистая сила лесная – мало ли что может быть? А пуще всего – женщины, которые представлялись Оленушке злее и опаснее всякого зверя…
Вдруг в сенях внизу послышались шаги и голоса дружинников. Низкая, крепкая, железом окованная дверь отворилась, и молодой, стриженный в кружок отрок в кармазинном кафтане и сафьянных сапогах, отбив князю и княгине поклон, проговорил:
– Дружинники пришли, княже: Свентельд с похода воротился…
– Что такое? – испугался Ярополк. – Или с отцом что?
И, не дожидаясь ответа, Ярополк широкими, молодыми шагами вышел к дружинникам в гридню.
– Свентельд!.. Откуда ты? Что случилось!
– Недоброе, княже, случилось… – отдав поклон, суровым басом своим отвечал тот. – Приказал тебе твой отец долго жить да над нами княжить, а по нём велел тризну добрую по старинному обычаю справить…
Красивое лицо Ярополка побледнело. Он едва успел перехватить рыдание: было бы стыдно плакать пред дружинниками, как баба какая. Но и они потупили глаза, и у них горло точно аркан печенежский перетянул. Святослава многие осуждали за то, что он бросил Киев, мать городов русских, свою дедину, но не могли люди не дивиться отваге этого степного орла, ширявшего под облаками… Уже отцветшая, с едва видными следами былой красоты Малка, убиравшая в кладовую всякую готовизну на зиму, услыхала, проходя передней с кадушкой душистого липового мёда, тяжёлую весть и, невзвидя света, давясь рыданиями, спряталась в подклеть. Давно то было, эта его орлиная любовь к ней, но до сих пор лелеяло память о тех днях её сердце. Сына отнял отец, отца отняла смерть – и вот осталась она на белом свете одна-одинёшенька…
И взволновался сперва княжой двор широкий, а за ним вмале и весь город тревогой: а ну, что теперь, ребята, нашим головушкам будет?.. И зазвонил на весь стольный город колокол вечевой, и со всех концов потянулся, оживлённо переговариваясь, народ киевский на площадь, где стоял великий бог земли полянской Перун с секирой в руке. Пред Перуном, как всегда, дымился неугасимый огонь из плах дубовых. В стороне от него стоял помост деревянный, с которого князья давали людям суд и расправу. Торопливо бежал с любопытными лицами чёрный народ. Шли болгаре заезжие в своих овчинных шапках, жиды в халатах пёстрых, шли рослые голубоглазые шведы, и урмане, и готы из города Висбю, только что прибывшие по торговым делам, и бойкие, зубастые новгородцы, и хмурые древляне из лесов своих, и ляхи щеголеватые и спесивые, и гости хазарские, гости ростовские, гости с Белаозера, из Чернигова, из Полоцка, из Царяграда. Гридни окружили помост, чтобы не теснило людье князя. За ними, ближе к помосту, старые дружинники стали. Немного их уж осталось: большинство сложило головы в болгарском походе да на порогах. Величаво, закинув головы и подняв белые бороды, ни на кого не глядя, прошли расступающейся толпой передние мужи, советники князя, бояре именитые. И предшествуемый отроками в пестроцветных одеждах Ярополк поднялся на помост княжеский, поклонился народу своему полянскому на все четыре стороны и поднял руку. Шум на площади сразу стих.
– Кияне!.. – молодым, неустановившимся голосом громко сказал Ярополк, и, как всегда, румянец от смущения залил его красивое лицо. – Волею богов ваш князь, а мой отец в сече с печенегами сложил свою голову за землю Русскую. Хотите ли меня? Люб ли я вам?
– Хотим… – зашумел народ, хотя мягкость князя и смущала его. – Хотим… Больно люб!..
И, по обычаю дедовскому, все тут же, перед Перуном, поклялись на мечах молодому князю в верности…
Над шумевшей площадью на помосте встал тяжёлый, суровый Свентельд и, опираясь на меч обеими руками, степенно повёл рассказ обо всём, что привелось пережить ему на берегах Дуная светлого, на море синем и в тот роковой день, над шумными порогами. Все внимательно слушали. Тишину нарушало только щебетанье недавно прилетевших ласточек да перелаиванье собак… И, слыша о гибели стольких храбрых воев, застонал Киев, и жирная печаль потекла по земле Русской…
И когда кончил Свентельд, зло зашумел народ киевский на широком торговище. Одни кричали против печенегов, другие против еллинов поганых, кулаками грозились: несмотря на своё поражение, молодая Русь, чувствуя в себе брожение вешних сил, дерзко не опускала очи ни перед кем. И молодой и пригожий князь объявил народу, что сейчас же начнутся приготовления к тризне всенародной по князе, а потом, по обычаю дедовскому, поездьство будет, игры ратные – всем на посмотрение, а Руси на славу, но что по все эти дни в городе должно быть великое бережение: печенеги, может быть, ждут замешательства в делах киевских и захотят помериться опять с Русью силой – так пусть стражи со стен берегут Поле…
– Варяжко, мы все на тебя надеемся… – обратился князь к молодому дружиннику.
– Будь спокоен, княже: дела не упустим…
– А потом, с помощью богов, соберёмся мы ратью на печенегов… – продолжал князь. – И изопьём, как отец наш Святослав, шеломом и Дону, и Волги, и Дунаю…
Молодшая дружина, сверкая мечами, разразилась воинственными криками и зажгла священным воинским огнём сердца старых дружинников – и вокруг Ярополка вырос лес мечей и копий. Торжественно было это мгновение обручения молодого князя молодой Руси, и все в суровой картине этой было деревенски просто, деревенски молодо и сильно… И, расходясь узкими заулками городка, кияне возбуждённо обсуждали события…
Особенное возбуждение царило среди немногих христиан киевских. Если число их и при Святославе прибывало потихоньку, то многие вящие мужи снова отшатнулись от них в старое поганьство, за князем потянули, который хотя новой веры и не теснил, но и не поддавался ей. А о молодом князе Ярополке все согласно сказывали, что он больно бы склонен был принять веру истинную: и бабка Ольга, и молодая, любимая жена Оленушка уже подготовили его достаточно. А за ним, известно, потягнут и все, и так и осияет свет Христов землю Русскую…
И сперва шло у оживлённых христиан все согласно, по любви, а потом, как водится, разгорелись, расспорились, в жесточь вошли: всякому верховодить хотелось и другим дорогу указывать. В особенности крепко схватились около крошечной деревянной пятиглавой церковки пророка Илии, над ручьём, на Подоле. Спорили двое: поп, отец Митрей, чёрный, как жук, грек с жирно лоснящейся чёрной бородой и огневыми глазами навыкате, да старый Берында с изъеденными зубами и похабной бородёнкой. Одет отец Митрей был в иматий, эдакий длинный и просторный халат с широким отложным воротником, а на голове была скуфейка поповская. Маковка его была по-тогдашнему выстрижена; это называлось венчиком, гумёнцем, а в просторечии – поповой плешью. Попы тогда долгих волос не отпускали, по Павлу: «Муж, аще власы растит, бесчестие ему». Гумёнце это выстригалось потому, что сие являет как бы терновый венец, его же носил Христос, и потому ещё, что апостол Пётр от противящихся словеси его – обрит был, «яко ругу (наругание) приим от них». Берында же был одет в лохмотья. Он часто хаживал гребцом с гостями даже до Царьграда, и не раз крестился там: при всяком крещении от радетелей полагался дарок. Теперь он добивался места свещегаса – пономаря – при церкви пророка Илии, а поп Митрей, не терпя его сварливого характера, не допускал его, и между ними шла такая свара, что отец Митрей уже раскаивался, что он не уступил сразу. Но очень уж неуютен был этот старичишка с похабной бородёнкой его: родила тётка, как говорится, жил в лесу, молился пням…
– Нет, на вас, греков, надежда плохая!.. – кричал, вызывая одобрение толпы, Берында. – С вами говори, а камешек за пазухой держи… Недаром вас лисицами прославили… Толи не будет межу нами и вами мира, умные люди сказывают, оли камень начнёт плавати, а хмель тонути…
– Верно!.. – подтвердил из толпы Ядрей-Федорок.
– Невегласы!.. – презрительно, с сильным иноземным выговором бросил отец Митрей. – Паул, святый апостол, светило мира сего, вещавает…
– Паул… – презрительно оборвал его Берында, готовый всегда спорить со всеми и про все. – Паул твой скольких крестьян-то перемучил?! Паул… А у нас тут сам апостол Ондрей прошёл и горы наши благословил и крест водрузил…
Двое новгородцев, один пожилой, грузный, с сивой бородой, а другой молодой, с бойкими, ёрническими глазами, остановились послушать учёный спор. И захохотали.
– Вазы его!.. – подцыкнул молодой Берынду. – Рви его в клочки, грецкое отродье…
Но поляне почувствовали себя оскорблёнными иногородним вмешательством.
– Вы, плотники… Не чеплять!.. – послышались недружелюбные голоса. – Раз ты в гостях, и держи себя гостем. А то и по рылу получить можно…
– Сдачи не задержим… – бойко отрезал новгородец. – Мы народ к тому привычный…
– Да не ввязывайся ты, осина горькая!.. – досадливо остановил его старший товарищ. – Так вот и липнет, что банный лист к ж…
– Наше святое Еуангелие… – начал было наставительно отец Митрей, но Берында не дал ему и слова молыть.
– Еуангелие!.. – закричал он. – Ты думаешь, что ты поп, так всем и указчик?.. Много таких-то мы видали!.. Да что, братцы, – обратился он к толпе за сочувствием. – Они там, в Царьграде-то, на нас вроде как на скотину какую смотрят… Самое письмо наше ниже незнай чего почитают… А наши словенские письмена святейша суть и честнейша, свят бо муж сотвори я есть, солунский Кирилл-философ, а греческая – вы, еллини погани…
Грек бешено махнул рукой и торопливо скрылся за церковкой: он сердился на себя, что связался с невегласами и уронил своё достоинство. Новгородцы, смеясь, пошли к своим ладьям. Толпа галдела.
Князь Ярополк с дружиной направился между тем к гриднице: надо было крепко совет держать, как и что теперь делать. Гридницей называлась мирская храмина, которая в непогоду служила и местом суда, и для пиров, и для всяких собраний. Но была и особая, княжая гридница в терему княжеском…
– Ты что, Свентельд, голову повесил? – ласково спросил он старого воина.
– Да что, княже, не любо мне наше дело!.. – вздохнул тот. – То была Русь единой, а теперь опять на три стола разделится… Негожее дело…
Варяжко молча посмотрел на него и тряхнул головой: эта думка тревожила и его…
С Подола доносился ожесточённый галдёж: то вкруг церковки пророка Илии все спорились «крестьяны»…
VI. НА ПОЛЮДЬЕ
Не погнетши пчёл, меду не есть.
О походе на греков и даже на печенегов пока думать не приходилось: надо было и казны побольше собрать, и оружия заготовить, и ладей, и воев. И так незаметно подошли первые заморозки. Смерды-посели убрались уже с хлебом, запаслись готовизной всякой, в опустевших полях поднялась уже зелёная вершь (озими), и пора было князю и дружине на полюдье идти, дань, оброки и дары собирать для казны княжеской. И вот в Новгород отправил Ярополк Яна Вышатича, молодого, но смысленного дружинника, Блуд к вятичам непокорным поехал с добрым отрядом, Свентельд к кривичам, а воевода Волчий Хвост к радимичам, которые в баламутстве вятичам не уступали нисколько. А теперь пришёл черёд и ему самому…
И вот раз ядрёным осенним утром, когда подмёрзшие дороги звенели под копытами коней как железные, во дворе княжеском на конях, при оружии собралась молодшая дружина, молодь, разноплемённые, разноверные, с бора да с сосенки, но крепкие, весёлые, здоровые, молодец к молодцу. Большинство из них и выросло вместе с князем под стягом воинским. «Мы сами вскормили князя себе», – говаривала часто дружина… Шутки так и сыпались. Весёлый хохот яро взрывался в морозном воздухе, в котором реяли, искрясь на солнце, первые снежинки. Кони скребли от нетерпения копытами мёрзлую землю, звонко ржали, грызли удила и всячески просились в дальнюю путь-дороженьку. А князь всё не выходил: красавица Оленушка, от слёз неутешных вся опухшая, никак не хотела отпустить от себя своего ясна сокола. Лёгкое ли дело: до самой распутицы вешней отъезжает её князь!.. Понимала она, что нельзя иначе, что должен князь своей земле суд и управу дать, да сердце женское уговоришь разве?.. И Оленушка, жарко обняв Ярополка, лежала хорошенькой головкой своей у него на груди и не отпускала никак…
– Оленушка, лебедь моя белая… – целуя её, говорил тронутый её горем князь. – Да что ты, касатка?.. Словно в могилу провожаешь меня… Разве я долго?.. А сколько мехов привезу я тебе: и бобров седых, и соболей, и чего только твоя душенька не пожелает!..
– Ничего… мне… не надо, сокол мой ясный… только бы очей с тебя не спускать… – едва говорила она и вдруг решилась: – Ах, иди уж, иди!..
И она судорожно сжала его в последний раз, перекрестила истово, по обычаю веры своей, и оттолкнула от себя, а сама бросилась лицом вниз на постелю смятую… Ярополк, закусив губу, из лица весь белый, опрометью бросился из ложницы вон. У крыльца отроки уже держали в поводу его любимого коня в уборе княжеском: чепрак – по-тогдашнему подклад – был чёрного бархата, золотом шитого, блистала набором нарядным уздечка, а под стройной шеей коня, по обычаю стародавнему, скифскому, висела большая кисть, науз, – только у скифов кисть эта из вражеских скальпов сделана была, а у русичей делали её уже из шёлков цареградских многоцветных… Дружина встретила князя восторженными кликами. Ярополк улыбнулся оживлению молоди и незаметно покосился на терем. Но Оленушка неутешно рыдала на постели своей собольей, и над ней, утешая, стояла постаревшая добрая Малка…
И, цокая копытами, с князем во главе, дружина весело выехала за дубовые ворота в улочки узкие… Там растянулся уже обоз княжеский: на полюдье полагалось не только собирать дань да дары, но иногда, когда нужно, и отдаривать. За княжеским обозом тянулся обоз гостей, ехавших торговать по торгам и торжкам. Хотя славяне и не обижали заезжего человека, всячески здоровье его оберегали, всячески, по завету дедовскому, чужеродцам примолвливали, но всё же были по лесам и лихие люди – и под защитою дружины княжеской было повольготнее. Гость был для князя после дружины самый первый человек: торговля составляла важнейшую часть доходов его и была тем более необходима, что большую часть дани и даров князь получал натурой, произведениями своей земли…
И гости, весело переговариваясь и в рукавицы похлопывая, – не столько от утренника ядрёного, сколько от удовольствия, – выровнялись за заколыхавшимся княжеским обозом, шли рядом со своими колами и покрикивали ласково на коней. Ядрей-Федорок, двоевер, тоже увязался за обозом: что-то по родной севере взгрустнулось ему и захотелось повидать своих.
– Варяжко, где ты? – подъехав к Лядским воротам, крикнул князь.
– Здесь, княже… – отозвался тот из-за толпы, провожавшей князя.
– А я и не заметил тебя… – сказал Ярополк. – Ты смотри, побереги у меня Киев… И княгинюшку свою я на тебя покидаю…
– Будь покоен, княже… Ты знаешь мой обычай: на деле по одной половице ходи…
– Молодец… Ну, здрав буди, Варяжко… И вы все, кияне…
– Да хранят тебя боги, княже… Счастливого пути… Возвращайся к нам поскорее…
И синяя пустыня подступавших к самому Киеву и затихших к зиме лесов поглотила караван. Казалось, что Киев не то что за сотни вёрст где-то, а что его и совсем на свете нет: так дико и пусто было всё вокруг. И все, разговаривая и смеясь, зорко наблюдали за знамениями всякими: слушали и птичий грай, и ухозвон, и бучание огня на привалах, гадая, благополучна ли будет путина.
Промёрзшие дороги – они служили больше всего для гостей и потому так и звались гостиницами, а то и просто гостинцем, – змеились по вековым лесам, и по сторонам виднелись только едва приметные тропы звероловов да их меты. Только изредка попадались посёлки, окружённые рольими землями – пашней – да сеножатями. Гобино – урожай – было уже убрано и в пустынных полях, под туманами, стояла тихая печаль-тоска… Посели, заслышав по лесу звонкому шум каравана, прежде всего торопились спрятаться в непроходимые трущобы, в твердь, в крепь, и только немногие храбрецы показывались среди этих взъерошенных, беспорядочно разбросанных по косогору избёнок, чтобы приветствовать князя низким поклоном…
Жили славяне очень разбросано, по недоступным трущобам, любили свободу и независимость превыше всего, не терпели никакого обладателя, и только с большим трудом, с мечом в руке, можно было принудить их к повиновению. Управлялись они всенародно, то есть жили в постоянных несогласиях: на чём порешат одни, на то не соглашаются другие, и ни один другому повиноваться не хочет ни за что. Чуя душой все бессилие человека среди тайн мира, славяне вообще любили предоставлять дела свои случаю и вержением стрелы, например, решали споры всякие: и выбор суженой, и выбор старейшины… Власть князя была, в сущности, призрачна: ему повиновались только там и тогда, где и когда его видели, а то жили на всей своей воле. И князь с дружиной чутко схватывали, где можно понажать, а где нельзя. Седое предание рассказывает, что когда князь Володимир ходил на камских болгар и рать его забрала пленных, то его уй и воевода Добрыня, человек положительный, осмотрев пленников, вдруг решил:
– Нет, эти нам дани давать не будут – погляди: они все в сапогах. Поищем давай лучше лапотников…
И связаны славяне были разве только одной кровною местью: всякое убийство вело за собой бесконечный ряд других убийств…
Семьи они большею частью ещё не знали, а жили родом по своим дединам. Жены считались собственностью мужа и переходили по наследству от отца к сыну. Поляне, жившие на большой дороге из варяг в греки, имели нрав более тихий и некоторые брачные обычаи: стыденье к своим снохам со стороны свёкров, стыденье к сёстрам со стороны братьев, стыденье к матерям и родителям своим, к свекровям со стороны зятьёв и к зятьям со стороны свекровей имели великое стыдение. Не ходил жених по невесту, отыскивая её где ни попало, а невесту приводили вечером, а наутро приносили, что по ней давали приданого. Древляне, радимичи, вятичи и севера, напротив того, жили зверинским обычаем: убивали один другого, ели все нечистое, срамославье у них было перед отцами и перед снохами, и ходили они на игрища «межю селы» и там умыкали себе жён, с которой кто совещался, и имели по две, по три жены. То же творили и кривичи и прочие «погание»… Так, по крайней мере, уверяли потомство христианские летописцы.
Плодясь и множась под защитою богов своих, они все дальше, все шире «рассекали дор» – расчищали заросли – и топором клали по деревьям знамения, рубежи, – от «рубить», – обозначая определёнными метами своё бортевое ухожье или свои путики охотничьи, пасные на зверя и силовые на птицу. Знаменья эти были неприкосновенны и нерушимо закрепляли за промышленником право собственности. И крепко помнил всякий род межи свои: от ржавца к дубу старому, а от дуба на берёзу, а на берёзе грань, да на липу, да на две ели, да на вяз, а на них грани, да на три ели, из одного корени выросли, да на две осины виловатые, да к кряковистому вязу, а от вяза на мох.
Не торопясь пришли в Вышгород. Он сидел на грани земли Полянской, – отсюда начинались древлянские владения, – на опушке лесов, над Днепром. Вышгород был небольшим, но очень бойким городком, так что с добродушной насмешкой его величали даже Киевцом. Население уже поджидало князя: день его приезда был и первым днём осеннего торга. Посели из лесов не только поджидали гостей с товарами, но и сами привезли на продажу всякого добра: меду, кож, шкур звериных, воску, птицы битой, скота… И княжьи тиуны – управители – и гости что поценнее – в повозки свои забирали, а что попроще – в амбары свои складывали, чтобы по яроводью в Киев ладьями сплавить. Некоторые в ожидании весёлой братчины успели уже хлебнуть берёзовицы, которую навострились они уже навеселять хмелем. И потому в промёрзших проулках между беспорядочно поставленными избами было шумно и весело. Слышались песни.
Торговые, сыпля шутками да прибаутками – покупателей подвеселить надо, – разбивали на площади свои вежи. И старый, и малый, кутаясь в духовитые кожухи свои, дивились их богатствам. Тут были и ткани всякие, и секиры, и бусы девкам, и иголки, и нитки, и огнива заморские, и всяка штука нараспев. И сразу закипел весёлый торг. Несмотря на то что деньги были чрезвычайно разнообразны: и металлические, и кожаные, – гривны, ногаты, куны, резани, серебряные арабские диргемы, веверицы, монеты греческие, монеты римские, и готские, и урманские, и свейские, – несмотря на то что был и особый счёт новгородский, и киевский, и ростовский, и низовой, и прочие, – вышгородцы, народ тёртый, не смущались этим. Бойко шла и мена, товар на товар… Другие несли со всех сторон всякой снеди для братчины весёлой: кто часть свинины, кто меду, кто зверовины, кто хлеба, кто чего… И хозяйки торопливо готовили пированьице, почестный пир про князя ласкового и про дружину его…
То же самое в эти осенние месяцы шло и по всей Руси, где старые дружинники в сопровождении полевицы удалой правили дело княжеское. Они шли от князя, а от них выступали местами откупщики-промышленники. Сбор дани для промышленников был делом и выгодным, но нелёгким. Приходилось терпеть и стужу и всякую нужу. Иной раз враждебные данники не давали им даже пропитания и они помирали с голоду. Малыми отрядами ходить было трудно, их иногда побивали без остатка. Были местности, куда можно было пробраться только на лыжах или нартах, а в иные ход был только летом. Люди жили вообще в крепостях великих, подальше от всего: осенью болота их обошли и зыбели великие и ржавцы, а зимою снега непролазные…
Для крепости дани иногда забирали талей, то есть заложников. Иногда вдруг выходил приказ: князь соболями дани больше не берёт, а требует хлеба – только таким путём можно было заставить лесовиков орать землю. Часто они подымались и по-свойски разделывались и с волками-промышленниками и с волками-князьями. Иногда возникало «дружинное неистовство». Часто прежде чем Киев узнавал о какой-нибудь новой области, там уже хозяйничал какой-нибудь промышленник, ставил от себя городки и вёл с лесовиками торг. Но свои пути гости скрывали и стращали всех великими опасностями…
Вышгород шумно пировал. Везде горели огни. Везде слышались весёлые песни. В особенности бурно кипело веселье в гриднице боярина-наместника, перед ярко освещёнными окнами которой толпился народ. И вдруг заполыхала там весёлая осенняя песня:
Ай на горе мы пиво варили,
Ладо моё, Ладо, пиво варили… —
и послышался мерный, подмывающий топот, и посвист молодецкий, и хохот, и звуки чокающихся чаш и турьих рогов.
Мы к этому пиву все вкруг соберёмся,
Ладо моё. Ладо, все вкруг соберёмся…
Седоусый посель вдруг нелепо взмахнул руками и притопнул:
– Эх, и гоже поют дружинники!.. Расступись все!.. Плясать буду…
Все с хохотом расступилось. Он сделал было молодецкую выходку, но с удивлением заметил, что новые лапотки его точно к земле примёрзли. Хватка была берёзовица у побратенника, говорить нечего, но тем не менее в чём же дело?.. Он тупо рассматривал свои лапотки, которые теперь не подчинялись ему, и вдруг заплакал над своим бессилием и сиротством. Вокруг все хохотало.
Мы с этого пива в ладоши ударим…
Ладо моё, Ладо, а ладоши ударим… —
гремело в горнице под мерный топот, —
Мы с этого пива все перепьёмся…
Мы с этого пива все передерёмся…
Стая гусей серых, опозднившая что-то в странах северных, налетела на Вышгород и, увидев эти огни и услышав весь этот весёлый, праздничный гомон, побочила в луга и с тревожным гоготаньем скрылась в звёздном мраке…