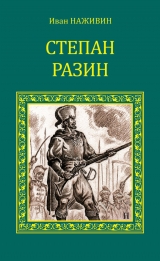
Текст книги "Казаки. Степан Разин"
Автор книги: Иван Наживин
Жанры:
Исторические приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 28 страниц)
Царь встал. Заседание было кончено. Бояре окружили царя, стараясь как бы попасть под светлые очи государевы. Особенно забегал, как всегда, лисичка Трубецкой. Но уже во время заседания у него невольно мелькнула мысль – он так уж был устроен и иначе не мог, – о том, что, если воры, в сам деле, под Москву опять подойдут, что, если они да верха возьмут?… Гоже бы как на такой случай подготовиться…
– Завтра, бояре, сидения о делах у нас не будет… – сказал царь. – В Москву я еду. А послезавтрева будет смотр на поле, под Серебряным бором, у Всесвятского села. Те, которые записаны по московскому ополчению, пусть изготовятся со всяким тщанием: будут иноземцы. Я было насчёт погоды сумлевался маленько – ишь, как размокропогодилось, – да домрачей мой Афоня, такой дотошный до всего старик, заверил, что будет-де вёдрено: петухи-де к вёдру запели… Ну, вот… А с тем прощения просим… Ты, Сергеич, останься: мне поговорить с тобой надо. И ты, Борис Иваныч, маленько погоди…
Бояре били челом великому государю, выходили в сени, а оттуда брели двором к своим колымагам и коням. Князь Иван Алексеич шёл – прямо засмотренье!.. Вся челядь царская, и старцы верховые, и карлики с карлицами, и жильцы, и рынды только на него глаза и пялили: парсуна!.. И велик, и дороден, и осанкой взял, и бородой, – вот это так боярин!.. А князь Иван Алексеич медлительно выступал, подпираясь для пущей важности длинным посохом, и бархатная горлатная шапка его, вся в жемчугах, чуть облаков седых не касалась, и была на лице его великая важность: наворочал он сегодня делов!.. Будет что дома рассказать… Только бы, храни Бог, чего не перепутать: память-то у него только ох да батюшки!..
– А я вот о чем тебя все спросить хотел, Борис Иваныч, – сказал царь Морозову. – Да всё как-то за делами забывалось. Что это боярыня наша Федосья Прокофьевна и носа больше ко мне не кажет? Как жива была моя Марья Ильинична, Царство ей Небесное, так, бывало, кажний день к поздней обедне езжала, а теперь словно в воду канула. Негоже так-то… Али что ей попритчилось?…
– Не ведаю, государь… – сказал Борис Иваныч. – И меня что-то она теперь не жалует. У нее теперь чертоги полны юродивых, да старцев, да захожих странников и калик, да черниц со всех монастырей. Кажний день, сказывают, до ста человек их за стол у неё садится. И постоянно пение молитвенное идёт; а то так читание от Святого Писания. И сказывают, что с распротопопом Аввакумом всё грамотками она, вишь, ссылается. И сестра ейная, княгиня Урусова, Евдокия Прокофьевна, у неё безвыходно…
– Так что, в раскол, что ли, она норовит?
– Не ведаю, государь… – отвечал Морозов уклончиво. – Ты знаешь, что она завсегда маленько полоумная была…
– Ты ей скажи, что государь-де гневается, что так-де непригоже…
– Слушаю, государь…
– Ну, а теперь идёмте к столовому кушанию… Идём, Сергеич…
XXVII. Счастливый день
Старенький домрачей Афоня оказался прав: в этот же день к вечеру разъяснилось, на утренней зорьке ударил эдакий лёгонький августовский утренничек и из лохматых, разорванных вишнёвых туч выкатилось яркое солнышко. После обедни поздней царский поезд двинулся по непросохшим ещё дорогам, среди сияющих серебряных луж, в Москву, в Кремль, на зимнее житьё. Вдоль всего пути по обочинам дороги стоял народ, чтобы взглянуть на светлые очи государевы, и, как всегда, при появлении царской колымаги падал ниц. Бабы причитали: «Солнышко ты наше праведное… милостивец… кормилец…» И от умиления глубокого плакали. Царевна Софья, сидя в своей со всех сторон закрытой колымаге, всё серчала на этот плен свой и с нетерпением ждала того времечка, когда выбьется она, так или иначе, на вольную волюшку. Положение царевен, правда, тогда было невесёлое, жили они полными затворницами. При поездке даже на богомолье вокруг их завешенных со всех сторон, колымаг ехали верхами сенные девушки в жёлтых сапогах, закутанные фатами. А ежели приезжали они в мужской монастырь, то всех монахов запирали по кельям и даже на клиросе пели привезённые из Москвы монахини. Монахов выпускали только тогда, когда поезд отъезжал в обратный путь, и они могли тогда отвесить вслед царевнам три земных поклона. Надежды на замужество никакой не было: выходить за бояр, то есть за своих холопей, не повелось, а за принцев иноземных вера не допускала… И от скуки царевна Софья читала в колымаге своей только что поднесённую ей воспитателем братьев её, иеромонахом Симеоном, книгу рукописную, которую она берегла пуще глаза. Называлась та драгоценная книга «Прохладные или избранные вертограды от многия мудрецов о различных врачевских веществах», – как наводить «светлость» лицу, глазам, волосам и всему телу. Учёный батюшка рекомендовал – от многих мудрецов, – сорочинское пшено, которое выводит из лица сморщение, воду от бобового цвета советовал он, как выгоняющую всякую нечистоту и придающую всему телу гладкость, сок из корня бедренца, по его мнению, молодит лицо, гвоздика очам светлость наводит, а мушкатный орех на тощее сердце даёт всему лицу благолепие, также и корица в брашне [13]13
Брашно – пища, еда.
[Закрыть]. Он приводил много всяких составов для притирания, именуемых шмаровидлами, и рекомендовал для благоухания наиболее приятные «водки», сиречь духи. И все дивились, откуда монах мог набраться всех этих мудростей – вот оно что значит учение-то!..
И скакали вершники, и жильцы всячески оберегали государское здоровье, и кланялся царь на все стороны народу своему доброму и – всё думал думы свои грешные о красавице неведомой…
Весь день прошёл в приготовлениях к завтрашнему торжеству. Погода всё ещё слегка хмурилась, но домрачей Афоня говорил, что опасаться нечего: будет вёдро. И когда царь встал на другое утро и помолился в Крестовой палате и заглянул в окно, действительно, на небе утреннем не было ни облачка. Он отстоял утреню и раннюю обедню и потом, выпив сбитню горячего с калачом, приказал подать себе стопу мёду отменного, старого.
– А теперь позовите ко мне домрачея моего, Афоню… – приказал он.
Афоня, маленький, уютный старичок с тихими голубыми глазками, покатился в столовый покой. Царь взял стопу меду и собственноручно поднёс его старику:
– Вот тебе, Афоня, – за хорошую погоду!..
– Ах, царь-батюшка… – расцвёл Афоня всеми своими морщинками. – Ах, милостивец!.. Ну, во здравие твоего пресветлого царского величества!
– Кушай во здравие, дедушка!.. – ласково сказал царь.
Афоня осушил стопу, отёр рукавом бороду седую и с наслаждением крякнул:
– Ну и мёд у тебя, надёжа-государь!..
Через некоторое время царь с боярами в большом наряде поехали на смотр. По улицам толпился народ: ещё накануне через земских ярыжек приказано было всем горожанам одеться в лучшие одежды и быть на улицах, причём особенно дородные и с особенно пышными бородами, согласно обычаю, должны были стоять в первых рядах, дабы иноземцы могли подивиться красоте и достатку жителей московских. И со всех сторон колыхались тяжёлые колымаги боярские, и толпами шёл народ всякого звания, и бежала детвора. Всё это направлялось под Серебряный бор, где было обширное поле, которое прозывалось Ходынским потому, что там все солдаты ходили, ратной хитрости обучаясь.
Посреди поля уже стояли временные как бы хоромы, все красным сукном обтянутые. Кругом хором пушки расставлены были, а перед пушками – царский престол огнём горел. Алексей Михайлович милостиво принял в хоромах бояр своих, гостей именитых и послов иноземных, которые о ту пору в Москве случились, а потом пригласил он всех посмотреть силу ратную Московского государства перед походом полков на воровских казаков…
Алексей Михайлович воссел на свой трон. Вокруг него стали рынды [14]14
Рында – телохранитель, оруженосец.
[Закрыть], все былые и ближние бояре. На гульбище, в хоромах, по лавкам уселись другие гости. Царь подал знак, грянула пушка, и на высокой смотрильне разом взвилось государское знамя. Черневшие вдали под бором, к Всесвятскому селу, полки колыхнулись и рекой многоцветной, гремя в трубы, литавры и барабаны, потекли полем к царскому смотрению.
Впереди полков на белом коне красовался седой и грузный воевода ратный, князь Юрий Алексеевич Долгорукий. На воеводе шапка горлатная, на плечах кафтан золотной, поясом широким перетянутый, а поверх кафтана шуба соболья накинута бесценная. Сбоку у воеводы сабля кривая, вся в каменьях драгоценных, за поясом нож, тоже весь в камнях, точно молния застывшая, а в руке золотой шестопёр. Горит камнями и малиновый чепрак [15]15
Чепрак – подстилка под седло.
[Закрыть], и уздечка коня, и нахвостник его, и даже копыта. Казалось бы, конь под тяжестью всего этого богатства в землю ногами уйти должен был бы, но, отделив хвост трубой, он играл, красовался и, вскидывая точёную головку, всё косился умным, тёмным глазком своим на боярина: так ли он идёт, гоже ли? И старый воин радовался на своего любимца и приговаривал ему тихонько ласковые слова. Чуть сзади князя Долгорукого ехал товарищ его, такой в седле подбористый, князь Щербатов, и конь его был вороной, полный бешеного огня, и убранство и всадника, и коня немногим разве уступало убранству ратного воеводы. Проезжая мимо великого государя, воеводы с коней низко кланялись ему, а глубокий дворцовых обхождений проникатель Языков досадовал: лучше бы саблей салютовать на манер иноземный – вот ляхи да французы на это дело великие мастера!.. За воеводами холопы их вели в поводу десятки их заводных коней, один другого краше, один другого богаче убранных: что ни конь, то состояние! И дивовались, и ахали москвичи на такое богатство бояр и воевод своих, и гордились тем, что иноземцы видят все это: на-ка вот, немчин, выкуси!.. И иноземцы, видевшие проездом в третий Рим этот, захудалые деревеньки, утопавшие в грязи, действительно были озадачены: конечно, и у них далеко не всё по этой части благополучно было, но всё же москвитяне, bei Gott, шли в этих бесчинствах государственных далеко впереди всех!..
За воеводами на прекрасных конях, в цветных кафтанах, золотом расшитых, с золотыми крыльями, как у ангелов, за плечами шли конные жильцы, и в руках у них были копья длинные, и на каждом копье играл цветной прапорец. За жильцами конными пошли жильцы пешие, высокие, статные, на подбор, молодцы в кафтанах многоцветных. За жильцами, хотя и не так стройно, но зато богато, пышно проходила московская дворянская конница, вся в бархате, в шелку, в золотых и серебряных цепях, в камнях многоцветных, с заводными конями, с челядью бесчисленной, с трубами серебряными и с громом великим барабанов и тулумбасов. За конницей московской – скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается – форсисто пошли солдаты иноземного строю, и пешие, и гусары, со своими офицерами-иноземцами, а за ними потянулись стрелецкие приказы московские: одни в красных кафтанах с золотом, другие в зелёных, третьи в синих, четвёртые в жёлтых, без конца, и сверкали на солнце их пищали длинные и секиры широкие, отточенные, и сердито громыхал за каждым приказом пушкарский наряд его. Время проходило, а не уставал Алексей Михайлович с боярами и народом московским любоваться полками своими и гордиться силою ратной государства Московского. И вот, когда прогремел тяжко мимо царя пушкарский наряд последнего стрелецкого приказа, всё точно ахнуло и замерло в восхищении: на гордых, играющих конях, слепя глаза богатством бранным, шёл стремянной приказ, верная охрана великого государя. Что ни конь – картина, что ни воин – богатырь из сказки древней! А впереди полка вихрился, весь в огнях, молодой знатный витязь князь Сергей Одоевский. И когда проходил он мимо царя, князь засадил шпоры в крутые бока своего коня, тот в ярости взвился, но, сдержанный железной рукой, заиграл игрою буйной, и князь, выхватив вдруг саблю свою, приложил золотую рукоять её к челу, а потом опустил саблю долу: голова-де моя у ног твоих… И вышло это у него так красносмотрительно, что всё вокруг восторженно взревело и улыбнулся царь. А Языков одобрительно кивнул головой: вот это гоже, это с польского манеру!..
Стукнула, закутавшись белым дымом, пушка, и вся река воинская враз стала, образовав огромный многоцветный квадрат вокруг ставки царской. Царю и ближним боярам подали челядинцы богато убранных коней. Но не успел великий государь, сев на коня, тронуться с места, как навстречу ему подскакали оба воеводы.
– Ну, исполать тебе, князь Юрий Алексеевич!.. – ласково проговорил Алексей Михайлович. – Уж так утешил, так утешил, что и высказать тебе не могу!.. Вижу, вижу труды твои… И помни: за Богом молитва, за царём служба не пропадают.
Князь сдержанно сиял: это была первая победа над смутой.
Царь доволен, царь доверяет, – значит, там, на Волге, руки будут развязаны. А это первое дело…
Начался объезд царский полков и приказов. Царь медленно продвигался на коне вдоль рядов, останавливался, ласкал начальников, хвалил людей и чувствовал, как вокруг него бесконечные тысячи сердец загораются священным огнём воинским. И, завершив круг, царь снова подъехал к своей ставке.
– Ещё раз, князь: утешил!.. – решительно повторил Алексей Михайлович и слез с коня. – А теперь отпустим воинов по домам, а там прошу тебя хлеба-соли моего откушать…
Вся свита спешилась.
Царь воссел снова на свой трон.
Опять в белом дыму стукнула пушка, и всё войско, дрогнув, перестроилось к походу в Москву. Минута затишья… Князь Долгорукий орлом оглядел недвижные полки и вдруг поднял свой золотой шестопёр. Враз взыграли трубы, загрохотали барабаны и первым, приветствуя царя кликами восторженными, пошёл на Москву, во главе с молодым витязем Одоевским, стремянной приказ, а за ним все другие полки и приказы. У солдат подводило брюхо с голоду, у многих штаны были мокры – не выдержали, – от жажды в глазах круги огненные ходили, но зато все, и в том числе они первые, убедились, что наша матушка Расея всему свету голова. А это только и было нужно…
Царь – чрезвычайно довольный, сияющий – всех просил милостиво к столовому кушанью. И князя Юрия Алексеевича посадил он с собой за столом по правую руку, и ему первому по приказанию царя подавали всякую снедь и лили вино пенное или мёд старый, пьяный. Мало того: ему одному – знак величайшей милости – послал царь соли и не раз подавал хлеба. И князь бил всякий раз челом государю, и кланялись ратному воеводе все присутствующие, поздравляли его с великой царской милостью. А разряженные слуги уже несли во все стороны и лебедей белых, и гусей, и рыб чуть не в сажень длиной, и похлёбки всякие, и заливные, и тельные. И текли вина рекою обильною. И присматривали слуги зорко за гостями иноземными, потому некоторые восточные послы, выпив здравицу, норовили кубок царский на память за пазуху спрятать. Для таких бесстыжих послов были деланы нарочно в аглицкой земле сосуды медные, посеребрённые или позолоченные… А с поля всё гремели ещё в честь великого государя клики уходящих людей ратных…
И когда закончился, наконец, торжественный обед, Алексей Михайлович обратился к князю Долгорукому:
– А когда, с Божией помощью, надеешься ты, князь, выступить?
– Мешкать не буду, великий государь… – отвечал раскрасневшийся от вина князь. – Упустишь огонь, не потушишь… Дозволь завтра же, государь, быть у руки на отпуске…
– Орёл, орёл!.. – покачал головой довольный Алексей Михайлович. – Ну, я вижу, что за тобой спать можно спокойно…
Алексей Михайлович встал, и все, кто могли ещё встать, поднялись за ним. Но очень и очень многих побороли мёды и вина царские – около тех со сдержанной улыбкой хлопотали слуги. Алексей Михайлович был в самом чудесном расположении духа.
– Ну, Сергеич, друг мой… – обратился он к Матвееву. – Уж так я доволен, так доволен, что и сказать тебе не могу. И на радостях решил я твои новые хоромы поглядеть, на новоселье к тебе заехать.
Это было совершенно неслыханной милостью: ни царь, ни его семейные никогда у бояр не бывали. Даже если кто из ближних бояр умирал, и тогда никто из царской семьи не являлся на дом, чтобы отдать последний долг близкому человеку. Слушавшие последние слова великого государя бояре переглянулись: ну и пошёл Артамон Сергеич в гору!.. Матвеев, живший до того в своём скромном домике у Николы на Столпах, только что отстроил себе по настоянию царя великолепные палаты в Белом городе, устроенные на иноземный лад не хуже, чем у князя В. В. Голицына, в Охотном ряду. И вот царь всемилостивейше изъявил желание посмотреть, как его собинный дружок устроился. Осчастливленный Матвеев сейчас же отрядил одного из своих холопов верхом домой, к своей супруге, чтобы предупредить ее о высоком госте.
Некоторое время спустя по раскисшей от последних дождей дороге заколыхалась, окружённая вершниками, скороходами, ближними боярами и жильцами, золочёная колымага царя. За ней, на почтительном расстоянии, протянулся бесконечный поезд бояр, гостей именитых и иноземных послов, которые были на смотру и возвращались теперь на Посольский двор в чрезвычайно весёлом расположении духа: они очень оценили московское гостеприимство. В особенности эти русские меда – небеса видишь!..
На околице московской колымаги расползлись во все стороны. Царская колымага, распространяя вокруг себя священный ужас, уже стучала своими золочёными колесами по неровной бревенчатой мостовой Белого города. И ломали встречные головы: куда это царь-батюшка надумал? И когда подворотила колымага ко двору Матвеева и сияющий хозяин – он был уже дома – в золотном кафтане с хлебом-солью встретил высокого гостя внизу высокого крыльца, всё так и ахнуло: «Ай да Артамон Сергеич!.. Отец-то, бают, шти лаптем хлебал, а он вон куды маханул!.. Вот тебе и тихоня!..»
Царь медлительно поднялся на высокое, изукрашенное резьбой и живописью крыльцо великолепных каменных хором своего любимца, опираясь на посох, вошёл в светлые, расписные сени, где прижимались к стенам всякие чада и домочадцы. Царь милостиво кланялся на их низкие поклоны.
– Вот сюда, государь… – сиял Матвеев. – Милости прошу…
Царь вошёл в обширный, светлый, весь увешанный зеркалами, парсунами и картинами варяжского письма, покой. Он весь уставлен был золочёной иноземной мебелью и коврами устлан пушистыми. Дородная, величественная Евдокия Семёновна, сзади которой держалась скромно какая-то девица с золотым подносом в руках, низко склонилась перед высоким гостем.
– Добро пожаловать, великий государь…
Царь принял золотой кубок мёду и – чуть не выронил его из рук: перед ним в нарядном летнике и в телогрее с откидными рукавами стояла та, о которой так тосковало его сердце! Он быстро справился с собой.
– Здравы будьте, хозяин, и ты, хозяюшка… – ласково, радостный, проговорил он. – А я и не знал, Сергеич, что у тебя дочка есть… Да какая красавица!..
Наташа вся вспыхнула, и тёмные глаза её просияли.
– То не дочка, великий государь… – отвечал Матвеев. – Это воспитанница моя, дочь Кирилла Полуэктовича Нарышкина, Наталья Кирилловна…
– Вот что!.. Я и не знал… – сказал Алексей Михайлович. – Ну, будьте же здравы все… И ты, Наталья Кирилловна… Дай Бог вам на новоселье всякого благополучия и в делах ваших скорого и счастливого успеха…
И одним духом, по обычаю дедовскому, он осушил кубок и, опрокинув, показал всем, что в кубке не осталось ни капли. Хозяева, сияя, низкими поклонами благодарили дорогого гостя.
– Ну, а теперь ведите меня, показывайте хоромы ваши… – говорил царь. – Вот теперь ты, Сергеич, как следует устроился… А то жил Бог знает как… К чему это пристало?
– Невысокого рода мы, государь… – отвечал Матвеев. – И не пристало мне тягаться с высокородными. Только чтобы из твоей воли не выходить, государь, и построил я себе эти палаты, чтобы твоему величеству порухи не было… Это вот столовая палата… Там, на хорах, мусикия играть у меня будет…
Наташа шла с Евдокией Семёновной сзади. Как он постарел, как раздобрел, как поседел!.. Мелькнул в мыслях образ молодого витязя с огневыми глазами, князя Сергея Одоевского, который часто, слишком уж часто на лихом скакуне ездит всё мимо двора их в алом зипуне, в кафтане златотканом, в белой, опушенной соболями епанче… Нет, то всё же обычное, да и запретное: женат князь… – а тут: Великий Государь, Царь и Великий Князь всея Русии, Великия, Малыя, Белыя, Царь Казанский, Царь Астраханский, Царь Сибирский и прочая, и прочая, и прочая.
Глаза её сияли, как звезды…
XXVIII. Море крестьянское
Русь закипала из края в край. Посланцы Степана Разина – большинства из них он и в глаза никогда не видал, ни слова с ними не говорил, никуда их не посылал, – работали с неусыпным усердием по градам и весям и читали людям грамоты атамановы, которых он никогда не писал. Там шептали эти шептуны, что идет атаман на бояр, на дворян, на приказных людей, чтобы всяк всякому на Руси ровен был, чтобы всё было у всех обчее. В другом месте уверяли эти шептуны народ, что идут казаки с царевичем и что даст этот царевич народу православному хлеба вволю, во всём полную волюшку и жизнь лёгкую и радостную. Там поднимали они чёрный люд за Никона, неправедно от бояр страждущего, в других местах ополчали они темноту против новшеств никонианских с яростью, инородцев поднимали против русских притеснителей, а раскольников за веру святоотеческую… Годилось в дело всё – только бы раскачать, только бы повалить, только бы ослобониться.
И разгоралась иссушенная тяжкими невзгодами безбрежная русская степь со всех концов, взволновалось до дна, замутилось огромное царство мужицкое, морем бурным вздыбило оно под ударами грозовой тучи, что с Волги-матушки над ним заходила…
В глубокой старине, хотя и очень скудно, но зато и вольно жило русское крестьянство: не по нраву пришлось в одном месте, можно идти в другое. Правда, эту свободу перехода в наше время склонны очень преувеличивать. Если по закону и по обычаю крестьянин это право в старину и имел, то это не значит, что это право он всегда использовать мог. Перевезти целое хозяйство – как бы убого оно ни было – с одного места на другое это совсем не то же, что переехать с одной квартиры на другую. Тут и скотинка, и снасть всякая, и ребята малые, и могилки родительские, и привычка, а главное, тут нужны деньги, чтобы на новом месте приладиться и пустить корни, а денег-то у мужика как раз никогда и не было. Уже Герберштейн [16]16
Герберштейн, Зигмунд фон (1486–1566), немецкий дипломат, автор «Записок о московитских делах».
[Закрыть]отмечал, что были в его время землевладельцы, которые, несмотря на все «порядныя» грамоты, заставляли мужика работать на себя шесть дней в неделю – уже в XVI веке!.. Это показывает, как, лёгкий на бумаге, нелёгок был в жизни для мужика этот переход на другое место. На такое передвижение он решался только тогда, когда на старом пепелище совсем уж терпения не хватало. Но, конечно, старый Юрьев день этот – 26 ноября, по первопуточку, – для него, сироты, всё же был известным подспорьем в его тяжкой доле, в его роли колонизатора русской, всё ещё порожней земли, её дикого поля. Известные преимущества, как справедливо замечают некоторые исследователи этой эпохи, имел Юрьев день и для землевладельца даже: пока стоял Юрьев день нерушимо, землевладелец мог какого-нибудь нерадивца или кабацкого завсегдатая просто согнать с своей земли, а после отмены вольного перехода всё, что ему, бедному, оставалось, это только допекать неисправного мужика штрафами да пороть его…
Первое время, на заре русской истории, землевладельцы старались превзойти один другого привилегиями и льготами, чтобы приманивать на свои земли работных людей, но уже в сороковых годах семнадцатого века стало тесно, они стали жать мужика так, что московское правительство вынуждено было у тех, кто уж очень допекал крестьян, земли отбирать и записывать на великого государя; сверх того помещик – на бумаге – должен был выплатить мужикам всё, что он у них забрал противозаконно, а в вотчинах земля и крестьяне отнимались у жестокого землевладельца и передавались его родственникам, добрым людям. Да и после издания Уложения (1649) за крестьянином оставалось право перехода, но теперь он был обязан поставить на свое место другого, что, конечно, было весьма трудно: ибо там, где несладко пришлось дяде Якиму, несладко было бы и дяде Якову. Это-то мужики понимали… И потому, если дяде Якиму приходилось уносить ноги, то он не особенно заботился, кто будет на его месте, и давал тягу так, чтобы и следу его было не найти. В этом отчасти помогали ему и сами землевладельцы, а в особенности на украинах, подальше от Москвы: так как за беглых в казну платить ничего не приходилось, то землевладельцы, обманывая московское правительство, весьма охотно принимали и укрывали их. А ежели приезжало, пронюхав, начальство с ревизией, то землевладельцы, чтобы прибедниться, отправляли на некоторое время в леса не только беглых крестьян, но даже и своих, часто целыми деревнями. А пройдёт гроза, снова мужички возвращались к господину и трудились на него по мере сил…
Но это вечное передвижение рабочей и, главное, платёжной силы очень путало дела правительства, и оно всеми силами боролось против этого… Уже в удельный период князья давали один другому записи не только чёрных людей один у другого не переманивать, но, по возможности, и не принимать, когда они поднимутся и пойдут с своих мест самовольно. Очень благоволивший к чёрным людям Иван IV все же вынужден был черносошных – государственных – крестьян прикрепить к земле. Годунов – ещё при Феодоре Ивановиче – начал стеснять в переходе и крестьян частновладельческих. С воцарением Романовых закрепление крестьян становилось всё настойчивее, всё круче, и на долю тишайшего царя выпало нанести мужику последний, сокрушительный удар ещё в 1649 году, а во второй половине XVII века крестьяне были уравнены в бесправии с холопами, и если по закону их ещё нельзя было продавать без земли, то жизнь очень скоро нащупала обходы этого закона и помещики и вотчинники стали продавать мужика и без земли, как лошадь, как корову, как барана, как всякую другую рабочую скотинку.
И это прикрепление крестьянства к земле, усиление власти воевод, образование постоянного войска, словом, торжество единодержавия и усилило разбегание крестьянской России «розно» и вызвало и укрепило казачество как в Сечи, так и на Дону, так и на главном тогда торговом пути, на Волге. Казачество это было противодействием старого вольного уклада новой жесткой государственности. И всегда и повсюду в чёрных людях казачество вызывало глубокие симпатии: оно теснило богатых и знатных, оно было последним спасением. И если для воевод и богатых гостей казаки были лихие люди, воры, разбойники, то для чёрного народа это были удалые добры молодцы.
Но бежать всем в Запорожье, на Дон, в Жигули было немыслимо: были люди и многосемейные, и характером мягкие, нерешительные, да, наконец, после Лихолетья власть всё же постепенно окрепла и очень энергично, хотя и не всегда удачно, ставила этой бродячей Руси препятствия. Крестьянство постепенно оседало, пускало корни, склоняло выю под ярмо необходимости и терпеливо шло своим воистину крестным путем. Что значительную роль в этой крестьянской драме играл Рок – инстинктивное желание великого народа закрепить за собой необъятные, выпавшие на его долю пространства, – этого беспристрастный мыслитель отвергать никак не может, но точно так же не может этот беспристрастный мыслитель отвергать и того, что много повинны были в тяжком положении крестьянства правящие классы того времени, что слишком уж обесправили они молодших людей государства Российского, что слишком уж много требовали они себе всего и слишком мало оставляли тем, кто на натруженном горбу своём нёс огромную тяжесть и их, и новорожденной державы Российской.
Ничто не ограждало крестьянина, как и холопа, от произвола землевладельца. Он имел право пороть их. Даже за убийство крестьянина помещик не отвечал. Суд мог подвергнуть мужика пытке не по обыску (без всякого следствия), а по одному слову владельца. Дворянин или сын боярский, провинившись, мог послать за себя на правёж, под палки, своих крестьян. Если дворянин медлил явиться на обязательную службу царскую, его крестьян сажали в тюрьму и держали до тех пор, пока тот не являлся. Если два соседа помещика враждовали, то крестьяне одного по его приказанию били и разоряли крестьян другого. Если бы крестьянину вздумалось искать на помещике свои обиды, то прежде всего натыкался он на свою безграмотность. Если он одолевал это препятствие при помощи какого-нибудь посадского, промышлявшего «в пищей избушке площадным письмом», и кое-как налаживал «приставную память» в суд, то он натыкался на ограждающий его противника закон: попов можно было тянуть в суд только 1 сентября, перед Рождеством и перед Троицей, а служилые люди во время службы могли на суд совсем не являться, а являлись они только месяц спустя после того, как отпустит их воевода, да и то только после третьего вызова.
Крестьяне, и черносошные, и властелинские, и дворцовые, и частновладельческие, были обременены бесчисленными поборами и повинностями. Они платили царскую дань, полоняночные деньги (на выкуп пленных), четвертные, пищальные, они обязаны были возить на селитряные заводы дрова и золу или взамен платить ямчужные, участвовать в построении городов или платить городовые, ставить на ямы охотников или платить ямские, нанимать на свой счёт сторожей к тюрьмам и целовальников к разным казённым делам, они мостили мосты по дорогам, давали натурой или деньгами стрелецкий хлеб, возили царских гонцов и всяких служилых людей, строили дворы воеводам, давали деньги в Приказную избу на свечи, бумагу и чернила, во время войны доставляли на свой счёт в войска даточных людей, ставили рабочих на казённые постройки и кормили их. А чуть в чём при исполнении бесчисленных тягот этих недохватка какая оказывалась, на мужика стаей голодных волков набрасывались приказные. Да и свои собственные выборные, земские люди, были, увы, по части грабежа и вымогательств нисколько не лучше приказных, и часто правительство приказывало воеводам оберегать мужика и от его выборных. И как венец всего – готовые каждую минуту «нещадные батоги», причем очень часто недоимщиков в государевых сборах забивали до смерти… Мудрено ли, что часто и крепкий мужик превращался при таких условиях в бессильного бобыля, в «невзгодника», «отбывал пашни» и исчезал в лесах? «Многие, государь, православные христиане по деревням едят оловину и сосну и ужовину – пишут сироты в одной челобитной – и от того твоя государева отчина Псков становится до остатка пуст». Мудрено ли, что воровские шайки – о подвигах их достаточно красноречиво говорят одинокие кресты по проезжим дорогам над погибшими от татей и разбойников – горели особенной ненавистью к богатеям и приказным и особенно жарко хотели больших и глубоких перемен во всём строе государства Московского? В шайках этих были и князья, и бояре, и даже люди ангельского чина, но больше всего было в них холопей и крестьян. «Полетел молодец ясным соколом, – говорится в старой сказке, – а Горе за ним белым кречетом. Молодец полетел сизым голубем, а Горе за ним серым ястребом… Молодец стал в поле ковылём-травой, а Горе пришло с косой вострою. Молодец пошёл пеш дорогою, а Горе под руку, под правую – научает молодца богато жить, убити и ограбити, чтобы молодца за то повесили или с камнем в воду посадили…»








