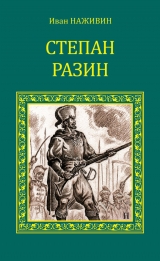
Текст книги "Казаки. Степан Разин"
Автор книги: Иван Наживин
Жанры:
Исторические приключения
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 28 страниц)
– Да это воевода… – смутился было возчик, сваливая у ямы свою страшную очередную кладь.
– Дык што ж что воевода?… – осклабился рябой Чикмаз, проявлявший всю эту ночь и весь день прямо какую-то дьявольскую энергию. – У нас, брат, все одинаковые. Только вот разуть его милость надо – гожи сапожки-то, сафьяновые… А кафтан очень уж в крови, не гожается…
И тучный воевода, князь Иван Семёнович Прозоровский, без сапог, нескладно размахивая руками и ногами, грузно свалился в яму, на кучу перепутавшихся окровавленных тел, над которыми оживлённо кружились уже металлически-синие мухи.
Степан пировал. То и дело голытьба приводила к нему изловленных врагов народных, и он только рукой отмахивался: на тот свет!.. Привели и двух немчинов: Бутлера, командира «Орла», и немца-хирурга.
– А ты что, сражался против казаков? – строго спросил он Бутлера.
У того просто язык отнялся: он смотрел в упор на дикое, пьяное лицо атамана и не мог выговорить ни слова.
– Осатанел? – засмеялся Степан громко, довольный, что он производит такое впечатление. – Подайте ему добрый стакан водки, авось очухается… А ты, живодер, – обратился он к хирургу, – иди лечи моих раненых… И ты иди на «Орёл»… Немцы они дошлые, пригодятся… – пояснил он своим собутыльникам. – Ну, не отсвечивайте…
А по взбудораженному городу уже ездили бирючи, объявляя, что в Астрахани вводится казачье устройство и чтобы весь народ сейчас же выходил на берег выбирать должностных лиц и принести крестное целование на верность новому порядку. Грабёж продолжался, во всех кружалах звенели гусли, свистели дудки и сопели, разливались волынки, стучали барабаны, дикие крики ошалелых от бессонной ночи, крови и вина людей, где-то горело, вороньё испуганно кружилось над городом, и среди невообразимого смятения, одни испуганно, другие радостно, астраханцы стягивались на берег. Торжественно верхами приехала вся – пьяная – старшина казачья. Атаманом городовым по крику казаков сразу был выбран Васька Ус, – несогласных не оказалось, – недолго канителились и с выбором других должностных лиц. А потом началась присяга великому государю и его атаману Степану Тимофеевичу и чтобы войску казацкому прямить и всякую измену выводить. В таборе Разина уже были свои «попы со кресты», которые служили, когда нужно молебны, отпевали мёртвых и прочее, но, чтобы дело шло поскорее, привлекли и попов городовых. Один из них, только что освобождённый казак из башни, рыженький отец Силантий, замялся было: в делах веры попик был щекотлив. Но новый порядок для укрепления своего требовал прежде всего суровой дисциплины, и по знаку Васьки Уса казаки схватили тощего попика и со смехом, раскачав, бросили его в Волгу…
Пока шло крестное целование, с кружал на телегах доставлены были бочки с вином. Целовальники, втайне обмирая, кричали, чтобы все подходили выпить… И вдруг на одной из телег выросла сильная фигура Степана. Он поднял руку. Возбужденный галдёж многотысячной толпы сразу спал. И Степан высоко поднял золочёный кубок и громко во весь голос грянул:
– За здравие великого государя!..
Толпа, яркая, многоцветная, восторженно заревела.
Степан одним духом опорожнил кубок и швырнул его в волны.
Толпа ревела…
Васька Ус опустил глаза: он был смешлив…
XXII. Новая власть
Прошёл шумный и богатый дуван. Было много крика, ссор и даже драк. Началось беспробудное пьянство… Несмотря на нестерпимую жару – степь точно горела, – Степан со своими есаулами и другой старшиной в богатых нарядах, на прекрасных конях ездил по городу и отдавал черни на муки всех тех, кто ей был неугоден, иногда потому, что в самом деле люди эти вредили в своё время беднякам, иногда и просто так. И людей резали, «сажали в воду», – то есть топили, – а иногда рубили им руки или ноги и так, обрубками, пускали их ползать на потеху пьяной от воли, водки и крови толпе. И новоявленные казаки, астраханские, посадские, свирепствовали много более казаков природных, сердце которых до некоторой степени привыкло уже к воле, уже насытилось местью и искало более всего благ материальных. Новички казаки не уставали требовать крови, а их жёны, бабы посадские, изводили жён убитых служилых и дворян «ругающе всячески и называюще изменничьими жёнами». И чтобы спасти себя, детей, близких, часто эти вдовы выходили поскорее замуж за казаков. Венчали, впрочем, не только вдов, но иногда и от живых мужей, как это было с женой приказного Алексеева, которая вышла замуж за какого-то казанца. А когда попы отказывались венчать такие пары, то их незамедлительно топили. Но всех лучше отличился новый астраханский воевода Васька Ус: он женился на вдове очень богатого гостя, за которой взял великолепное приданое.
Очень неистовствовали астраханцы против тезиков, то есть персов: им было невыносимо, что те позволили себе вмешаться в народное дело и выставили отряд конницы, который столько напортил повстанцам и которому толпа приписывала гибель Тимошки Безногого и Юрки Заливая. Да и вопче нехристи, сволочь… И толпа разнесла персидское посольство, перебила посольских и торжественно, с улюлюканьем и свистом, сожгла все посольские бумаги. А самого посла, толстого, сонного человека с короткой чёрной бородой, густой, как щётка, и носом в виде сливы, толпа привела к Степану. Степан – он был пьян – сам повёл перса на раскат.
– Что, бросать нас хочишь? – невозмутимо спросил перс, точно дело это до него нисколько не касалось. – Зачим? У нас, в Иран, много русски ясырь. Лутче меняй народ туда-сюда…
«А и в самом деле… – одумался Степан. – Ежели своих ослобонить из плена, какая слава про казаков пойдёт!»
Постояв с невозмутимым персом на раскате, Степан спустился с ним вниз, к очень разочарованной толпе, которая уже сладко предвкушала полет толстого тезика с раската.
– Ну вот, я попугал, ребята, тезика накрепко… – крикнул Степан. – А теперь мы его в Персию пошлем, на наших обменяем, которых они там в неволе держат… И больше тезиков не трогайте: все на обмен пойдут… Что же, не давать же душам христианским погибать в неволе у неверных?… Не по-казацки это будет…
– Пррравильна!.. – закричали пьяные голоса. – Вот так да… Ай да атаман!.. А мы припасли было тебе ещё одного для раската… Во, гляди…
Перед Степаном, оборванный и окровавленный, стоял, с ненавистью глядя на него исподлобья своими прелестными чёрными глазами, Шабынь-Дебей, брат несчастной Гомартадж, так на неё похожий. Сердце шевельнулось жалостью. Но не должны думать казаки, что им могут руководить какие-то личные привязанности и соображения. И каким волчонком смотрит!.. И он крикнул:
– Этот наших под Свиным островом много побил… на крюк под ребро и на стену!..
Толпа с рёвом и свистом поволокла Шабынь-Дебея на стену, и Ларка – он был неутомим, этот щуплый парень с бегающими глазами, – принёс бегом из Пыточной башни железный крюк на верёвке. Через несколько минут Шабынь-Дебей, стиснув зубы и закатив глаза, уже висел со стены на этом крюке, поддетым под рёбра. Кровь быстро, капля за каплей, падала вниз на привядшую от жары и запылённую траву…
А Степан уже сидел со своими в ближайшем кружале и «поддавал на каменку» ещё и ещё. Теснота, вонь и гвалт кружала никого не стесняли. За одним из столов казаки грохотали, слушая неимоверную похабщину, которую нёс, по обыкновению, Трошка Балала; там двое, обнявшись, налаживали песню, и всё сбивались, и всё укоряли один другого в неумении петь; а там дальше остервенело дулись в засаленные карты, стучали кулаками по столу и свирепо матерщинничали. За соседним с атаманским столом пили выпущенные из тюрьмы сидельцы. Степан и старшины, смеясь, прислушивались к их рассказам.
– Ещё летось были мы все у Антошки Плотникова на беседе и напились все покуда некуда… – весело кричал один посадский, бородатый, развертистый мужик с хитрыми глазами, очень довольный, что его слушает сам атаман. – И учал меня Сенька, сторож тюремный, с пьяных глаз лаять. А я ему и молыл: мужик-де, про что меня лаешь? Бороду я тебе за это выдеру… А он, Сенька, и говорит: не дери-де, моей бороды, потому мужик-де, я государев и борода моя государева… А как на грех приказный тут подвернись, крапивное семя: как это ты-де, мужик, такие неподобные слова про государя выражаешь? А? У тебя борода государева?… Ну и поволокли нас обоих на съезжую да на кобылу и давай драть, давай… Вот тебе и борода государева!.. Все задрожало раскатистым хохотом.
– Нет, это что, твоя борода государева!.. – вмешался Петрушка Резанов, тоже острожный сиделец, с низким лбом и очень редкой бородёнкой и усами. – Вот у нас в Самаре так случай был!.. Сидел я как-то при съезжей, в тюряге: повздорил со стрельцом Федькой Калашниковым да по пьяной лавочке как-то и уходил его ножом на тот свет. Вот и посадили… И вдруг, братцы вы мои, входит это Ивашка Распопин, стрелец, тоже пьяный, и давай меня вязать и всякою неподобною лаею лаять. А я ему и говорю: пошто меня лаешь? Я-де буду на тебя государю челом бить. А он, Ивашка-то поднёс мне к самому носу дулю да и молыл: вот-де, тебе и с государем твоим!..
Все захохотали.
– Да нет, погоди!.. – остановил Петрушка. – Это только присказка, а сказка будет впереди… Ну, послали это приказные дело наше в Москву разбирать, и вот приходит, братцы, оттедова решение: бить Федьку Калашникова батоги нещадно…
– Как Федьку?!.– загрохотали все. – Мёртвого?!.
– Да… – захохотал и Петрушка. – В Москву пошло ведь два дела: одно об смертоубийстве мною Федьки, а другое об том, что мы с Ивашкой Распопиным в сваре царя негоже задели, а дьяк спьяну, знать, перепутал всё в одно и присудил всыпать Федьке мёртвому батогов!..
– Ну, и что же?… – заинтересовался Степан.
– Да уж не знаю, атаман, вырывали они Федьку из могилы, чтобы драть, али нет, ну только наше дело насчёт дули его царскому величеству на том и заглохло…
Все хохотали.
– Насчёт царя и у нас в Астрахани большая строгость была… – начал один с горбоносым, точно верблюжьим лицом. – О Святой поругался у нас сынчишко боярский, Иван Пашков по прозванью, – его третьевось в погребе казаки придушили, за бочкой спрятался, – поругался с Нежданом, дьячком церкови Афанасия и Кирилла. Пашков и кричит дьячку: что я-де с тобой растабарывать буду?… Чей-де ты?… А дьячок, не будь дурак, и говорит: я-де Афанасия да Кирилла церковный дьячок… А ты-то вот чей? А Пашков кричит: а я-де холоп государев, а наш-де государь повыше твоего Афанасия да Кириллы будет!.. А дьячок ему напротив того: государь-де хошь и земной бог, а все же Афанасию да Кириллу молится… Разобиделся мой Иван на это слово да в драку… И здорово пощипались… И пошло это дело в Москву, братцы мои, а оттуда вышло решение: боярского сына бить батоги, потому брагу пей, а слов таких не выражай, а дьячка бить – потому ж…
И опять все захохотало.
И вдруг Степан, весь красный, с посоловевшими уже глазами, треснул своим огромным кулаком по столу. Сразу всё смолкло. И он пьяно крикнул:
– Раньше они нас судили, – он завязал непотребное ругательство, – а теперь мы их судить будем! Ты, есаул, возьми с собой двух казаков при оружии и иди на митрополичий двор – там у старого чёрта, митрополита, вдова воеводы скрывается с двумя в…ками своими. Так ты возьми старшего и веди сюды… Живво!..
Есаул – то был Федька Шелудяк, мозглявый, но злой мужичонка с лысой головой, всегда покрытой какими-то болячками, – с двумя казаками вышел тотчас же на жаркую и пыльную улицу. В кружале продолжалась шумная попойка. Питухи старались превзойти один другого в молодечестве, жестокости и всяческом непотребстве и были довольны, что подвиги их видит сам атаман. Хмель всё сильнее туманил казацкие головы, и что-то тёмное и зловещее бродило и нарастало в царёвом кабаке.
– А вот они… Наше вам!..
В кружало в сопровождении Федьки Шелудяка и казаков вошёл молодой Прозоровский. Его простоватое лицо и оттопыренные уши очень напоминали отца. Он нерешительно оглянулся вокруг.
– Подойди сюда и держи мне ответ!.. – строго крикнул Степан. – Говори: куды девал твой отец таможенные деньги, которые собирал он с торговых людей? Мне сказывали, что он завладел ими и промышлял на них…
– Никогда мой отец этими деньгами не корыстовался… – ломающимся голосом, краснея, сказал юноша. – Эти деньги собирались всегда таможенным головой, а он сдавал их в казённую палату, а принимал их подьячий денежного стола Алексеев с товарищи. Все эти деньги пошли на жалованье служилым людям: из Москвы давно присылу не было…
– Позвать сюда подьячего!.. – крикнул Степан. – А ты постой…
Через некоторое время привели Алексеева, на молодой и миловидной жене которого только что повенчался один из казаков. Алексееву было лет тридцать. Это был невысокого роста человек с серыми мечтательными глазами, теперь бледный и запуганный. Слабым голосом, испуганно оглядываясь вокруг, Алексеев подтвердил всё, что сказал княжич Борис.
– А где ваши животы? – строго спросил Степан юношу.
– Животы наши твои люди пограбили… – сдвинув в усилии, чтобы не струсить, брови, отвечал Борис– Их все свезли по твоему приказанию в Ямгурчеев городок на дуван…
Степану не понравилась «гордость» юноши.
– Крюк под ребро!.. – скомандовал он. – Так рядом с персюком пусть и повесят… А мне подайте сюда меньшого щенка…
Пьяные казаки одни повели Бориса к Ларке, а другие опять бросились на митрополичий двор. Они вырвали восьмилетнего Мишу из рук обезумевшей матери и повели его в кружало. Степан оглядел миловидного перепуганного ребенка.
– Повесить за ноги рядом с братом… – решил он так уверенно, что всем стало совершенно ясно, что одного, действительно, надо было повесить под ребро, а другого за ноги. – И подьячего на крюк!..
Ларка с величайшим усердием выполнил возложенное на него поручение. Рядом с истекающим кровью Шабынь-Дебеем повис Борис, потом Алексеев, а рядом с Алексеевым, головой вниз, висел меньший из братьев. Шитый подол его светлой рубашечки прикрывал его надувшееся и обезображенное от прилива крови личико… Вороны перелетывали по зубцам стены и с любопытством присматривались к операциям Ларки.
Попойка продолжалась…
А наутро – 12-го июля – Степан с есаулами в дорогих кафтанах, при оружии направились верхами в собор: был день тезоименитства царевича Феодора Алексеевича, и Степан со старшиной решил отметить его празднованием. И никто толком не понимал, морочит ли Степан народу голову или делает всё это всурьез. Отстояв обедню, вся старшина направилась в митрополичьи покои. Толстый Иосиф принял их поздравления и посадил угощать. Седая голова старика тряслась более обыкновенного.
– Это она у него от жадности трясётся… – улучив удобную минуту, шепнул атаману, скаля белые зубы, Васька Ус.
– Вот мы скоро на Москву пойдём с боярами повидаться, так ты прощупай, где у старого кощея что складено… – отозвался Степан тихонько.
– Своего не упустим!.. – сказал Ус– Он старик, ему всё одно ничего уж не нужно…
Когда Степан, хорошо выпив и закусив, выехал в сопровождении своей блестящей свиты с митрополичьего двора, его обступила большая толпа посадских людей, в которой было немало и баб. Бабы смотрели на Степана с некоторым недоверием – в постные дни, сказывают, говядину жрёт, а когда за стол садится, лба николи, как басурманин какой, не перекрестит, – а с другой стороны, его яркая и сильная мужественность брала их сразу точно в плен какой.
– Ну, в чём опять дело? – с важностью спросил Степан.
– А в том, что много которые из дворян да приказных попрятались… – вперебой загалдели посадские. – Нужно все дворы с обыском пройти и всех их переловить… Есть такие живодёры, как только их мать-сыра земля носит… Ежели подойдут к Астрахани царские войска, они первые неприятели тебе будут…
– Ну, ну, ну… – не без строгости прикрикнул Степан, который не всегда любил это вмешательство людей сторонних в дела власти. – Это дело городового атамана, а не ваше… Погуляли, пошалили досыта, а теперь и за работу время…
– Да мы нешто что!.. – загалдела толпа, и женские голоса были заметно слышнее. – Мы для тебя же стараемся… Потому лиходеев этих под метёлочку выметать надо, а то опять расплодятся…
– Ну, вот казаки скоро на Москву двинут, а вы тут с вашим атаманом наводите порядок, как хотите… – сказал Степан, трогая лошадь. – Мы здесь гости, а хозяева вы…
И долго ещё галдела на улице возбуждённая толпа.
Старшина ехала вдоль крепостной стены. Казнённые всё ещё висели на зубцах. Шабынь-Дебей был бледен как смерть и, изогнувшись точно в судороге, не шевелился, но видно было, что он еще жив. Подьячий Алексеев уже умер. Живы были и оба мальчика. Старший мучительно стонал. Вороны все смелее перелетывали по зубцам ближе к казнённым.
– Ну вот что… – решил вдруг Степан. – Старшего воеводенка снимите и сбросьте с раската вслед за отцом, чтобы не фордыбачил, а младшего постегайте розгами и отдайте потом матери, чтобы рос да казацкую науку помнил… А те два пущай висят…
Несколько казаков спешились и, вызвав Ларку из Пыточной башни, взялись за выполнение приказания атамана. Степан тронул было лошадь, как вдруг какая-то женщина с искажённым, сумасшедшим лицом, с развевающимися седыми волосами, бросилась на колени перед его лошадью.
– Батюшка… государь… смилуйся над старухой!..
– В чём дело? Что такое?… – сдерживая испугавшуюся лошадь, строго спросил Степан.
– Батюшка, я – мать… Алексеева мать… подьячего… – она захлебнулась рыданиями. – Он уже помер, соколик мой… Единственный был… Пожалей бабу старую: прикажи мне хоть тело его отдать на погребение… А-ха-ха-ха-ха-ха… – закатилась она рыданиями, падая под ноги лошади. – Батюшка!
– Эй, казаки… – крикнул Степан на стену, где уже возились около казнённых казаки. – Отдайте старухе ее приказного…
И казаки поехали мимо бьющейся в пыли старухи. И звонко отдавалось в стенах цоканье лошадиных копыт. На стене, на фоне бледного, точно выжженного неба, все возились казаки. Вороны перелётывали недовольно по зубцам…
XXIII. На Москву
Наступило 20-е июля.
С самого раннего утра стояла палящая жара. Несмотря на это, в Астрахани царило необычайное оживление, а в особенности на берегу, где казаки заканчивали погрузку челнов, а конница небольшими частями переправлялась на правый берег. Скрип телег, ржанье лошадей, крепкая ругань и крики, пьяная песня, смех, стук топоров, мерные всплески вёсел, заливистый свист, всё это смешивалось в один беспорядочный и возбуждающий звук. Наконец все приготовления были закончены.
– Батьки, молебен!..
И всегда и всему благопослушные батюшки запели и закалили, прося Господа о помощи казакам и о покорении под нози всякого врага и супостата. Через какие-нибудь полчаса казаки сидели уже в молчании по своим челнам. Около роскошного атаманского «Сокола» стояли астраханские старшины: Васька Ус, городовой атаман и его два товарища, злой Федька Шелудяк и Иван Терский, с его бритой по татарской моде головой и густой рыжей бородой во всю грудь. За ними стояли толпой посадские, усеявшие весь берег.
– Ну, счастливого пути!.. С Богом…
– Счастливо оставаться!.. Мотрите не забудьте прислать нам с оказией московских калачей… Га-га-га-га…
Степан, ещё раз низко поклонившись астраханцам, вошёл на «Сокола» и среди общих криков и приветствий казацкие челны, – их было более двухсот, – сверкая вёслами, вытянулись по реке. На том берегу чёрной лентой запылила конница, в которой было до двух тысяч всадников… И не отошли струги от города и версты, как все гребцы сбросили одежду, и всё же голые, точно бронзовые от загара тела их были мокры от пота. И уже около десяти утра они пригребли к правому берегу и стали станом, выкупались, поели, и старшины решили днём спать, а плыть ночью, по холодку. И наглотавшаяся в выжженной степи пыли конница была рада такому решению. Но и не спалось: так было жарко. И казаки от скуки пробовали ловить рыбу, давили вшей, вяло чесали языки, зевали и томились…
И когда, наконец, над степью запылала заря и от почерневших бугров правого берега пали на широкую гладь светлой реки прохладные, длинные тени, снова стаей птиц перелётных покрыли реку казачьи струги и снова конница ушла в степь. И потухла заря, и вызвездило, и алмазным серпиком стал над рекою месяц, и пенилась взбудораженная Волга под сильными дружными ударами казацких вёсел. Пробовали петь, но не вышло: эта первая ночь на походе в неизвестное вызывала уши на тишину, на сосредоточенность и задумчивость, и тихи были все, от атамана, который лежал на персидском ковре на корме своего «Сокола», до Трошки Балалы, которого никто не хотел теперь слушать.
Через три дня сделали передышку, и попили винца в Чёрном Яру, и ударили на Царицын.
– Матушки мои, кормилицы, глядите-ка, какая их сила идет!.. – в восторженном ужасе повторяли с сияющими лицами царицынцы, выбегая на берег. – И не сосчитаешь, право слово… А берегом то, глядите-ка, конные идут… Вот так Степан Тимофеич!.. Это можно чести приписать…
В воеводских хоромах шла тем временем жаркая ссора.
– Да я ж тебе говорю, что дальше Самары я не пойду с ними… – в сотый раз нетерпеливо повторял Ивашка Черноярец своей милой, которая с гневными слезинками на глазах решительно стояла перед ним. – Схожу с ребятами в Усолье посчитаться с кем надо, и назад… Сердце не позволяет мне так оставить это дело… Ну?
– Знаем мы эти ваши Усолья-то!.. – дрожащим голосом повторяла Пелагея Мироновна. – Ты городовой атаман и сиди на своём атаманстве, а таскаться тебе с ними нечего… Усолье – придумает тожа!.. А ежели я надоела тебе, так прямо и скажи, а не придумывай своих Усольев…
– Ах!.. – махнул рукой Ивашка. – Свяжешься с бабой и сам бабой станешь…
В душе он, однако, был польщен любовью своей лапушки, которую и он любил накрепко и чем дальше, тем всё больше.
– Я тебе говорю… – рассудительно начал он.
– И говорить нечего… – уже навзрыд плакала Пелагея Мироновна. – И вот тебе моё последнее слово: ты пойдёшь с казаками и я пойду, переоденусь казаком и пойду…
– А ну, попытай!..
– И попытаю!..
– А ну, попытай!..
– И попытаю!.. Ишь ты, воевода какой выискался!..
Ивашка в бешенстве, пристегнув дрожащими руками саблю, схватил шапку и бросился вон: струги уже подходили к берегу и весь Царицын был у воды. А Пелагея Мироновна стала у косящата окошечка и сквозь злые слёзы смотрела вслед своему атаману.
– Что ты? Полнока!.. – тихонько подобравшись к ней, проговорила бабка Степанида. – Рай ты не видишь, что он без тебя и часу не дышит?… А ты убиваешься!..
– Да… – всхлипнув, отвечала Пелагея Мироновна. – Его вон нелёгкая в Самару несёт, а я тут сиди одна… А… а у него там, может, зазноба какая есть…
– Какая зазноба? Что ты, окстись!.. Да он с тебя глаз не сводит… – утешала старуха. – А ежели и вправду что есть, так и мы ведь тоже не лыком шиты: только мигни баушке Степаниде глазком одним и такого-то Иван-царевича опять приведу, что…
Разом высохли слезы. Перекошенное бешенством, заплаканное лицо вмиг обернулось к старухе.
– Вон!.. Чтобы и духу твоего, ведьма старая, здесь не было!..
– Матушка, Пелагея Мироновна…
– Вон!..
– Лебёдушка…
– Вон!.. Ах ты змея подколодная!.. Вот погоди, придёт атаман, я расскажу ему и…
– Родимка моя…
– Вон!.. Чтобы и не смердело тут тобой…
И старуха, творя молитву, вылетела из терема.
– А-а-а-а… – заголосило на берегу радостно. – А-а-а-а…
То славный атаман Степан Тимофеевич ступил на берег. Он, сняв шапку, кланялся на все стороны. Толпа восторженно ревела.
Казаки, разодетые, при оружии, ловко выскакивали на песок. Царицынцы радушно помогали им причаливать струги. Из городских ворот, блестя ризами, иконами и хоругвями, под перезвон колоколов, медленно полз с пением крестный ход. Казаки усердно крестились, благодаря Господа за благополучную путину.
– Ну, что, как у вас? – тихо спросил Степан у Ивашки, снимая перед иконами шапку.
– Всё слава Богу… – так же тихо отвечал тот. – Тут старец один поджидает тебя… Говорит, что от самого патриарха Никона… Чёрт его знает, может, насчёт патриарха-то он и хвастанул, ну а только старик занятный: тебе надо будет потолковать с ним…
– Вот погоди, только с попами разделаюсь… – сказал Степан и широкими шагами направился среди почтительно и любовно расступавшейся перед ним толпы навстречу крестному ходу.
Он достоял короткий молебен, приложился ко кресту и получил благословение. За ним длинной вереницей потянулись и казаки. Из-за угла стены живой змеёй, звеня оружием и конным прибором, спускались в облаке пыли конные казаки, во главе которых шёл на чудесном сером коне поджарый, стройный Ерик и толстый, багровый, весь в поту, Тихон Бридун.
Казаки ещё не кончили благодарить Господа за благополучное начатие дела, а Степан с Ивашкой Черноярцем и старшинами сидел уже в казачьем городовом управлении, которое помещалось в Приказной избе. Как ни ненавидели казаки и вообще весь чёрный люд всякую бумагу, все же там сидели уже за длинными столами писаря из бывших подьячих и, склонив головы набок, усердно строчили какие-то грамоты: разрушить, как оказывалось, можно всё, кроме приказного и бумаги. И уже собирали потихоньку приказные добровольные приношения, – кто себе, а кто Богу на масло. И, спуская их в глубокий карман, приговаривали приказные:
– Ничего… Хоть стыдно, да сытно… Хе-хе-хе-хе…
Степан разом вымел их всех вон, и вся старшина уселась за стол воеводы, за которым, так недавно, казалось, сидел Андрей Унковский, ныне славный начальник Панафидного приказа на Москве.
– Ну, старшины, времени терять нам не приходится… – сказал Степан. – Куй железо, пока горячо, как говорится… Мы и то маху дали, что вышли в поход поздненько. Так надо поправляться и до заморозов постараться пройти дальше. Астрахань утвердили мы за собой накрепко: народ там наш и душой, и телом, ратная сила оставлена и Васька Ус не выдаст. Теперя надо нам закрепить за собой также и Дон, чтобы богатеи там больше не верховодили, а чтоб вся власть была за нами… Ну вот и порешил я отправить туда немедля две тысячи человек. Атаманами будете над ними ты, Фрол Минаев, и ты, Яков Гаврилов. И заберёте вы с собой всю нашу казну войсковую: мы на пути найдём у воевод всё, что нам надобно. Вы казну казацкую будете беречь паче зеницы ока, но всё же людям денег не жалейте, собирайте силу. Спишитесь и с Серком, и с Дорошенком. Он, дурак, с салтаном всё возжается. А вы на это дело не идите, а его от салтана отманивайте. И вот мы с Волги тряханем Москвой, а вы, ежели довольно силы наберёте, поддержите нас по моему приказу, не раньше, с Украины, а то, может, и мы, если скоро в Москве будем, поддержим черкассцев с Москвы и против салтана турского, и против чёртовых ляхов этих…
Все минуту молчали: экая голова!.. Вот орёл!..
И запылали казацкие сердца огнём буйного воодушевления.
– Так все согласны? – спросил Степан. – Тогда и кругу так скажем…
– Чего ещё?… Лучше и не придумаешь…
– Ну, так не будем и мешкать… Ты, Минаев, и ты, Гаврилов, обдумайте, кого вы с собой на Дон заберёте, и все способа сообразите. И готовьте челны и всё, что надо. А к казне нашей людей повернее приберите…
– Ладно уж… Понимаем…
– А теперь, ребятушки, казакам и обедать пора… Да и нам не грех перекусить, а то в брюхе-то уж донские соловьи поют… Вы идите там налаживайте, а мне надо только старца одного повидать. С Москвы пришёл… Я не замедлю. И глядите, чтоб пьяных не было: не время. Запоздали мы маленько, навёрстывать надо… Где у тебя старик-то, атаман? – обратился он к Ивану.
– Сичас приведу…
Старшины, переговариваясь озабоченно, пошли по своим делам. Степан в задумчивости широко шагал по покою. Но тотчас же вернулся Иван. За ним шёл старец, рослый, широкоплечий, с грубым и суровым лицом и седеющей бородой. Один глаз его заволакивала бледная плёнка бельма. Одет старец был в пропотевший и порыжевший подрясник и чёрную скуфеечку. Степан пристально и строго посмотрел ему в лицо. Так же пристально и строго, точно взвешивая, смотрел на него одинокий глаз старца.
– Ну, здрав буди, старче… – сказал, наконец, Степан. – Не знаю уж, как величать тебя по имени, по изотчеству…
– Раньше отец Смарагдом величали… – басисто откашлявшись, отвечал старец. – Великий государь, патриарх московский и всея Руси Никон велел тебя, славного атамана, про здоровье спрашивать…
Степан низко поклонился.
– Как его святейшество здравствует? – сказал он почтительно.
– Здоровье отца нашего патриарха Никона, благодарение Господу, хорошо… – сказал старец. – Но живёт он в утеснении великом и в обиде…
– Всё по-прежнему на Белом озере?
– Всё по-прежнему на Белом озере, в Ферапонтовой монастыре… – отвечал старец. – И ещё велел патриарх говорить тебе, что тошно ему от бояр, которые опять, того и гляди, царя изведут, как извели они царевича Дмитрия в Угличе, а другого Димитрия на Москве, а потом Бориса Фёдорыча с потомством. И теперь опять то же начинается: не успела преставиться царица Марья Ильинишна, вслед за ней сичас же царевич Михаила помер, а за ним и царевич Алексей. Весь корень царский извести опять хотят, видно… И сказывает патриарх тебе, чтобы поспешал ты Волгой вверх, как можно, а у него тоже свои люди в верховых городах есть готовы, а по монастырям везде казну великую собрать можно…
Степан пытливо смотрел в лицо старца. В то, что он послан патриархом, Степан не особенно верил, но мужик, видно, смелый, и кое-что с ним сотворить можно будет. Конечно, бешеный Никон пойдёт на многое, чтобы рассчитаться с ворогами своими, конечно, в случае первых успехов Степана найдёт опальный патриарх немало людей, которые станут вместе с ним против бояр московских, но с другой стороны, очень ведомо было Степану, что в народе и в казачестве многие ненавидели Никона за его нарушение святоотеческих обычаев и многие его даже антихристом почитали… Дело было головоломное, но что-то было в нём такое, что подсказывало, что подумать над ним стоит…
– Спасибо, отец Смарагд… – сказал Степан. – Мы с тобой ещё о том деле потолкуем. А теперь пойдём с нами казацкой хлеб-соли откушать, а то мои казаки, когда голодны, сердиты бывают. Ты как водочку-то, вкушаешь?
– Во благовремении отчего же?…
– Ну, вот… Значит, и выпьешь с казаками за начатие дела… Идем, Ивашка…
– Вы идите, – отвечал Черноярец, – а я только к себе забегу табаку взять…
Его сердце ныло. Ему было жаль своей лапушки. Ему хотелось приголубить её, утешить, успокоить. Он быстро вбежал на крыльцо, в сени, в терем, и не успел отворить дверь, как Пелагея Мироновна бросилась ему на шею:
– Сокол ты мой!.. Ванюша…
И мягкие, жаркие губы, поцелуй которых всегда так пьянил его, уже искали его губ.
– Лапушка ты моя… Радость бесценная…
– Дай мне крест, что никакой зазнобушки нет у тебя там.
– Есть у меня только одна зазноба… – жарко обнял он её. – Вот она!








