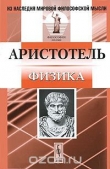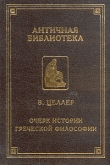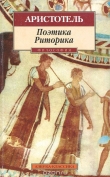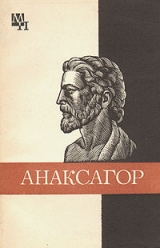
Текст книги "Анаксагор"
Автор книги: Иван Рожанский
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
С вопросом о противоположностях связано и третье возражение Аристотеля – что у Анаксагора состояния и случайные свойства могут быть отделены от субстанций (ибо если имеется смесь каких-то вещей, то они могут быть и разделены). Аристотель явно не хочет вставать на точку зрения, которая с самого начала представляется ему неверной. У Анаксагора независимостью по отношению к «субстанциям» (т. е. к качественно-определенным веществам) обладают не всякие свойства, а лишь такие состояния, которые определяются противоположностями влажного и сухого, теплого и холодного и им подобными; прочие же свойства – геометрические формы, цвета, вкусы и запахи – неотделимы от субстанций и не имеют самостоятельного бытия. Для Аристотеля же такое разделение на два класса того, что он считал качествами субстанций, было неприемлемо, и вот, желая показать нелепость анаксагоровской идеи первичной смеси, он заменяет указанные пары противоположностей «состояниями и случайными свойствами».
Между тем все говорит о том, что анаксагоровские противоположности обладают самостоятельным бытием и относятся к разряду «существующих вещей» наряду с качественно-определенными веществами (аристотелевскими подобочастными). Это означает, что к ним применимы основные принципы анаксагоровской теории материи – принцип сохранения, принцип универсальной смеси и принцип преобладания.
Действительно, общее количество теплоты или холода, если трактовать их не как свойства вещей, а как самостоятельные сущности, остается в мире постоянным; может меняться только их соотношение в каждой данной вещи (или данной точке пространства). Это относится и ко всем прочим парам противоположностей.
Далее, во всякой вещи, как бы мала она ни была, обязательно присутствуют оба члена пары. Не может быть такого случая, чтобы вещь содержала в себе только тепло и совсем не содержала холода, ибо, как пишет сам Анаксагор, «не отделены друг от друга вещи, находящиеся в едином космосе, и не отсечено топором ни теплое от холодного, ни холодное от теплого» (фр. 8).
Имеется и другое свидетельство, указывающее, что принцип универсальной смеси распространяется Анаксагором не только на качественно-определенные вещества, но и на противоположности. В одном из текстов, относящихся к поздней античности (в схолиях к Григорию Назианзину), содержится интересный комментарий к учению Анаксагора:
«Отыскав древнее учение, что ничто не возникает из вовсе не существующего, Анаксагор отвергнул возникновение, ввел же вместо возникновения разделение. Ведь он болтал вздор, будто все было смешано друг с другом, а затем стало разделяться, возрастая. А именно в одном и том же зародыше находятся [будто бы] и волосы, и когти, и вены, и артерии, и сухожилия, и кости, причем они невидимы из-за малости частей, возрастая же, понемногу разъединяются. „Ведь каким образом, – говорит он, – из не-волоса мог возникнуть волос и мясо из не-мяса?“» (26, 296).
Последняя фраза считается подлинной цитатой из Анаксагора; она получила обозначение десятого фрагмента. Но затем автор приведенного текста распространяет принцип универсальной смеси также и на противоположности: «Он говорит это не только о телах, но и о цветах, ибо, [по его мнению], в белом имеется черное, а в черном – белое. То же самое он полагал о весе, думая, что к тяжелому всегда примешано легкое, а к легкому – тяжелое» (там же).
Здесь, по-видимому, допущена следующая неточность. В фрагментах Анаксагора нет противоположностей белое – черное и легкое – тяжелое; мы находим там близкие пары светлого и темного, а также редкого и плотного. Видимо, именно их мел в виду автор схолий. Но это для нас в данном случае не так уж существенно. Важно то, что в этом тексте подтвержден принцип универсальной смеси как для качественно-определенных веществ, так и для противоположностей.
Что касается третьего принципа – принципа преобладания, то он для противоположностей представляется очевидным: ясно, что тело будет казаться теплым, если теплота в нем будет преобладать над холодом, и наоборот. То же относится и к другим парам.
Итак, в иерархии бытия качественно-определенные вещества и противоположности сухого – влажного, теплого – холодного и т. д. занимают сходное положение: и те и другие относятся к категории «существующих вещей», т. е. обладают рядом признаков истинного бытия в парменидовском смысле. И те и другие подчиняются принципам, общим для всех «существующих вещей». При всем этом, однако, между ними имеется существенное различие. В то время как вещества, будучи смешаны друг с другом, все же обладают протяжением и образуют частицы (семена), каждая из которых занимает в пространстве какое-то конечное место, противоположности не имеют особого протяжения, отличного от протяжения семян, и не занимают своего места. Они находятся не рядом с семенами, а в самих семенах; они скорее пронизывают или пропитывают их, как если бы они были состояниями или свойствами семян. Будь семена частицами, разделенными пустыми промежутками, подобно атомам Демокрита, тогда можно было бы говорить, что эти промежутки заполнены не частицами материи, а противоположностями (подобно эфиру или полю современной физики, заполняющему пространство между элементарными частицами). Но таких промежутков, согласно теории Анаксагора, не может быть; их допущение противоречило бы принципу универсальной смеси, так как означало бы существование участков пространства, в которых находились бы не все вещи.
Но Анаксагор не ограничивался теоретическим обоснованием невозможности пустого пространства; согласно свидетельству Аристотеля (Физ. 6, 213а 25), он производил опыты с кожаными Мехами и клепсидрами (водяными часами. – И. Р.), имевшие целью показать, что пустоты не существует. Аристотель правильно говорит, что эти опыты не достигают цели: они доказывают только, что воздух есть нечто вещественное, а не то, что пустоты нет. Но сам по себе факт постановки таких опытов заслуживает внимания как один из предвестников экспериментального метода в естествознании.
Что же касается противоположностей, то их правильнее всего было бы отождествить с понятием «силы» («способности»), обозначавшимся по-гречески термином dynamis. Этот термин употреблялся в таком значении, по-видимому, задолго до Анаксагора; им пользовался Алкмеон; мы встречаем его в поэме Парменида, и наряду с такими понятиями, как physis (природа) и chymos (сок), он составлял неотъемлемую принадлежность медицинской терминологии. Этот вопрос был хорошо проанализирован американским ученым Г. Властосом в его статье о физической теории Анаксагора, хотя мы и не можем присоединиться ко всем выводам автора этой статьи (см. 76). Так, Властос полагал, что Анаксагор принимал бесчисленное множество первичных противоположностей, включавшее, в частности, все цвета и вкусы (белое и черное, сладкое и горькое и т. д.). Мы же считаем в соответствии со свидетельствами самого Анаксагора, что цвета и вкусы, так же как и геометрические формы (независимо от того, можно ли их представить в виде пар противоположностей или нет), относились к свойствам семян, задавая им качественную определенность; что же касается противоположностей, имевших статус «существующих вещей», то их, вероятно, было столько, сколько называет сам Анаксагор. Это – сухое и влажное, теплое и холодное, светлое и темное, редкое и плотное.
Естественно возникает вопрос: для чего понадобилось Анаксагору выделять эти несколько пар противоположностей из множества прочих свойств и качеств и придавать им особый онтологический статут? Для ответа на этот вопрос надо будет обратиться к проблеме четырех стихий. Выше мы уже касались этой проблемы, указывая на всегда существовавшую в греческой философии связь между такими противоположностями, как теплое и холодное, и четырьмя стихиями. Теперь мы посмотрим, как реализовалась эта связь в теории материи Анаксагора.
Следует подчеркнуть, что четыре традиционные стихии – огонь, воздух, вода и земля – не играли в теории Анаксагора особо важной, принципиальной роли. Нечто аналогичное, впрочем, имело место и в атомистике. Как свидетельствует Аристотель, в учении Демокрита только атомам огня (которые были у него тождественны с атомами души) приписывалась определенная, выделенная форма, а именно шаровидная. Прочие стихии были у Демокрита «панспермиями фигур» (Физ. Г 4, 203a 20), т. е. смесями атомов всевозможных форм. Различия же между воздухом, водой и землей имели, выражаясь современным языком, чисто статистический характер: воздух состоял преимущественно из более мелких и сравнительно более гладких атомов, земля – из более крупных, тяжелых и шероховатых, вода же занимала промежуточное положение между ними.
Сходную картину мы имеем у Анаксагора – с той только разницей, что и эфир (бывший у Анаксагора синонимом стихии огня) оказывается здесь таким же собранием всевозможных семян, как и воздух. Приведем две совершенно недвусмысленные цитаты из Аристотеля, в которых точка зрения Анаксагора противопоставляется учению о четырех элементах Эмпедокла. Теория элементов Анаксагора прямо противоположна теории Эмпедокла. Последний утверждает, что огонь, земля и рядоположные им тела суть элементы тел и что все тела состоят из них; Анаксагор, наоборот, – что подобочастные вещества (т. е. мясо, кость и все подобное) – элементы, а воздух и огонь – смеси этих и всех остальных «семян», поскольку и тот и другой представляют собой скопление всех подобочастных [телец], невидимых [вследствие малости], – этим и объясняется, почему из этих [двух тел] возникает все («эфир», по его терминологии, то же, что огонь) («О небе» Г 3, 302а 25–302Ь 5).
Другая цитата: «Совершенно очевидно, что последователи Анаксагора и Эмпедокла говорят противоположные вещи. Эмпедокл утверждает, что огонь, вода, воздух, земля – это четыре элемента, и притом более простые, чем плоть, кость и сходные с ними подобочастные. Последователи же Анаксагора считают простыми [телами] и элементами эти [подобочастные], землю же, огонь, воду и воздух признают составными, поскольку они представляют собой смесь всевозможных семян этих [подобочастных]». («О возникновении и уничтожении» А 4, 314а 20–25).
В обоих случаях Аристотель допускает некоторую неточность, смешивая понятия подобочастных и семян. Именно эта неточность и побудила позднейших доксографов и исследователей отождествить оба понятия, о чем мы говорили выше. Но если учесть, что каждое семя представляет собой смесь всех подобочастных (качественно-определенных веществ), причем по своим свойствам оно оказывается подобным тому из подобочастных, которое в нем преобладает, то можно будет согласиться, что эта неточность не имеет принципиального значения.
В целом же свидетельства Аристотеля о том, что стихии у Анаксагора не элементарны, но представляют собой «панспермии», т. е. смеси всевозможных семян, представляются слишком определенными и недвусмысленными, чтобы их можно было с ходу отвергать. Между тем многие ученые нашего времени, начиная с Таннери, поступают именно таким образом, утверждая, что Аристотель не понял и грубо исказил мысли Анаксагора. Так, Таннери пишет: «…говорить вместе с Аристотелем, что огонь состоит из гомеомерий, подобных гомеомериям мяса и костей, – значит совершенно искажать мысль Анаксагора» (31, 277).
Вместо этого Таннери выдвигает гипотезу, что стихии представляют собой комбинации всех противоположностей, упоминаемых в анаксагоровских отрывках; отличаются же они друг от друга преобладанием тел или других членов соответствующих пар. «Огонь, – пишет Таннери, – самое блестящее, самое теплое, сухое и тонкое вещество, тем не менее он всегда содержит в себе темное, холодное, влажное, тяжелое…» (там же). Что же касается семян, или аристотелевских гомеомерий, то они, по мнению Таннери, отнюдь не элементарны, а представляют собой комбинации тех же противоположностей. В этом смысле между стихиями и качественно-определенными веществами (гомеомериями) нет принципиальной разницы.
Но как быть с приведенными выше свидетельствами Аристотеля, что стихии суть смеси всевозможных семян (или подобочастных)? Нам представляется, что между этими свидетельствами и, казалось бы, полностью отвергающей их гипотезой Таннери можно перебросить мостик. Нижеследующие соображения показывают, каким образом это следует сделать. Эти соображения вызваны не нашей склонностью к компромиссам, не стремлением примирить непримиримые точки зрения, а убеждением в том, что гипотеза Таннери заключает в себе некоторое рациональное зерно, соответствующее духу учения Анаксагора.
Стихии у Анаксагора действительно являются комбинациями теплого и холодного, сухого и влажного и других противоположностей – в этом отношении Таннери был безусловно прав. Ошибка его состояла в том, что он считал эти противоположности (качества, силы или как бы они еще ни назывались) единственно первичными и элементарными сущностями в теории Анаксагора. Но столь же первичными и элементарными сущностями были в этой теории и качественно-определенные вещества (аристотелевские подобочастные). И те и другие присутствуют в любой части вещества, в любом объеме пространства, как бы малы эта частица или этот объем ни были. Все они присутствуют и в огне, и в воздухе, и в любой другой стихии. Однако существует разница между частицей, скажем, мяса и (выражаясь условно) «частицей» огня. Частица мяса содержит в себе все противоположности и все качественно-определенные вещества. Кажется же она мясом потому, что «элементарное» мясо (мясо как существующая вещь) в этой частице преобладает над всеми ее прочими компонентами. В частице же огня преобладает не какое-либо из качественно-определенных веществ (типа мяса), а сочетание теплого, светлого, сухого и редкого; аналогичным образом в других стихиях преобладают иные сочетания соответствующих «сил». Но эти силы пространственно не обособлены от семян качественно-определенных веществ; они заключены в этих семенах, или, как писал Александр Афродисийский, «противоположности заключены в гомеомериях, так же как и все различия» (26, 271) (подобно всем доксографам поздней античности, Александр отождествляет семена с гомеомериями). Таким образом, стихии действительно являются «панспермиями» – в том смысле, что они представляют собой смеси всевозможных семян; отличаются же они друг от друга преобладанием определенных комбинаций сил или противоположностей.
Но можно ли говорить о семенах стихий? Можно ли сказать, что наряду с семенами мяса, крови и других подобочастных в любой вещи содержатся семена огня, воздуха и других стихий? В пользу такой точки зрения можно привести некоторые аргументы. Аристотель неоднократно называет стихии в числе подобочастных веществ; во всяком случае, хотя стихии и находились в его системе на другой, более низкой ступени иерархии материального мира, тем не менее они обладали свойством подобочастности наравне с подобочастными веществами в прямом смысле слова. Так, в одном месте «Метафизики» Аристотель пишет об учении Анаксагора: «…по его словам, почти все подобочастные предметы, являющиеся таковыми по образцу воды или огня, возникают и уничтожаются именно таким путем – только через соединение и разделение, а иначе не возникают и не уничтожаются, но пребывают вечно» (Мет. А 3, 983в 31–984в 13).
Так же и у позднейших доксографов – у Лукреция, Симпликия и других, писавших об учении Анаксагора, – стихии зачастую оказывались в одном ряду с подобочастными типа мяса, крови и золота. Значит ли это, что такова была точка зрения самого Анаксагора? Или они делали это под воз действием приведенной цитаты из «Метафизики»?
Второе предположение представляется нам более правдоподобным. Сам Анаксагор, видимо, по этому вопросу прямо не высказывался, тем не менее в его фрагментах можно найти указания на то, что в первичной смеси, да и на позднейших стадиях космообразования, стихии не были раздроблены на мельчайшие, невидимые глазу семена и занимали более значительные области пространства, включавшие бесчисленные множества всевозможных семян.
Так, в первом фрагменте (а следовательно, в самом начале сочинения Анаксагора) мы читаем следующее: «И когда все [вещи] были вместе, ничто не было различимо из-за малости, потому что все наполнял эфир и воздух, оба беспредельные: ведь в общей совокупности они самые большие как по количеству, так и по величине».
Глагол «наполнял» (kateichen) в этом отрывке можно заменить другими русскими словами: «охватывал», «подавлял», «покрывал», «сдерживал». Все они указывали на преобладание эфира и воздуха, в силу которого прочие вещества не были различимы. И тот и другой были «беспредельны» (apeira); это прилагательное, возможно, не только было количественной характеристикой названных стихий, но и служило указанием на их бесформенность, на отсутствие у них внутренних членений, границ. Первичная смесь была прежде всего смесью двух бесформенных стихий – эфир и воздуха, которые, в свою очередь, представляли собою смеси всевозможных семян.
Эфир и воздух играли в космогонии Анаксагора особо важную роль по сравнению с другими стихиями. Оба они преобладали в первичной смеси. Начальный период космообразования выражался в разделении первичной смеси на две большие области – периферийную эфирную оболочку и центральную воздушную сферу, «потому что воздух и эфир отделяются от массы окружающего, и это окружающее беспредельно по количеству» (фр. 2). Окружающее (periechon) – это первичная смесь, еще не затронутая отделением, происходящим под действием космического круговращения. В дальнейшем в воздушной сфере происходит уплотнение ядра, состоящее из земли.
«Плотное, влажное, холодное и темное собралось там, где теперь Земля; редкое же теплое и сухое ушло в дали эфира» (фр. 15). Земля – третья стихия, упоминаемая Анаксагором. В четвертом фрагменте указывается, что в первичной смеси наряду с противоположностями влажного и сухого и т. д. и множеством семян, ни в чем не похожих друг на друга, содержалось также большое количество земли. Таким образом, земля как стихия присутствует в смеси в качестве одного из ее изначальных компонентов; однако в силу количественного преобладания эфира и воздуха она, по-видимому, там «не была различима». Воду в составе первичной смеси Анаксагор ни разу не упоминает. Надо полагать, что в качестве четырех четко выделенных сущностей стихии вообще не фигурировали в его сочинении. Так, в одном из фрагментов, где говорится о последовательном выделении стихий, мы находим упоминание облаков и камней наряду с водой и землей: «Из этих выделяющихся масс (эфира и воздуха. – И. Р.) сгущается земля. А именно, из облаков выделяется вода, из воды же – земля, из земли же сгущаются камни от действия холода…» (фр. 16).
На этом мы закончим рассмотрение проблемы стихий в учении Анаксагора.
Глава V
Разум и организация космоса
В двух предыдущих главах, посвященных изложению теории материи Анаксагора, мы ни разу не вспомнили о Разуме («нусе»), сыгравшем решающую роль в возбуждении процесса космообразования. Это было отнюдь не случайно. Судя по дошедшим до нас фрагментам, в той части книги Анаксагора, где излагались его соображения о первичной смеси, характеризовался ее состав, вводилось понятие «существующих вещей», внедрялись в сознание читателей (или слушателей) положения, обозначенные нами как принципы «сохранения материи», «универсальной смеси», «преобладания» – о Разуме речи еще не было. Лишь после всего этого Анаксагор переходил к описанию процесса космического круговращения и указывал на причину этого процесса, т. е. на Разум. Та часть книги Анаксагора, где говорится о Разуме, в основном, по-видимому, до нас дошла – это прежде всего обширный двенадцатый и примыкающие к нему одиннадцатый, тринадцатый и четырнадцатый фрагменты. Любопытно, что стиль анаксагоровского изложения здесь существенным образом меняется, становясь торжественным, почти гимноподобным, а Разум награждается всеми теми эпитетами и характеристиками, которые до нашего времени служат камнем преткновения для историков философии.
То обстоятельство, что в ходе изложения своей теории материи Анаксагор не счел нужным что-либо сказать о Разуме, лишний раз подтверждает мнение, высказывавшееся многими исследователями, что он не рассматривал Разум в качестве одного из материальных ингредиентов вселенной. Эпитеты «легчайший» («тончайший») и «чистейший», которыми характеризуется Разум в двенадцатом фрагменте, следует понимать не буквально, а скорее в метафорическом смысле. Они отнюдь не означают, что Разум был помещен философом в ряд вещей, обладающих различными степенями тяжести и чистоты. Наоборот, в соответствии с архаичной логикой досократиков эти характеристики имели своей целью противопоставить Разум всему вещественному, что подчинено закону универсальной смеси. Разум относится к особого рода бытию, существенно отличному от чувственно воспринимаемых предметов, – вероятно, это хотел сказать Анаксагор, называя его тончайшим и чистейшим из всех вещей.
С другой стороны, мы не можем согласиться с теми учеными, которые усматривают в Разуме Анаксагора исторически первую попытку ввести в философию понятие духовного начала, божественного, творческого сознания. Эта точка зрения, восходящая к раннехристианским интерпретациям учения Анаксагора, основана на явном анахронизме. В эпоху досократиков греческое мышление еще не знало таких понятий, как дух (в смысле принципиальной противоположности материи), сознание или воля. Но если это так, то естественно возникает вопрос: почему Анаксагор выбрал для этого, по-видимому, важнейшего понятия своей космогонической концепции именно такое наименование? Следует, однако, учесть, что русское слово «разум» («ум») – так же как английское Mind или немецкое Geist – может служить лишь весьма приближенным эквивалентом греческого термина пойм, о значении которого в эпоху ранней античности у нас еще пойдет речь несколько ниже. Бесспорно, что какие-то аспекты сознательной деятельности присущи Разуму Анаксагора – об этом свидетельствует, в частности, та фраза, в которой говорится, что «и соединявшееся, и отделявшееся, и разделявшееся – все это знал (может быть, „определил“? – И. Р.) Разум» (фр. 12).
Не следует ли на основании всего сказанного заключить, что Разум Анаксагора был нерасчлененным, синкретичным понятием, в котором аспекты материальности, вещественности были слиты с еще не обособившимися аспектами духовности, сознательности? Момент первобытного синкретизма здесь, конечно, наличествует, однако сводить дело только к нему нам представляется неправильным. Чтобы прийти к более или менее окончательному решению этого трудного вопроса, важно учесть основные смысловые оттенки, которые были присущи термину «нус» в эпоху Анаксагора.
Современный немецкий исследователь К. Фритц детально рассмотрел этот вопрос в серии статей, посвященных эволюции значений глагола noein и производного от него существительного nous в поэмах Гомера, в сочинениях философов-досократиков (за исключением Анаксагора), у Анаксагора (см. 46). Результаты его рассмотрения могут быть вкратце резюмированы следующим образом.
В своем первоначальном значении глагол noein имел какую-то связь с представлением об обонянии и был близок русским глаголам «обнюхивать» или «чуять». Но уже в греческом эпосе это исходное значение претерпело существенную эволюцию, причем слова noein и nous стали служить для обозначения способности уяснять (схватывать, оценивать) данную конкретную ситуацию и предвидеть следствия, которые могут из нее проистечь. У Гомера эта способность еще целиком находится на уровне интуиции.
Интересно, однако, что и у ранних досократиков – Ксенофана, Гераклита, Парменида – глагол noein и существительное nous сохраняют тот же оттенок интуитивного постижения и предвидения (правда, у Парменида появляется еще другое производное от того же корня – noema, которое по-русски нельзя передать иначе, как «мысль»). По мнению Фритца, именно этот оттенок побудил Анаксагора обозначить основную движущую силу процесса космообразования антропоморфным термином nous (Разум). Вызывая круговращение первичной смеси, Разум как бы предвидит те последствия, которые из этого круговращения проистекут. Эти последствия – постепенное «устроение» (diakosmein) космоса, повышение степени его упорядоченности и организованности, ибо, «как должно быть в будущем, и как было то, чего теперь нет, и как есть – все устроил Разум, а также то вращение, которое теперь совершают звезды, Солнце и Луна, а также отделившиеся воздух и эфир» (фр. 12).
Выбор наименования, разумеется, не полностью определяет содержание самого понятия. У Эмпедокла две космические силы, от которых зависит эволюция мироздания, названы Любовью и Враждой, однако мы не можем отождествлять их с одноименными человеческими эмоциями. То же самое относится и к Разуму Анаксагора. Его наименование отражает лишь некоторый аспект, позволяющий уподобить основную функцию этого космического агента человеческой способности постижения и предвидения. Деятельность Разума выражается в том, что он определяет эволюцию космоса в направлении все большей его организации. Но он организует космос не потому, что вмешивается в процесс космообразования, направляя его согласно своей воле Он это делает, сообщая первичной смеси мощное вращательное движение и тем самым позволяя проявиться объективным закономерностям, присущим миру вещей. Все развитие космоса как бы запрограммировано в «первичном толчке», сообщаемом Разумом инертной материи. Не обладая адекватной терминологией, Анаксагор, описывая деятельность Разума, естественно пользовался характеристиками, имевшими налет антропоморфизма («знал» или «определил», «устроил» и т. д.).
Если Разум и можно уподобить сознательно действующему божеству, то только в отношении выбора момента времени для начала космообразования. Действительно, почему Разум осуществил свой «первичный толчок» именно тогда-то, а не на несколько миллионов лет раньше или позже? И что он вообще делал до этого? Эти вопросы задавались еще античными комментаторами, причем по этому поводу высказывались различные мнения. То ли Анаксагор писал о начале мира лишь в дидактических целях, а на самом деле он считал мир существующим вечно, то ли, подобно Платону, он полагал, что само время возникло вместе с миром.
Решение этой загадки, как нам кажется, можно найти в тексте сочинения самого Анаксагора, где имеется любопытное место, с давних пор привлекавшее внимание исследователей. Процитируем его целиком: «Если все обстоит таким образом, то следует полагать, что во всех соединениях содержится многое и разнообразное, в том числе и семена всех вещей, обладающие всевозможными формами, цветами, вкусами и запахами. И люди были составлены, и другие живые существа, которые имеют душу. И у этих людей, как у нас, имеются населенные города и искусно выполненные творения, и есть у них Солнце, Луна и прочие светила, как у нас, и земля у них порождает многое и разнообразное, из чего наиболее полезное они сносят в дома и употребляют в пищу. Это вот сказано мной об отделении, потому что не только у нас стало бы отделяться, но и в другом месте» (фр. 4).
Несомненно, что в этом отрывке говорится о возникновении мира, но не того мира, в котором мы живем, а какого-то другого. Но какого именно? Является ли этот другой мир частью единого космоса или же здесь речь идет о совсем ином процессе космообразования? И если справедлива вторая альтернатива, то как быть со свидетельствами доксографов, что Анаксагор наряду с Гераклитом, Эмпедоклом, Платоном, Аристотелем и другими мыслителями признавал существование лишь одного космоса? И что означает термин «соединения» (sygkrinomena), фигурирующий в начале отрывка? Различные исследователи предлагали различные интерпретации этого отрывка; если проанализировать все эти интерпретации, то их можно будет свести к следующим основным вариантам.
Анаксагор имеет здесь в виду какой-то другой участок поверхности, часть премии, которую мы не знаем. Эта интерпретация представляется маловероятной до ряду соображений. В частности, когда Анаксагор пишет об отделении и о том, что «не только у нас стало бы отделяться, но и в другом месте», то под термином «отделение» он, несомненно, понимает действие космического вихря в целом, процесс космообразования, включающий в себя и образование Земли – всей Земли, а не какой-либо ее части, Если космический вихрь мог бы возникнуть «в другом месте», то там же возникла бы и другая Земля. Как правильно заметил античный комментатор Аристотеля Симпликий, Анаксагор и сказал «Солнце и Луна у них те же, что и у нас», но «есть у них Солнце и Луна, как у нас», как бы говоря о других Солнце и Луне.
Во второй главе мы указывали, что, согласно некоторым свидетельствам, Анаксагор считал Луну обитаемой. В связи с этим уже давно было высказано предположение (к которому присоединился, в частности, известный историк античной философии Э. Целлер (см. 78), что именно о Луне идет речь в приведенном отрывке. Против этой интерпретации можно выставить те же возражения, что и против предыдущей, тем более что фраза «Есть у них Солнце, Луна и прочие светила, как у нас» становится в данном случае просто бессмысленной.
Симпликий высказал догадку, что в этом отрывке Анаксагор имел в виду не чувственно воспринимаемый, а идеальный, умопостигаемый мир. Это объяснение было вполне в духе неоплатонизма, к которому примыкал Симпликий, но в применении к Анаксагору оно являлось чистым анахронизмом.
Ряд историков философии, к которым относились, в частности, Дж. Бернет (37) и Р. Мондольфо (58), ссылались на приведенный отрывок как на доказательство того, что Анаксагор (вопреки свидетельствам доксографов) допускал одновременное существование многих миров. Как мы увидим ниже, эту гипотезу можно принять, но не в слишком категорической форме. Ведь и сам Анаксагор в последней фразе обсуждаемого отрывка пользуется условным наклонением (оптативом), как бы указывая лишь на возможность образования других миров.
Наиболее своеобразная интерпретация учения Анаксагора была высказана некоторыми исследователями (к числу которых принадлежал и наш соотечественник С. Я. Лурье (см. 23, 90), опиравшимися как на рассматриваемый отрывок, так и на общие положения анаксагоровской теории материи (в частности, на положение об относительности большого и малого). Согласно этой интерпретации, в любой пылинке, в любой сколь угодно малой частичке вещества Анаксагор допускал возможность возникновения самостоятельного, хотя и невидимого нами вихря, приводящего к образованию другого космоса (микрокосмоса) с Землей и небесными светилами, с растениями, животными и людьми, но только на ином уровне малости. Таких уровней малости может быть бесконечно много, причем на каждом из этих уровней образуются бесчисленные одновременно существующие миры. В свою очередь наш космос представляет собой, возможно, лишь пылинку в некоем космосе более высокого порядка. Каждый космос определяется Анаксагором как гомеомерия – в том смысле, что он есть лишь частичка какого-то целого, во всех отношениях подобная этому целому; с другой стороны любой космос состоит из бесконечного числа микрокосмосов, из которых каждый является его подобием.